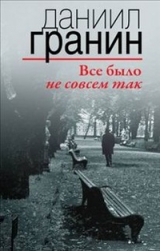
Текст книги "Все было не совсем так"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Марина
Вдруг я обнаружил, что моя дочь куда умнее меня, куда более толкова, дальновидна. Наверное, это уже было давно, не замечал, потому как привык считать ее маленькой. Со школьных лет она стала бороться за свою личность. Ей не нравилось, что ее считали дочерью известного писателя. Учительница (дура) сказала ей: “Что ты себе позволяешь, а еще дочь инженера человеческих душ”.
Она выбиралась из моей тени разными способами. Например – не читала моих книг. Никогда не обсуждала со мной мои статьи, выступления. Это не было отчуждением. Чуть что – она яростно защищала меня, в ее любви я не сомневался, но ей надо было стать Мариной Герман, потом Мариной Чернышевой, иметь свою, отдельную репутацию, свой облик. Всего добивалась своими силами, своим умом. Показывала себе, мне и всем, чего она сама стоит. Моим именем старалась не пользоваться. Узнавали, что она дочь Гранина, случайно. Не от нее. Наверное, я не столько помогал ей, сколько мешал, но она никогда не жаловалась. Примерно тот же путь прошел и внук. Мы понятия не имеем, как тяжело нашим детям добывать себя.
* * *
Научное познание не знает, к чему придет, что там, на вершине, куда оно стремится. Вот почему для человечества ныне важнее, чем открытие новых и новых научных истин, стремление познать, как нравственно улучшить человека, поднять его душу.
* * *
Сегодня мы уже не можем просто повторять жизнь своих предков, тем более нашего поколения. Мы, советские люди, были без инициативы. Все решения принимали за нас – от правительства до парткома. Президиум каждого собрания и то нам не доверяли избрать. Преподносили список. Все было расписано. Мы были статисты. Все газеты, все каналы сообщали единое мнение. Политические обозреватели сходились в своих оценках. Везде царило единодушие, единомыслие. Самостоятельно думать не нужно. Оставалось немногое – сообразить, где чего достать, или изловчиться так, чтобы мне, моей семье было лучше.
* * *
Тимофеев-Ресовский только перед смертью признался своему сотруднику Шнолю, что открытие, связанное с радиационной генетикой, принадлежит ему, а не Кольцову, хотя всегда приписывал это Кольцову. Так же, как Кольцов приписывал открытие матричной репродукции Коллю.
Оба они таким образом отдавали свое своим учителям.
* * *
Ко мне обратились мои однополчане по 42-й армии:
– Как это так, блокадников приравняли к нам, фронтовикам, к тем, кто воевал, все же есть разница.
Чувства их были понятны, но, подумав, я сказал им:
– Воевали мы плохо, а блокадники держались хорошо.
* * *
Открытию, связанному с кровью, как кровь доставляется к пораженному участку, академик Ю. Овчинников не дал хода, как рассказывали мне его сотрудники – затормозил. Все потому, что его не присоединили, не сделали соавтором. Те не уступали из принципа. Тогда у одного из упрямцев четыре раза делали обыск, искали спирт, якобы похищенный из лаборатории. Не нашли. Дотравили до того, что он повесился. На то и был расчет. Второго исключили из партии. Сам Овчинников, директор Института, заболел, умирал, но все равно ходу работе по крови не давал до самой своей смерти.
В результате работа, нужная медицине, была заторможена, и надолго, и все трое участников схватки пострадали.
* * *
Детство было самой счастливой порой моей жизни. Не потому, что дальше было хуже. И за следующие годы благодарю судьбу, и там было много хорошего. Но детство отличалось от всей остальной жизни тем, что тогда мир казался мне устроенным для меня, я был радостью для отца и матери, я был не для кого, не было еще чувства долга, не было обязанностей, ну сопли подобрать, ну спать лечь. Детство безответственно. Это потом стали появляться обязанности по дому. Сходи. Принеси. Помой… Появилась школа, уроки, появились часы, время.
Я жил среди муравьев, травы, ягод, гусей. Я мог лежать в поле, лететь среди облаков, бежать неизвестно куда, просто мчаться, быть паровозом, автомобилем, конем. Мог заговорить с любым взрослым. Это было царство свободы. Не только наружной, но и внутренней. Я мог часами смотреть с моста в воду. Что я там видел? Подолгу простаивал в тире. Волшебным зрелищем была кузня.
Любил в детстве часами лежать на теплых бревнах плота, смотреть в воду, как играют там в рыжеватой глубине, поблескивают уклейки.
Повернешься на спину, в небе плывут облака, а кажется, что плывет мой плот. Под бревнами журчит вода, куда плывет – конечно, в дальние страны, там пальмы, пустыни, верблюды. В детских странах не было небоскребов, автострад, была страна Фенимора Купера, иногда Джека Лондона – у него снежные, метельные, морозные.
Детство – это черный хлеб, теплый, пахучий, такого потом не было, он там остался, это зеленый горох, это трава под босыми ногами, это пироги с морковкой, ржаные, с картошкой, это домашний квас. Куда исчезает еда нашего детства? И почему она обязательно исчезает? Маковки, постный сахар, пшенная каша с тыквой…
Столько было разного счастливого, веселого… Детство остается главным
и с годами хорошеет. Я ведь там тоже плакал, был несчастен. К счастью, это начисто забылось, осталась только прелесть той жизни. Именно жизни. Не было ни любви, ни славы, ни путешествий, ни секса, только жизнь, чистое ощущение восторга своим существованием под этим небом. Еще не осознана была ценность дружбы или счастье иметь родителей, все это позже, позже,
а там, на плоту, только я, небо, река, сладкие туманные грезы…
* * *
Рассказывал нам сын немецкого лейтенанта про своего отчима, как тот уходил на войну, как чванился, хвалился, обещал войну молниеносную, трофеи, презирал русских. Приехав в отпуск, рассказывал, какие они дикари, как бегут, как давим их танками и машинами, что всех их надо перебить. А после 1945 года стоял в очереди за супом. Вернулся из армии озлобленный, трусливый, заискивает перед всеми, врет, русскому офицеру доказывает, что всегда ненавидел Гитлера, не знал ничего о лагерях, у него друзья евреи, что он не убил ни одного русского.
* * *
Цивилизация XXI века включила четвертую скорость. Врачи лечат больных по телевидению. На концертах певцы давно уже не поют, они открывают рты, за них работает качественная запись. В газетах журналисты выступают исключительно с заказными статьями. Энциклопедии дома не нужны, есть Интернет. Стихи не нужны потому, что не содержат информации. Свидания по Интернету. Знакомства – по нему. Секс тоже иногда хорошо получается по нему. Покупки – по Интернету.
* * *
Пришел к Юрию Павловичу Герману через несколько часов после его смерти. Его жена Таня сидела, почерневшая от горя. Рядом Иосиф Хейфец, Саша Хазин, Юлий Рест. Шел какой-то нелепый разговор. Д. Данин рассказывал, что он собирает этикетки от жевательной резинки. Я подумал: а о чем надо говорить? Хорошо, что говорят о глупостях. Любые слова – не те.
* * *
Дарвинисты теперь выступают как реакционеры. Материализм стал оплотом невежества. В своей борьбе с религией дарвинисты-атеисты выглядят беспомощно.
* * *
В магазине:
– Позвольте узнать…
– Короче, папаша.
* * *
Полковник Лебединский считал, что ополченцы, то есть добровольцы, – лучшие воины, они могут сокрушить любую армию, они созданы для наступательных действий. И он предпринял несколько вылазок, сумел нащупать слабый стык в наступающих немецких дивизиях, вклиниться туда, и немцы на участке Александровки отступили. Впервые я увидел бегущих от нас немцев.
Лебединскому было за сорок. Остролицый, в очках, лицо смуглое, голос дребезжащий, неприятно жестяной, облик человека сухого, академического. Располагал он к себе ясностью своих указаний. То, что он предлагал, было понятно всем, его решения были просты, очевидны, ни у кого не вызывали сомнений.
Две недели в начале сентября немцы атаковали наши позиции… Две первые атаки мы отразили и отошли к Пушкину. У нас остался один танк КВ из приданных нам. Он стоял на окраине парка, бил по немцам из пушки, передвигался то к прудам, то от них, чтобы его не засекли.
Появился Лебединский со своим адъютантом. Он что-то растолковал танкистам и отправился обратно, в этот момент ударил снаряд, ударил в липу, которая с треском повалилась на командира. Когда мы вытащили его из-под дерева, у него оказалась вывихнута нога. Или сломана. Адъютанта тоже стукнуло по голове, тем не менее он подхватил полковника с одного бока, я – с другого, мы повели его к медикам. По дороге Лебединский давал указания адъютанту – что, где, кому делать. Среди невнятицы боя он, оказывается, представлял, что творится во всех ротах полка, кому надо помочь, кого надо поддержать огнем наших нескольких батарей.
Полководец, которого увозят с поля боя оттого, что вывихнута нога, – выглядело несерьезно. Но полковник был весь в поту от боли. Медики взялись за него, адъютанта тоже оставили у себя, потому что у него кружилась голова и тошнило, он не мог ходить. Лебединский отправил меня на КП к начальнику штаба передать распоряжения. Когда я появился на КП, там никого не было, кроме комиссара полка. Начальник штаба ушел в роту. Там его ранило. Комиссар не стал меня слушать, что-то пробормотав, исчез. Короче говоря, я остался один со связистами. Я позвонил Саше Михайлову, он был начальником политотдела дивизии. Сашу я знал по отделу главного энергетика. Мы с ним оба ухаживали за одной чертежницей, Зоей Кухарчук. Саша сказал, что постарается кого-то прислать из командиров, пока что я остаюсь за начальство на связи.
Это “пока что” продолжалось двое с лишним суток.
Всякое со мною бывало на войне, но об этих часах и минутах я старался никогда не вспоминать. Фактически я командовал полком. Какие-то распоряжения Лебединского я помнил, но обстановка менялась быстро. Командиры рот что-то докладывали, требовали, я от имени Лебединского то соглашался, то отказывал, но что творится там, на переднем крае, как взаимодействуют командиры, я понятия не имел. Связь с дивизией поминутно прерывалась. Я снова звонил Михайлову, тот напоминал мне про Аркадия Гайдара, в восемнадцать лет командовал полком. “А ты байбак…” – и дальше следовала моя характеристика, вряд ли стоит ее приводить.
В 1971 году я прочитал в газете “Кировец” статью о том, как я командовал полком. Написал ее Писаревский, добросовестный журналист, который занимался историей Ленинградского ополчения. Не знаю, какими материалами он пользовался. В статье ничего не говорится о моих промахах. Можно подумать, что все выглядело вполне достойно. На самом же деле…
С передовой все настойчивее требовали поддержки, куда двигаться, следует ли ударить во фланг, обороняться дальше невозможно, отсекут, уничтожат. Где, какая рота, я плохо представлял. Я что-то орал, кому-то грозил, обещал, что вот-вот… единственная мысль, которая удерживалась в моей опухшей голове, – нельзя отсиживаться, все бойцы, которые толпятся на КП, – отсиживаются. Время от времени я выбегал наружу и гнал всех на “передок”, в роты. Какая-то команда сидела на траве, курила. Кто такие? Минометчики. Почему не стреляете? Мин не подвезли. А, отсиживаетесь! И я отправил их всех во вторую роту, которая просила помощи. Через полчаса докладывают, что мины доставили. Минометчиков нет, стрелять некому. Увидел писателей. Был у нас такой взвод писателей. Где командир? Командир в политотделе дивизии, получает задание. А, отсиживаетесь! Вызвал молодого рослого, в очках. Кто такой? Поэт Лившиц. Назначаю вас командиром, выстроить взвод и на передовую!
В распоряжение командира первой роты, помочь эвакуировать раненых. Поэт Лившиц пытается мне объяснить, что он не умеет командовать, что их командир Семенов вот-вот вернется. А, отсиживаетесь! Я вытащил пистолет и направил на него. Построить взвод и шагом марш!
Сколько таких командиров потом встречал, которые не слушали никаких доводов, могли только размахивать наганом и орать.
Лившиц не испугался, да и никто не испугался, они усмехались над моей запальчивостью, над глупостью, которую я совершал, тем не менее отступить я не мог, и они понимали это.
– Потом будете писать, сейчас надо воевать. – Такова была напутственная речь, с какой я отправил их на передовую.
Голосом мучительно застенчивым Лившиц подал команду “Шагом марш!”. За всю войну я не встречал так предельно не подходящего для командирской должности человека.
Взвод не взвод, скорее, гурьба пожилых сутулых мужчин, кряхтя, переговариваясь, обреченно двинулись к дороге. К концу дня выяснилось, что ими удалось вовремя усилить разбитый центр.
Спустя двадцать лет меня, начинающего писателя, представили поэту Владимиру Лившицу. Я до этого читал его стихи, никак не сопоставляя его с тем Лившицем.
Он узнал меня, и я узнал его. Ничего он не сказал, отвернулся. Мне было бы легче, если бы он был плохой поэт, но он был неплохой поэт, и стихи его мне нравились. Теперь я был без нагана, и я ничего не представлял из себя. Невозможно было подумать, как я мог орать на этого человека. В толстых очках, с добрым застенчивым лицом, он идеально не подходил на роль командира. Как он их выстроил, куда он повел этот взвод? Об этом я никогда его не спрашивал. Потом мы подружились, но чувство вины перед ним
у меня навсегда осталось.
Вскоре я разослал всех, кто был возле КП, оставил там только двух связистов и, взяв с собою старшину из хозчасти, прихватив винтовку, отправился на передовую, ибо больше командовать было некем.
Было удовольствие, недолгое удовольствие ощутить себя просто солдатом, ползать от укрытия к укрытию, стрелять.
Плохо, что мы все знали друг друга. У трансформаторной будки я наткнулся на Казанцева, мы не ладили еще на заводе, ему не нравились терморегуляторы, которые мы устанавливали в его цеху.
– Полюбуйся, – сказал он санитарке, – кто у нас командир. Довоевались!
– Отправляйся на КП и действуй вместо меня, – сказал я.
Он сидел на земле, прислонясь к бетонной стенке, лицо его было серое, как тот бетон. Он закрыл глаза, потом открыл, посмотрел на меня с отвращением.
– Сделай хоть что-то… прикажи всем отходить ко дворцу… В сторону Камероновой галереи. Мы больше не продержимся.
Он говорил. Я выполнял. С пулеметчиками связи не было, я пошел к ним, передал распоряжение саперам, вторую роту я отвел под правое крыло дворца. Надо было выставить боевое охранение, разместить заново КП, сообщить
в штаб дивизии… Оттуда появился какой-то представитель, брать командование на себя он отказывался, что-то советовал, но больше молча неодобрительно мотал головой.
Любовь
Любовь хороша тем, что позволяет отдать сердечные силы другому. Через это ощутить себя, те залежи добра, заботливости, какие скопились. Можно осуществить лучший вариант своей натуры. Была у меня одна знакомая, вздорная ядовитая особа, злая на весь мир. Мужа ее разбил паралич. Она самоотверженно ухаживала за ним. У его постели преображалась, светясь заботливостью, нежностью. Так продолжалось долго. Оказывается, имелась в ней такая женщина, неизвестная нам. Вне дома по-прежнему была неприятна. Но теперь, когда я знал другую, я этой все прощал.
* * *
И все-таки, что же это было?
16 сентября 1941 года четыре танковые группы получили приказ немедленно остановиться и не занимать Ленинград. Генерал Рейнхард, командуя мотоармейским корпусом, снова докладывает, что никто не мешает ему войти в город.
Он недоумевает, возмущается, как это может быть, “я не вижу причин, не желаю этого понимать!” Он криком кричит: “Если мы не войдем, мы упустим единственный шанс, мы никогда не возьмем Ленинград!”
Что произошло в Генеральном штабе, почему появился такой приказ Гитлера, какими соображениями он и его окружение руководствовались? Что-то ведь случилось, что в самый последний момент заставило остановить завершение всей операции. Как солдат, еще больше как офицер, я понимаю досаду, возмущение немецких командиров – добрались до цели, выиграли все сражения по пути, понесли немалые потери – и вот наконец уже все – открылись купола, башни города. Он виден весь, на ладони, противник отступил в панике, ворота открыты, входи. Нет! Стоп! Почему? Стоять, и все тут. Выглядит невероятно.
До того действия немецких войск считались “нормальным военным ремеслом”, начиная же с 16 сентября Гитлер приступает к политике уничтожения. Вермахт невольно становится пособником этого преступления, бесчеловечного уничтожения гражданского населения огромного европейского города. Ни
о каком рыцарском поведении немецкой армии речи быть не может, она запятнала себя чисто людоедским актом, истребляя горожан голодом, снарядами, бомбежкой. Подряд, изо дня в день, месяц за месяцем.
В ноябре 1941 года Гитлер на торжественном заседании в Берлине уже открыто признает, что он приказал взять город измором.
До этого, как утверждали немецкие историки, армия пыталась и не могла взять город.
Мне же запомнилось, что на всем протяжении блокады после сентября 1941 года, в 1942—1943 годах немцы не предпринимали никаких серьезных попыток наступления.
7 октября 1941 года вновь Йодль издает директиву верховного командования вермахта, где говорится:
“Фюрер вновь (курсив мой. – Д. Г.) принял решение не принимать капитуляции Ленинграда, как позднее Москвы (курсив мой. – Д. Г.), даже в том случае, если таковая была бы предложена противником”.
Значит, не только Ленинград не брать, но и Москву? Читатель Марк Медведев пишет мне: “…всегда говорится о блокаде Ленинграда, никогда об осаде”.
Маршал артиллерии Василий Казаков говорил в своем выступлении: “Я окончил две военные академии. Но я не понимаю, почему немцы не взяли Москву. Наших войск в октябре под Москвой практически не было. Оборона не существовала. Говорят, что Сталин оставался в Москве. Не верю. Немецкие танки были в Химках. Это по прямой 16 км до Кремля. Но они дальше не пошли. Не понимаю, хоть убей”.
* * *
На производственном совещании она выступила и заявила, что называть новый сорт именем Хрущева не стоит, он сам выступал против культа, зачем же нам опять создавать культ. Стали спорить, переругались. Назавтра сообщение – Хрущева сняли. Ее вызвали в дирекцию, осторожно выясняют – значит, она информирована. Откуда? Она посмеивается. Ничего от нее не добились. Выдвинули. Повысили. И пошла она в гору.
* * *
Энгельс, стоя на страже материализма, осуждал Ньютона за его постулат божественного первого толчка.
В Вестминстерском аббатстве, стоя у могилы Ньютона, я вспомнил, как нам в институте лектор с удовольствием цитировал Энгельса: “Ньютон – это индуктивный осел”. Что это за животные, мы не знали, но Энгельс был велик и неопровержим. А что такое Ньютон, его даже не было в Советской Исторической Энциклопедии. А в соборе на памятнике было начертано: “Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов… Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого”.
Неизвестный автор нашел правильное определение – разум божественный. В самом деле, заслуга Ньютона ни много ни мало состоит в том, что он открыл нам устройство мира. Разум для этого требовался воистину божественный. Недаром знаменитый английский поэт Поп писал:
Природы строй, ее закон
В извечной тьме таился,
И бог сказал: “Явись, Ньютон!”
И всюду свет разлился.
Открытие Ньютона всегда казалось непостижимым. До сих пор оно изумляет. Немудрено, что его озарения кажутся превыше человеческого разума, единственное, что приходит в голову, – они даны свыше, они божественного происхождения.
Александр Поп был современник Ньютона. Это интересно, современникам оценить значимость гения, его масштабы в истории науки, в искусстве нелегко, но его величие каким-то образом ощущается безошибочно. Так было с Моцартом, Бахом, так было с Пушкиным, недаром в некрологе о нем Жуковский написал: “Солнце русской поэзии закатилось”. Солнце, оно одно. Ньютон тоже был солнцем, недаром спустя 250 лет академик Вавилов считал, что без Ньютона наука развивалась бы иначе.
Рядом с Ньютоном были погребены и другие ученые: В. Томсон, Ч. Дарвин, Д. Максвелл, Уильям Гершель, Джон Гершель – все великие, замечательные, но не “божественные”.
Как-то мне пришлось читать небольшой курс лекций в Политехе и потом вести семинар. Один из студентов, отвечая, пояснял ньютоновский закон всемирного тяготения как простенькую модель – планеты ходят вокруг Солнца, как козы на привязи. Очевидная система. Помню, как раздражала его самоуверенность. Он снисходительно удивился, чего я так нахваливал Ньютона.
– На привязи, – сказал я. – А привязь где? Где веревка? Ее-то нет. Что же притягивает планеты к Солнцу? Тяготение – где оно? Чем оно действует?
Помню, как я навалился на этого парня, пусть объяснит, что есть тяготение, чем оно действует сквозь миллионы километров.
* * *
Кажется, в Ульяновске, в танковом училище, я услышал и запомнил: “Есть два рода офицеров, одни – перед которыми парадным строем идут солдатские сапоги, другие – перед которыми идут солдатские сердца”.
“Мои года – мое богатство”
Жизнь, прожитая моим поколением, испытала Великую Отечественную войну, а еще финскую, войны афганскую и чеченскую. И особую, “холодную”, весьма, между прочим, тяжкую войну. Она сопровождалась множеством кампаний. Борьба с преклонением перед Западом, борьба с космополитами, с абстракционистами, с формалистами в музыке. “Убийцы в белых халатах” – это кампания против врачей. Борьба с вейсманистами-морганистами. Все кампании так или иначе касались меня, родных, близких.
Мы захватили остатки “Большого террора”, это в школьные годы, а в зрелые хлебнули “Ленинградское дело”. Каждая кампания – это не идеологические споры, увы, это инфаркты. Выгоняли с работы, высылали. 1937, 1949—1950, 1951, 1952, 1953 годы – без перерыва, дата за датой. Скрывали, что отец священник, есть родственники за границей, спрашивали национальность, происхождение – кулаки, дворяне, фабриканты.
Уникальная по насыщенности была эта жизнь. События следовали одно за другим, и все исторические, все огромные, чего стоит распад Советской империи...
* * *
Норвегия. 2007 год. Поднимались на ледник. Идут в гору сотни людей. Старые, молодые. Нескончаемый поток с утра до темноты. Ледник старый-престарый. Позеленел от древности. Все здесь тысячелетнее, и водопады, и камни. Заботливые указатели… Но что меня поразило больше всего. Больше этих величественных гор, цепких кустов, фиордов. Поразили туалеты. Всюду, в каждом, безукоризненная чистота. Бумага, мыло, горячая вода. Публичный этот туалет сохраняется в абсолютной чистоте в течение всего дня, несмотря на тысячи посетителей. Каким образом это достигается, не знаю. Разноплеменные туалеты – показатель культуры и учрежденья и народа.
Кладбища и туалеты – два типичных для каждой страны объекта.
* * *
Искусство древних греков соблюдало две заповеди – “нужна прежде всего мера” и “ничего лишнего”.
* * *
У нас если не можешь сделать лучше – делай больше, выше, ярче. Наша архитектура жлобская и бизнес жлобский.
* * *
Памятник Рентгену, доска Эйлеру, улица Бармалеева, бывшая Халтурина, Малая Дворянская, Заячий остров и т. п. – это все следы той истории, которой нет в книгах.
* * *
Шпагой для дуэли он действовал лучше, чем мечом для битвы.
Мгновение
Его можно расширять, наполнять и наполнять, если вглядываться в него,
в то, что дает нам небо, река, ветка.
Каждое мгновение полно событий и смысла. Будущее не имеет этого, оно ненаблюдаемо, прошлое упущено, пропало, замечать можно только настоящее:
На мокрой ветке
Иволга щебечет,
И чайки плавают
У островка.
Цветы совсем поникли
В этот вечер,
И стала неспокойною
Река.
Седой старик —
Варю вино из проса.
Стучится дождь
У моего окна.
Я на судьбу
Не взглядываю косо:
В уединенье
Слава не нужна.
(Перевод А. Гитовича)
Писал это Ду Фу, один из двух величайших поэтов Китая. Второй был Ли Бо. Они жили в одно время, в 700—770 годы. Стихи Ду Фу вновь и вновь переводятся. Они предельно просты, поэтому так трудны для перевода и так значимы. Ни метафор, ни сравнений. Описание. Редкие звуки. Мир тот, что видит глаз, не больше нескольких предметов.
Одиночество. Покой. Все это видеть, слышать достаточно для полноты жизни. Даже в переводе из этого описания обыденных вещей вдруг каким-то непостижимым образом возникает поэзия. Поэзия, в которой ничего не может устареть, так же как не стареет дождь и пение иволги.
* * *
Из записей кинорежиссера И. Е. Хейфеца во время работы над сценарием по “Блокадной книге”.
“Обычное (смерть) не страшна, она – быт! Явь, как сон, а сон, как явь. Сны про хлеб, про буханки, которыми выложена улица… Дети-старики и старики, впавшие в детство. Привычная стеснительность, интуитивные отношения смещены, люди теряют ощущение пола, моются в общей бане, мочатся и испражняются на глазах друг друга.
Делят ломтик хлеба, и это длительный с подробностями, многозначительный ритуал, потому что значение этого ломтика равно значению жизни и смерти… Смерть, трупы, напротив того, обычны… Начинается самое многообещающее для фильма – все наоборот, сдвинутый с орбиты мир души. Мраморные статуи лежат, как тела мертвых, на снегу, рядом с упавшими людьми, такими же белыми и холодными, как эти статуи. У статуй по классической традиции слепые без зрачков глаза, приоткрытые рты. Кажется, они беззвучно зовут”.








