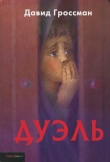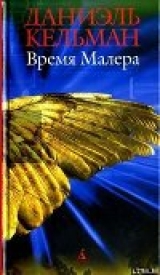
Текст книги "Время Малера"
Автор книги: Даниэль Кельман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
IV
– Ну и что? – удивился Марсель. – Бродяги умирают каждый день. Несчастные случаи происходят постоянно. Ты что себе думаешь? Возомнил себя великим, да?
Давид отставил чашку в сторону.
– Это открытие может сделать каждый.
– Но ты первый?
– Вроде того.
Давид осмотрелся. В столовой сидели несколько студентов и листали учебники, наполняя зал тихим бормотанием. Давиду никак не удавалось избавиться от чувства, будто люди постоянно на него оглядываются, следят и бросают заинтересованные взгляды. Но нет, это совершенно невозможно! Пахло кофе и моющими средствами. Марсель сидел спиной к окну, с сигаретой в руке. Дым поднимался кверху, завиваясь прозрачными клубами. Свет очерчивал контуры друга, превращая его лицо в темное овальное пятно.
– Сегодня утром я отправил записи Валентинову.
– Кому?
– Нобелевскому лауреату.
– Не знаю такого.
– Думаю, мне нужно самому к нему поехать, – сказал Давид.
– Тоже метишь на Нобелевку?
– Мои записи гораздо важнее.
– Ты уже неоднократно повторял это. Но не лучше ли сначала подождать, а потом…
– Катя сказала то же самое.
– Катя? – Марсель ухмыльнулся. – Кстати, что между вами? Вы наконец-то?…
– О господи! – воскликнул Давид. – Перестань молоть ерунду! Тебе объяснить или нет? Речь идет о Втором начале термодинамики. О законе времени. В любой замкнутой системе беспорядок или растет, или остается неизменным. Отсюда следует, что бардак на письменном столе возникает сам собой, но никогда сам собой не устраняется. Что газ рассеивается просто так, но никогда просто так не сгущается. Что Вселенная расширяется и охлаждается. Что нельзя построить вечный двигатель. Все во Вселенной развивается циклически – все, кроме одного. Второе начало объясняет направление всех происходящих на земле процессов. Это закон времени.
– Не понимаю, – сказал Марсель и протянул Давиду пачку сигарет.
– Нет, благодарю, мне нельзя. Вот смотри: теплое тело охлаждается само по себе. Но если хочешь его нагреть, требуется приток энергии извне. Другого способа нет. Чтобы навести порядок, нужна энергия, хаос же возникает сам собой; и в системе, как целом, нарастает беспорядок. Так гласит закон. Так он раньше гласил.
– А теперь нет?
– Видимо, нет. В известных условиях, при определенном излучении и применении четырех формул все может быть наоборот.
– Тогда теплые тела в твоей лаборатории будут самонагреваться, порядок на письменных столах самонаводиться, приборы заработают без остановки и…
– …и без сбоев.
– Но тогда наступит конец света.
– Не совсем, но мир изрядно изменится.
Марсель зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел на Давида.
– Продолжай!
– Для этого нужно несколько компонентов. Большое количество энергии, а ее способен выделять даже простенький реактор. Что-то вроде циклотрона. Мои четыре формулы… Поначалу результаты будут очень скромными. Как ты сказал: на одну лабораторию. Но впоследствии все пошло бы по прогрессирующей. Началось бы самопроизвольное развитие. Набирающее все большие обороты. Время бы… Это трудно описать… Время бы исчезло. Я могу объяснить это только математически.
Давид посмотрел на Марселя какими-то бесцветными глазами; тот непроизвольно отвел взгляд.
– Отменить Второе начало. Ты представляешь, что это может означать?
Где-то упал стакан и разбился, звук показался Давиду невероятно искаженным.
– Не хочу тебя обидеть, Давид, но все, о чем ты здесь говоришь, звучит довольно странно. Помнится, еще в школе тебя называли гением, а в четырнадцать лет ты изобрел этот чертов транзистор…
– Конденсатор…
– …Прекрасно, конденсатор, а как ты мне тогда в тунисской пустыне выдал, сколько на небе звезд, – ты же едва взглянул на него, старый трюк… Но вот это, теперь, по-моему, уже слишком! Даже для тебя.
Давид улыбнулся и заглянул в чашку. Черная жижа и коричневатая молочная слизь так и не перемешались, и он увидел дрожащее отражение своего лица. Осторожно взял чашку и отпил.
– Ну хорошо, – заключил Марсель. – В таком случае желаю тебе удачи! Во всем этом я все равно ничегошеньки не смыслю, я же тупой чинуха, который сидит в своем кабинете в ратуше. – Рука Марселя нервно дернулась, пепел отделился от сигареты и упал на стол, образовав между чашками серую горку. – Но советую тебе остерегаться, когда будешь говорить об этом! Честное слово, будь осторожен.
Марсель отодвинул стул и потушил сигарету. Потом наклонился вперед, облокотился обеими руками о стол и опустил голову.
– Тебе же хорошо известно, что в каждом университете мира, и этот не исключение, есть шкаф, где хранятся рукописи всяких сумасшедших, опровергающих теорию относительности или с великой теорией единства…
– Теорией великого объединения.
– Пусть так… другие выдумывают теорию великого объединения типов взаимодействий или еще какую-нибудь бредятину! Понимаешь?
– Да, – ответил Давид, – конечно. Получше тебя.
– Вот и славно. Мне нужно в контору. Я и так уже опоздал. Завтра мы подробнее…
Последние слова Марсель произнес уже на ходу. Кивнул Давиду, двустворчатые двери раскрылись и снова закрылись. Чашка с кофе так и осталась нетронутой.
Давид перевел взгляд на пепельницу. От недобитой сигареты еще поднимался вверх дымок: одинокая серая ниточка, словно проведенная карандашом линия на белом фоне окна. Давид подул, и через секунду ниточка искривилась, конец ее свернулся бесцветным клубком, медленно растворившимся в воздухе. Ниточка опять выпрямилась и неподвижно повисла. Бледнея, она постепенно угасла.
Еще утром Давид поинтересовался, когда принимает профессор Граувальд, чем немало удивил даже фрау Виммер: по собственному желанию к Граувальду никто не ходил. Давиду назначили аудиенцию. Сегодня в двенадцать. Значит, через час.
Он допил кофе, почувствовал легкое головокружение, встал и направился к выходу. Кто-то крикнул: «Привет!» Не будучи уверенным, что обращались к нему, Давид на всякий случай кивнул.
В коридоре он растерялся. Тот казался много длиннее обычного, четыре ребра стремительно сходились, перспектива едва заметно изменилась.
– Это ничего не значит! – тихо произнес Давид. Двое мужчин с портфелями в удивлении на него покосились.
– Нельзя волноваться. Очень важно сохранять спокойствие. Это понятно! – продолжал рассуждать Давид.
– Что вы сказали? – Фрау Эркель, преподаватель социологии, остановилась и посмотрела на него с подозрением.
– Простите?
– Я вас не поняла. О чем вы?
Давид отвернулся и побежал вверх по лестнице, звук его шагов глухо разносился по зданию, ступеньки потихоньку двигались навстречу, перила отвечали на прикосновение; на каждом этаже в окнах мелькало его собственное отражение, будто стоявшее на карауле. И вот долгожданный выход, дверь в кабинет.
– Все в порядке? – спросил Мор. – У тебя такой вид, словно ты всю ночь гулял.
Мор сидел, сцепив пальцы на затылке и положив ноги на стол. Давид, тяжело переводя дыхание, опустился на стул и осуждающе посмотрел на ботинки коллеги.
– Я провел ночь на скамейке в парке.
– Очень трогательно! – Мор поймал на себе взгляд Давида. – Извини! – Кряхтя, опустил ноги. – Сегодня было не просто сюда добраться, а? Тем более что главная улица перекрыта.
Давид взял листок бумаги и принялся рисовать фигуру в четырех плоскостях, попарно перекрещивающихся и образующих две прямые.
– Почему перекрыта?
– Автоцистерна попала в аварию.
Давид на секунду прервал свое занятие. Потом вернулся к рисунку. Две прямые пересеклись в одной точке, что означало переход двух измерений в одно, безразмерное пространство.
– Ты не смотрел новости? Впервые за много лет нас показывали по телевизору. Вчера после обеда перевернулась автоцистерна, все вытекло. Грунтовые воды заражены, теперь нужно прочищать канализацию. Горючее воспламенилось, водитель получил тяжелые ожоги. Он пока жив, но протянет, очевидно, недолго. Кроме него еще пятеро пострадавших. Я живу неподалеку! Ты ведь тоже, или?… Ты действительно ничего не заметил?
– Нет, – ответил Давид, – правда, ничего.
Он взял листок, скомкал его и бросил в мусорную корзину, но промахнулся. Мор захихикал. Бумажный шарик покатился по полу, стукнулся о стену и с шорохом развернулся.
– Вчера я прочитал за тебя вводную лекцию. Ты мой должник!
Давид не ответил.
– Ведь на самом деле ты не был болен?
Давид посмотрел на него:
– С чего ты взял?
– Не знаю, – ответил Мор, – просто подумал! Да, так о той аварии… Причины не выяснены. Кажется, водитель заснул, наркотики или вроде того… Во всяком случае, он утверждает, будто видел что-то в воздухе прямо перед машиной. Нечто удивительное; но наотрез отказывается описывать. У тебя что-нибудь болит? Батюшки мои, да что случилось?
Давид встал. Карандаш покатился по столу, достиг края и упал. Давид глазами следил за ним, но неожиданно потерял из виду, карандаш не долетел до пола; его вообще нигде не было.
Он сел. Стул под ним затрещал. Давид посмотрел на часы, четверть двенадцатого. Дома ему не хватило времени даже переодеться. Он в такой спешке засунул записи в конверт, что даже не сделал копий, да и к чему, собственно, ведь он все знает наизусть и никогда не забудет; потом вызвал посыльного, заполнил головоломный бланк и отправил конверт Борису Валентинову в университет. Это было очень дорого, зато очень быстро. К своему удивлению, он даже успел на трамвай, каждый день доставлявший его на работу. Потом встретился с Марселем, как и условились накануне.
Тут Давид заметил, что Мор, прищурившись, смотрит на него слишком серьезно. Это настораживало. Давид протер глаза и, сделав над собой усилие, улыбнулся.
– Что? – воскликнул он, может быть, слишком громко. – Ах да, нет. Нет! У меня ничего не болит. С чего вдруг?
V
– Я не опоздал?
– Опоздали. Присаживайтесь.
Профессор Граувальд сидел, как обычно, за письменным столом. Давид подумал, что, пожалуй, только в таком положении его и видел. Седые, как всегда нерасчесанные волосы стояли торчком и на фоне окна казались очень тонкими и прозрачными. Лицо напоминало картошку: круглые щеки, мясистый нос, крохотные, глубоко посаженные глазки и стеклянный взгляд. К этому прилагался черный костюм и широкий багровый галстук. За Граувальдом высился стеллаж с книгами в кожаных переплетах и с золотым тиснением на корешках; полное собрание «Граней физики». Дождь, не утихая, барабанил по стеклу, подтверждая неизменность настоящего.
– Если речь идет об исследовательском проекте, господин Малер, то на следующий год все средства уже…
– Нет, – перебил Давид, – речь о другом. Я хотел бы вам кое-что изложить.
– Вы же знаете, что личные просьбы…
– Это теория.
– Простите, как вы сказали?
– Теория. Я бы с удовольствием опубликовал ее в «Гранях». Но надо поторопиться.
Граувальд наморщил лоб.
– Следующие пять номеров уже расписаны. Да и остальные, я не думаю…
– Именно поэтому я хочу вам все объяснить. Мне кажется, вы найдете это достаточно важным. Мою теорию нужно обнародовать, понимаете, я не могу быть единственным, кому она известна, иначе… Пожалуйста, выслушайте меня!
Несколько мгновений Граувальд испытующе разглядывал Давида, потом кивнул, посмотрел на часы и протер глаза.
– Ну хорошо. Прошу вас. О чем речь.
Давид занервничал, руки его задрожали. Он перевел взгляд на свои широкие волосатые ладони с короткими пальчиками. Немного успокоился. Поправил очки.
Поначалу голос сипел, и пришлось несколько раз откашляться. Давид достал блокнот, открыл и принялся чертить. Похожие на каракули наброски, некоторые не получались, тогда листы вырывались, комкались и летели в сторону мусорной корзины. Потом отказалась писать ручка, Давид схватил со стола Граувальда другую. На стеллажах слабо вспыхивали названия книг. Там стояли две фотографии: на одной улыбающийся Граувальд за кафедрой держал грамоту, на другой он же пожимал руку Борису Валентинову. Но сейчас профессор неподвижно сидел здесь, подперев голову кулаками. Во рту у Давида пересохло; он бы с удовольствием попросил стакан воды. Ручка выскользнула из пальцев, упала на пол и покатилась. Он с трудом подавил желание нагнуться за ней и взял новую. Граувальд тихо посапывал, еще один листок был разорван, смят и отброшен. Давид перестал прислушиваться к своему голосу. Он почти забыл, что вообще говорил.
Мысли путались, ускользали, их никак не удавалось собрать; вместе с тем собственный голос долетал до слуха Давида, значит, рассуждения уводили его все дальше и дальше. И вдруг его охватило чувство нереальности происходящего, даже голова закружилась; и почудилось, что когда-то он уже сидел здесь или, по меньшей мере, уже видел себя сидящим здесь, что точно такая сцена уже проигрывалась и что вот-вот выяснится, когда это было, еще немного… Но картинка смешалась с другими, более ранними; существовавшая между ними связь казалась столь очевидной и закономерной и вот только сейчас по непонятным причинам не хотела обнажаться… Давид почувствовал, как его подхватили и вознесли наверх, все длилось несколько долгих секунд, пока память не восстановила картинку из прошлого.
Летний день давно прошедшего, неизвестно какого года, возможно, самое первое лето Давида. Мать на руках поднимает его вверх и передает отцу, потом его берет сестра – малыша держат по очереди. Сад, где все происходит, стерся из памяти – это лишь фон, а не часть воспоминаний. Сестра что-то говорит, Давид чувствует ее тепло – с тех самых пор он всегда вздрагивает, заслышав запах солнцезащитного крема. Малыш жмурится, пчелы низко жужжат, все расплывается в ярком свете.
О сестре сохранилось только это единственное воспоминание. Вскоре она пропала. Давид не видел как, хотя находился поблизости. Сидел в траве, на синем покрывале. За синий цвет он мог ручаться.
Тогда он как будто слышал крики. А может, это воображение со временем внесло несуществовавшие подробности. Сестра, как выяснилось позже, не кричала. Вопли могли принадлежать и очевидцам. Но настоящие или вымышленные, они отпечатались в памяти почему-то на синем фоне. Стрекоза балансировала на стебле травы, раскачиваясь туда-сюда, вверх и вниз. Потом взмахнула крылышками, вспорхнула и улетела. Словно занавес упал за сестрой, оставив по другую сторону яркий свет, аромат и пчелиный гул. Кто-то поднял Давида и быстро унес, и только много дней спустя мать рассказала ему приукрашенную и неправдоподобную версию того, что произошло.
VI
Правда выяснилась много позже и была не для детских ушей. Виной всему оказалась уборочная машина, огромная и желтая, начиненная вращающимися щетками и завывающим вытяжным устройством, и, судя по всему, – что произошло в точности, никто не знал – одна из щеток осторожно зацепила сестру и, приятно щекоча, потянула за собой (женщина, которая все видела, клялась, будто та улыбалась, исчезая в жерле машины), а когда дышать вдруг стало нечем и среди сплошной пыли и грохота исчезла всякая надежда на спасение, толстенная труба равнодушно проглотила девочку. На несколько секунд рычание мотора изменилось, словно он поперхнулся, но, справившись с помехой, затарахтел по-прежнему, как будто ничего не случилось. Только истошные крики людей заставили водителя заглушить двигатель, а когда контейнер опустили на землю и открыли, то в море желтых лепестков нашли голову, которая больше не принадлежала телу, и кроткое выражение лица на этой голове привело всех в замешательство.
Давид знал это лицо. В мельчайших подробностях. До сегодняшнего дня именно этот образ сестры являлся ему во сне. Являлся всегда совершенно отчетливо; сестра говорила с ним, посвящала в дела, очевидно, важные, суть которых, проснувшись, он тщетно пытался вспомнить, вынести на дневной свет, в сферу бодрствующего сознания. Каждый раз он видел только лицо, неестественно криво повернутую голову и шрам вокруг шеи. Словно после смерти людям доставались в нагрузку и их покалеченные тела, к которым приходилось как-то приспосабливаться.
Давид был необычным ребенком. Всякий раз, когда его приглашали на день рождения, где царили веселье и разноцветные конфетти, он слишком налегал на сладкое, хотя прекрасно знал (а иногда попросту забывал) о том, что полная мучений ночь ему обеспечена. Давид считал, что люди в телевизоре и даже куклы в детских передачах смотрят прямо на него, обращаются только к нему одному, к Давиду, по-настоящему на него сердятся и пугают. И никто не мог его переубедить. В четыре года он построил из кубиков арку высотой около метра, сложив ее так, что кубики поддерживали друг друга по закону противодействия. Таким образом, еще не научившись говорить целыми предложениями, он открыл принцип замкового камня.
Вторую половину дня, после уроков, Давид сидел дома один. Отец работал, и мальчику так не хватало живой сестры или брата, которые бы тайком следили за ним днем и ночью из своего невидимого укрытия. Постепенно после долгих наблюдений Давид пришел к выводу, что все углы, вписанные в окружность и опирающиеся на диаметр, прямые. Такие треугольники непонятно почему казались прекраснее и совершеннее всех остальных. Давид также заметил, что камни всегда летят вниз, к земле, правда, это еще требовало доказательства. Ведь «вниз» было просто словом, обозначавшим направление, в котором падают камни; иногда казалось более естественным, если бы они летели в обратном направлении, в сторону голубого и все притягивающего яркого света; Давид знал, как добиться ощущения, будто висишь над пропастью: надо только наклониться и посмотреть в пространство; на собственном опыте он убедился, что из порезанного пальца, ладони или руки кровь идет только восемь минут. Потом образуется корочка, и боль сменяется почти приятным зудом.
Каждую ночь он засыпал с невероятным трудом. Он лежал совсем один в темной комнате с белесыми прожилками, где тени начинали двигаться, стоило только отвести от них взгляд. Проходила целая вечность, начиненная различными звуками, шорохами и потрескиваниями на книжных полках и под кроватью, прежде чем наступал сон. И тут Давид оказывался один на один с существом (ко всему прочему они приходились друг другу родственниками), в чьих пустых глазницах скрывалась бездонная чернота, заставлявшая учащенно биться сердце, мальчик вздрагивал в испуге и просыпался. На крик являлась рассерженная и вечно хотевшая спать мамка: от нее пахло кремом. Теперь она сильно изменилась. Да и отец тоже не тот.
Случайно выяснилось, что Давиду легко дается счет. Ему нравились числа, он легко управлялся с ними, сам не понимая как, чувствовал себя среди них в своей стихии. Как-то раз всей семьей они ехали на машине, и неожиданно для самого себя Давид заметил вслух, что мимо промелькнуло две тысячи четыреста тридцать семь столбов; при этом он не считал их специально или во всяком случае не помнил, чтобы считал. Дома отец пододвинул стул к сыну, сел, положил руки Давиду на колени, наклонился – у него были моржовые усы, очки и много морщин – и сказал:
– Двадцать семь умножить на шестьдесят три.
Давид сглотнул и отвел глаза.
– Тысяча семьсот один.
Отец застучал по крошечному калькулятору, на секунду остановился, кивнул и продолжил:
– Пять тысяч шестьсот девяносто три на восемьсот шестьдесят семь.
Давид закрыл глаза, увидел источающую тепло оранжевую пелену и прислушался. Пахло едой, в соседней комнате мать что-то варила, у него заныло в желудке.
– Четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч… восемьсот тридцать один, – протянул он.
Отец уткнулся в калькулятор и побледнел. На его лице резко выступили скулы. Он высморкался.
– А корень из этого?
Мальчик заерзал, ему хотелось встать, но рука на коленке крепко его держала. Окно отбрасывало блики, словно свет заперли между рамами.
– Две тысячи… двадцать одна целая, пять… примерно пять десятых, – сказал Давид, пожимая плечами. Его отпустили. Наконец-то.
– Очень хорошо, – заключил отец, встал и снял очки, – но это еще ничего не значит, некоторые тоже так умеют, поверь мне. Да и последний ответ был не совсем верный.
– Шестьдесят семь сотых, так?
Отец утвердительно кивнул и вышел из комнаты. Из-за стены раздавались шаги, туда-сюда. Позже за обедом он ни с того ни с сего ударил кулаком по столу с такой силой, что задребезжали тарелки.
– Не ешь так много, а то растолстеешь. Хочется быть толстым? – закричал отец.
Давид в недоумении уставился на него, не понимая причины такого гнева. Потом спустился на улицу и отправился к Марселю. Соседский пес, приметив его из-за забора, зарычал. Давид пристально взглянул на него – пес попятился, зарычал громче. Пар рябью поднимался от асфальта. Друзей разделяли четырнадцать домов, двенадцать мусорных баков, восемьсот четырнадцать шагов.
Какой-то незнакомый мальчишка пристроился к Давиду и следовал за ним по пятам. Но тот не сразу заметил. Попутчик не сводил с Давида глаз.
– Брось, не советую! – сказал Давид.
Мальчик держал руки в карманах, у него были светлые волосы и желтые зубы, впереди одного не хватало, рядом тянулась узкая и темная тень.
– Чего?
– Лучше не делай этого. Ты, конечно, не понял, о чем я? Но скоро поймешь.
Парень вынул правую руку из кармана, задумчиво посмотрел на нее, ухмыльнулся, замахнулся и отвесил Давиду подзатыльник, да такой силы, что у того искры из глаз посыпались, он потерял равновесие, почувствовал, как ударился лбом о мостовую, и все померкло… Когда он встал и осмотрелся, незнакомец уже исчез. Мама Марселя угостила пострадавшего пирогом и заклеила лоб пластырем. Давид умял чересчур большой кусок, и ночью ему сделалось плохо, дважды даже стошнило, но, к слову сказать, после наступило облегчение.
В школе он сидел с Сюзанной Ёблих. Трудно поверить, но, честное слово, ее звали именно так. По весне голые руки девушки были еще совсем белые, зато летом на них появлялся загар, а когда утром солнце светило наискосок в окно, желтоватый пушок на ее руках казался золотым. Три родинки. Маленький нос и раскосые глаза. Давид нарочно отбирал у Сюзанны карандаш: та тянулась за ним и касалась его рукой… Учительница не любила Давида. За его полноту и за то, что в свои девять лет он считал лучше нее и вообще лучше всех. С этим, правда, еще можно было смириться, на худой конец даже с тем, что он читал книги не по возрасту, вроде «Текстуры физического мира» Бориса Валентинова. Но признать в нем хорошего футболиста для математички казалось уже слишком. Одаренные дети не должны играть в футбол. Так гласило общее правило.
Однажды Давид стоял на воротах. Подавшись вперед и уперев руки в колени, он ждал. Игроки бегали на другом конце поля, ветер шевелил травинки и доносил отдельные крики, вдруг в его голове мелькнула формула, которую он искал вот уже несколько дней. Давид не столько увидел ее, сколько почувствовал; наконец формула прояснилась. Но приближались они.
Их фигуры росли, становясь все больше и больше, рос и мяч, прыгая белым пятном от одного к другому и описывая на траве сложную траекторию. Игроки на бегу кричали, но Давид ничего не слышал. Вытянув руки, он изготовился к прыжку, еще через секунду мяч зигзагом пролетел мимо последнего защитника и устремился прямо на него. Давид почувствовал, как земля ушла из-под ног. Он летел, и мяч летел – два сгустка энергии двигались навстречу друг другу, какую-то долю секунды казалось, что закон силы тяжести не действует на них. Удар по ладоням, и Давид уже лежал на земле, прижимая мяч к груди, руки зудели от боли, но среди криков и резкого запаха травы он испытал мгновение истинного счастья.
– Господин Малер, ваш сын… не знаю, как бы это сказать. Мне очень жаль, но, похоже, он… гений, – сквозь зубы сообщила учительница.
– Увы, мне это известно, – признался отец, откашлялся и с досадой подтянул галстук. – Но поверьте, мы его не так воспитывали… Мы хотели нормального… Мы хотели…
– Знаю, знаю, – посочувствовала учительница.
В тот же день Давиду удалось поцеловать Сюзанну Ёблих. Они возвращались из школы домой: он шагал рядом с ней, еще грязный после футбола. Через дымку облаков проглядывало солнце, пчелиный гул примешивался к доносившемуся с автобана шуму. Давид остановился, схватил Сюзанну за руку, притянул к себе и впился губами в ее… лицо; их губы не встретились, и он почувствовал только теплую, немного соленую щеку. Через секунду, которая, казалось, длилась целую вечность и была самой длинной в его жизни, Сюзанна оттолкнула его и убежала. Ее босоножки шлепали по мостовой, загорелые руки сверкали. Давид смотрел ей вслед, а потом побрел домой. Дома он тяжело опустился на стул и некоторое время тупо таращился в окно.
Потом взял листок бумаги и нарисовал чертеж конденсатора. В ту ночь он заснул сразу и впервые за долгое время не видел кошмаров.
– Знаешь, что, собственно, никакого времени существовать не может? – спросил он как-то Марселя.
Друг только замотал головой; Давид попробовал объяснить: прошлого нет, так как оно уже прошло; будущего тоже нет, так как оно еще не наступило, а настоящее не имеет протяженности. А как может существовать то, что не имеет протяженности! Так где же время, если нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего? Ну, скажи мне?
– Понятия не имею, – ответил Марсель, – но здесь кроется какой-то подвох.
– Почему?
– Да потому, что оно все равно есть. Можешь разглагольствовать сколько угодно, но оно все равно естъ! Это все мистификация!
Каждый день после обеда Давид корпел над конденсатором большой мощности, но без потери разряда, и постепенно уверенность в том, что он будет работать, крепла. Непонятно по какой причине, но конденсатор прочно и навсегда связался с образом Сюзанны Ёблих, с неудачным поцелуем на полпути к дому, а также с другой более поздней историей, всякий раз воскресавшей в памяти. Эти происшедшие в разные годы события по чистой случайности слились в одно. Девушку из другого воспоминания звали Мария.
Мария Мюллер, от ее фамилии уже тогда не хотелось думать. Был вечер, они решили прогуляться. Пройдя через рощу с покосившимися и сбросившими листву деревьями, вышли на поляну. Давид знал, что поблизости есть фабрика, отравлявшая светлую зелень его первых воспоминаний; все вокруг медленно и незаметно умирало химической смертью. Под предлогом того, что устали, они легли на землю. Свежескошенная трава оказалась жесткой и колючей. В сумерках четко вырисовывались глаза Марии. Она улыбнулась и принялась расстегивать его рубашку, он стал ласкать ее, стараясь не обращать внимания на шум в ушах, рябь перед глазами и отчаянное биение сердца, нашел ее грудь, очень белую и гладкую (и еще подумал: только бы в обморок не упасть!), Мария притянула его к себе, в траве ползали муравьи и валялась сплющенная банка, ремень ослаб, и поляна стала подниматься все выше и выше, он чувствовал, как они все крепче прижимаются друг к другу; и ее белоснежная грудь, ее глаза и колючая трава, муравьи и ее глаза, а потом поляна опустилась и оказалась на прежнем месте, откуда-то появилась бездомная такса и стала их обнюхивать, но она опоздала, все уже кончилось.
Вскоре Мария рассталась с ним, и это было нисколько не удивительно. В тот же самый вечер, когда они возвращались с прогулки, она положила голову к нему на плечо (ее волосы все еще пахли землей), посмотрела на небо и сказала так протяжно и на редкость притворно:
– Сколько звезд! Никто не может их сосчитать!
– Отчего же, – возразил он, – итак, сегодня… – он запрокинул голову и увидел только несколько рассеянных светящихся точек, – …даже пятисот не наберется.
И хотя девушка ничего не ответила и только убрала голову с его плеча, он уточнил:
– Четыреста семьдесят три. Нет, семьдесят две, то был самолет!
Этого она ему не простила.
Вскоре умер отец. Совершенно неожиданно от какой-то болезни с мудреным названием, которая почти не поддавалась распознаванию: никаких болей, но всегда смертельный исход. Давид заметил, что он ни чуточки не расстроился. Просто был озадачен.
Озадачен еще на похоронах. Стояло лето, и пчелы на кладбище жужжали особенно звонко. Приглядевшись, можно было увидеть их, маленькие золотистые точки над могилами. Детский хор пел громко и фальшиво. Давид поднес левую руку к виску и вдруг услышал тиканье часов, тихий ход секунд, услышал, как они зарождаются и исчезают, растворяясь в пустоте. Священник ковырялся в зубах, думая, что на него никто не смотрит. Потом хорал закончился, и осталось только гудение пчел.
Ему в голову пришла одна идея. Но как таковая обозначилась не сразу, сначала в виде простого вопроса. Или, скорее, подозрения или предчувствия; Давид и сам еще толком не знал. Домой он шел молча, с закрытыми глазами, и этого никто не заметил. Он пропустил в школе целую неделю, занимаясь тем, что записывал сверху вниз, аккуратными длинными колонками цифры.
Страхи о том, что теперь и отец будет являться во сне, не оправдались. Как и прежде, его навещала только сестра. Давид спрашивал, сестра отвечала, не сводя с него безжизненных глаз; проснувшись, он не мог вспомнить ни вопросов, ни ответов, и только ее голос еще звучал иногда в ушах. В конце недели было заполнено сто сорок страниц, и стало ясно, что дело намного сложнее и потребует гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Поэтому он сложил листы в папку, запер ее в ящике и решил обо всем забыть.
Несмотря на свой вес и очки, которые ему с некоторых пор прописали (без них он чувствовал в глазах легкое болезненное покалывание, и предметы расплывались от яркого света и слез), Давид по-прежнему оставался лучшим вратарем школы. По-прежнему предугадывал направление полета мяча, и накрытое облаками поле с завывающим ветром и криками по-прежнему в нужный момент превращалось в геометрическое пространство, мяч и его собственное тело – в точки этого пространства, а траектории их движения – в соразмерные кривые, стремящиеся к точке пересечения; и только столкновение возвращало все на свои места: трибуны, люди, запахи, звуки, все твердые тела вносились обратно в опустошенный мир.
– Малер, – сказал однажды тренер, – если не похудеешь, в следующем году я не возьму тебя в команду.
– Почему? – спросил Давид. – Я же могу…
– Или ты похудеешь, или вылетишь. Будь ты хоть трижды гений. Мне плевать!
Одним словом, теперь пришлось питаться хлебцами и пить больше молока. Днем урчание в животе не прекращалось, и Давид не знал, что было хуже: болезненная пустота внутри или страх, что другие услышат неприятные раскаты, подавить которые он был не в силах. Давид всегда засыпал с трудом, теперь же это казалось совершенно невозможным. Подушка постоянно лежала неудобно, Давид ворочался с боку на бок, и голод удерживал его в светло-серых сумерках спальни; даже деление миллиардов не помогало. Он вытерпел три недели, и на этом все кончилось.
– Хорошо, – сказала мама, – как-нибудь переживем! Ты останешься толстым. Навсегда. Это не самое страшное!