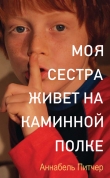Текст книги "Паразиты"
Автор книги: Дафна дю Морье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
– Мальчик не танцует, – сказала Селия. – Имеется в виду, что он убегает. Он испугался. В рассказе, к которому сделан этот рисунок, все объясняется. Но у меня есть другие рисунки, лучше этого.
– Я отлично понимаю, что он не танцует, – сказал мистер Харрисон. – Я знаю, что он убегает. Как давно вы занимаетесь рисунком? Года два? Три?
– Ах, гораздо дольше, – сказала Селия. – Дело в том, что я всегда рисовала. Я рисую всю жизнь. Это единственное, что я умею.
– Единственное? Чего же вы еще хотите, дитя мое? Неужели вам этого мало?
Мистер Харрисон подошел к камину и остановился, глядя на Селию сверху вниз.
– Я только что говорил о вашей матери, – сказал он. – И о некоем даре, которым она обладала. Ни до, ни после нее я не встречал его проявления ни в одном из искусств, не встречал до этой недели. Сейчас я вновь увидел его. В ваших рисунках. Бог с ними, с рассказами. Меня они совершенно не интересуют. Они эффектны, очаровательны и хорошо пойдут. Но ваши рисунки, вот эти сырые рисунки – неподражаемы, неповторимы.
Селия в недоумении воззрилась на мистера Харрисона. Как странно. Рисунки давались ей так легко. А на рассказы уходили часы и часы работы. И все впустую – мистер Харрисон о них самого невысокого мнения.
– Вы имеете в виду, – сказала Селия, – что рисунки лучше?
– Я вам уже сказал, – мистер Харрисон оказался на редкость терпелив, – они неповторимы. Я вообще не знаю никого, кто сегодня так работает. Мне они чрезвычайно нравятся. Надеюсь, и вам тоже. Вас ждет большое будущее.
Со стороны мистера Харрисона, подумала Селия, очень любезно и мило так расхваливать мои рисунки. Едва ли это случилось бы, не будь он приятелем Папы, членом «Гаррика» и давним поклонником Мамы.
– Благодарю вас, – сказала Селия. – Я вам очень признательна.
– Не благодарите меня. Я всего-навсего просмотрел ваши рисунки и показал их специалисту, который согласился с моим мнением. Ну а теперь к делу. Вы принесли еще что-нибудь из рисунков? Что у вас в сумке?
– Там… там еще несколько рассказов, – извиняющимся тоном сказала Селия. – Да два или три рисунка… не слишком хорошие. Может быть, эти рассказы лучше тех, которые вы видели.
Мистер Харрисон сделал отрицательный жест рукой. Рассказы ему до смерти надоели.
– Давайте взглянем на рисунки, – сказал он.
Он внимательно изучал их один за другим, поднес к столу, поближе к свету. Он напоминал ученого с микроскопом.
– Да, – сказал он, – эти последние сделаны в спешке, не так ли? Вы не слишком усердствовали.
– Папа был нездоров, – сказала Селия. – Я очень за него беспокоилась.
– Видите ли, – сказал мистер Харрисон, – для книги, которую я задумал, у нас не хватает рисунков. Вы должны еще поработать. Сколько времени вам понадобится, чтобы закончить один из этих рисунков? Три, четыре дня?
– Как получится, – ответила Селия. – Я действительно не могу работать по заранее намеченному плану. Из-за Папы.
От Папы мистер Харрисон отмахнулся столь же решительно, как и от новых рассказов.
– Об отце не беспокойтесь, – сказал он. – Я поговорю с ним. Он знает, что такое работа. Сам прошел через это.
Селия промолчала. Как объяснить мистеру Харрисону, каково ей приходится дома.
– Видите ли, – сказала она, – весь дом на мне. Я заказываю еду… ну и все прочее. За последние дни Папа очень ослаб. Вы, должно быть, заметили. У меня почти нет времени.
– Вы должны сделать так, чтобы оно появилось, – сказал мистер Харрисон. – К такому таланту, как ваш, нельзя относиться, словно вам до него нет дела. Я этого не допущу.
В конце концов, он действительно похож на школьного учителя. Опасения были не напрасны. Теперь он поднимет шум вокруг ее рисунков, напишет Папе, причинит Папе лишнее беспокойство, сообщит, что ей необходимо время для работы, и все это превратится в спектакль, в ритуал и только усложнит ей жизнь. Из отдушины рисование превратится в обузу. Со стороны мистера Харрисона было очень любезно брать на себя лишние хлопоты, но Селия пожалела, что пришла.
– Право, – сказала она, вставая со стула, – с вашей стороны чрезвычайно любезно брать на себя такой труд, но…
– Вы куда? Что вы делаете? – спросил мистер Харрисон. – Мы еще не обсудили ваш контракт, не поговорили о деле.
Ей удалось уйти только после половины шестого вечера. Пришлось выпить чая, встретиться еще с двумя мужчинами; ее заставили подписать какую-то устрашающую бумагу, похожую на смертный приговор, согласно которой она обещала отдавать все свои работы мистеру Харрисону. Он, как и двое других, настаивал на том, что рассказы без рисунков ничего собой не представляют, и выразил желание как можно скорее, недели через три-четыре, получить остальные рисунки. Селия понимала, что ей не справиться, и у нее было чувство, что она попала в ловушку. Интересно, размышляла она, что случится, если, подписав контракт, она их подведет? Может быть, они станут преследовать ее в судебном порядке?
Наконец после двойного рукопожатия с каждым из них Селия вырвалась из конторы мистера Харрисона, второпях забыв попрощаться с девушкой в пенсне, которая с улыбкой встретила ее появление у справочного бюро.
Такси нигде не было видно, и, только дойдя до Юстонского вокзала, Селия сумела найти машину. Было уже шесть часов, и быстро темнело. Первое, что она заметила, вернувшись домой, – открытые двери гаража. Машины в гараже не было. Вот уже несколько недель Папа не садился за руль. С тех самых пор как ему стало нездоровиться, либо она сама возила его, либо он брал такси. С сильно бьющимся сердцем Селия бегом поднялась по лестнице, нащупывая в кармане ключи… Открыла дверь и, вбежав в дом, позвала горничную.
– Где мистер Делейни? – спросила она. – Что случилось?
У горничной был испуганный и взволнованный вид.
– Он ушел, мисс, – сказала она. – Мы не могли его остановить. И мы не знали, где вы, чтобы сообщить вам.
– Что значит ушел?
– После вашего ухода он, должно быть, заснул. Я дважды заглядывала в комнату, он тихо, спокойно сидел в своем кресле. А потом, около пяти часов, мы услышали, как он спускается в холл. Я подумала, что ему что-нибудь нужно, и вышла из кухни, а он выглядел очень странно, мисс, на себя не похож, лицо очень красное, а глаза такие чудные и будто застывшие. Я очень испугалась. «Я еду в театр, – сказал он, – я и понятия не имел, что так поздно». По-моему, мисс, он бредил. Он прошмыгнул мимо меня и спустился в гараж. Я слышала, как он заводит машину. Я ничего не могла сделать. Мы ждали вас здесь, мисс, пока вы не пришли.
Дальше Селия не слушала. Она пошла в малую гостиную. Вставая с кресла, Папа оттолкнул его от камина. Книга о звездах валялась на полу. Она даже не была открыта. Ничто в комнате не указывало на то, куда он ушел. Абсолютно ничего.
Селия позвонила в «Гаррик». Нет, ответили ей, мистер Делейни не заходил в клуб. Позвонила доктору Плейдону. Доктора Плейдона нет дома. Его ожидают к половине восьмого. Селия вернулась в холл и снова стала расспрашивать горничную:
– Что он сказал? Постарайтесь вспомнить слово в слово.
Горничная повторила то, что говорила раньше.
– Мистер Делейни сказал: «Я еду в театр. Я и понятия не имел, что так поздно».
Театр? Какой театр? В каких сумрачных, пыльных лабиринтах памяти бродил Папа? Селия вызвала такси и по пути в Лондон попыталась объяснить шоферу, что она собирается делать.
– Машина марки «санбим», – сказала она, – и я думаю, что мой отец попробует поставить ее у служебного входа какого-нибудь театра. Но не знаю, какого именно. Это может быть практически любой театр.
– Ничего себе задачка, а? – сказал шофер. – Говорите, любой театр? Уэст-Энд или Хаммерсмит? Ведь их немало. Мюзик-холл, варьете, Шафтсбери-авеню, Стрэнд…
– «Адельфи», – сказала Селия. – Поезжайте в «Адельфи».
Не в «Адельфи» ли они выступали в тот, последний сезон? Папа и Мама? В последний зимний лондонский сезон перед Маминой смертью.
С трудом прокладывая себе путь в беспрерывном потоке машин, такси кружило, то и дело сворачивало из стороны в сторону. Шофер выбрал не тот путь, какой следовало, и вез ее самой длинной дорогой через Пиккадилли, через самое сердце Лондона, бойкое, безостановочное. Хеймаркет, Трафальгарская площадь, Стрэнд…
Подъехав к «Адельфи», шофер резко остановил машину, посмотрел в окно перегородки на Селию и сказал:
– Здесь, во всяком случае, пусто. Театр закрыт.
Он был прав. Двери закрыты на засов, на стенах ни одной афиши.
– Все верно, – сказал шофер. – Спектакли закончились на прошлой неделе. Шел какой-то мюзикл.
– Пожалуй, я все же выйду, – сказала Селия. – Дойду до служебного входа. Может быть, вы подождете меня на улице за театром?
– Вам это обойдется не слишком-то дешево, – предупредил шофер, – обшаривать все театры таким манером. Почему бы вам не обратиться в полицию?
Но Селия не слушала его. Она дернула запертую дверь закрытого театра. Конечно, замки были надежны. Она свернула за угол и, сделав несколько шагов, очутилась в темном, зловещем проходе, где когда-то был убит Билл Террис. Проход был пуст. Рваные афиши последнего спектакля, едва различимые во тьме, смотрели на нее со стен по обеим сторонам служебного входа. Из темноты вынырнул кот. Выгнув спину дугой и громко мурлыча, он потерся о ее ноги и вновь скрылся во мраке.
Селия повернулась и, миновав проход, вышла на улицу. Шофер курил сигарету и, скрестив руки на груди, смотрел на нее.
– С удачей? – спросил он.
– Нет, – ответила Селия. – Пожалуйста, подождите меня еще немного.
Шофер что-то проворчал в ответ; Селия отошла от машины и торопливо прошла по одной улице, по другой… Все дома похожи один на другой, темные, безликие. Теперь она знала, что нужен ей, конечно, не «Адельфи», а «Ковент-Гарден».
Около оперного театра стоял полисмен. Когда Селия перешла улицу и попробовала открыть дверцу стоявшего у тротуара «санбима», он направил на нее свет фонарика.
– Вы кого-нибудь ищете? – спросил полисмен.
– Я ищу моего отца, – ответила Селия. – Он не совсем здоров, а это его машина. Я боюсь, что с ним что-то случилось.
– Вы мисс Делейни? – спросил полисмен.
– Да, – ответила Селия, и ей вдруг стало страшно.
– Мне поручено ждать вас здесь, мисс, – сказал полисмен. Он говорил спокойным, любезным тоном. – Инспектор подумал, что кто-нибудь из членов семьи может прийти сюда. Боюсь, что ваш отец заболел. Предположительно потеря памяти. Его отвезли в Чаринг-кросскую больницу.
– Благодарю вас, – сказала Селия. – Я понимаю.
К ней вернулись ее обычные спокойствие и выдержка; панический страх прошел. Папа отыскался. Он больше не бродит по улицам, одинокий, покинутый, окруженный призраками умерших. Он в безопасности. Он в Чаринг-кросской больнице.
– Я отвезу вас туда в вашей машине, – сказал полисмен. – Он оставил ключ. Должно быть, он упал через несколько минут после того, как вышел из машины.
– Упал? – спросила Селия.
– Да, мисс. Швейцар служебного входа в оперный театр стоял у открытой двери как раз в тот момент, когда ваш отец упал. Он сразу подошел к нему. И узнал мистера Делейни. Он позвал меня, я вызвал инспектора, и мы позвонили в «скорую помощь». Потеря памяти, вот что они об этом думают. Но вам все скажут в больнице.
– За углом, у театра «Адельфи» меня ждет такси, – сказала Селия. – Прежде чем мы поедем в больницу, мне надо расплатиться.
– Хорошо, мисс, – сказал полисмен. – Это по дороге.
Второй раз за день Селию поразила человеческая доброта. Даже шофер такси, который поначалу казался угрюмым и недружелюбным, проявил искреннее сочувствие, когда Селия расплачивалась с ним.
– Мне очень жаль, если вы получили недобрые вести, – сказал он. – Может быть, мне поехать с вами и подождать вас у больницы?
– Нет, – сказала Селия. – Все в порядке. Большое вам спасибо. Всего доброго.
Когда она вошла в больницу, у нее возникло чувство, будто каким-то непостижимым образом повторяется то, что произошло днем. Ей опять пришлось войти в комнату с вывеской «Справочное», и опять за столом она увидела женщину в пенсне. Но на этот раз женщина была одета в форму медсестры. И она не улыбалась. Она выслушала ее, кивнула и сняла телефонную трубку.
– Все в порядке, – сказала она, – вас ждут. – Она нажала кнопку звонка, и Селия следом за другой медсестрой проследовала в лифт.
Как много этажей, как много коридоров, как много медсестер, думала Селия, и где-то в этом огромном здании лежит Папа… он ждет меня, он совсем один, и он никогда, никогда не поймет. Он думает, что я сделала то, чего обещала никогда не делать. Что я ушла и бросила его, что теперь у него никого и ничего не осталось.
Наконец они вошли не в общее отделение, чего она опасалась, а в одноместную палату. Папа лежал на кровати, глаза у него были закрыты.
Он, конечно, умер, подумала Селия. Давно умер. Наверное, он умер, как только вышел из машины и посмотрел через дорогу на служебный вход «Ковент-Гардена».
В палате находились врач, сиделка и медсестра. На враче был белый халат. На шее у него висел стетоскоп.
– Вы мисс Делейни? – спросил он.
У врача был удивленный и несколько озадаченный вид. Селия поняла, что они, наверное, ожидали увидеть Марию. Они не знали о ее существовании. Не предполагали, что есть еще одна дочь.
– Да, – сказала она. – Я самая младшая. Я живу вместе с моим отцом.
– Боюсь, что вы услышите неприятные новости, – сказал врач.
– Понимаю, – сказала Селия. – Он умер, да?
– Нет, – сказал врач, – но он перенес удар. Он действительно очень болен.
Они подошли к кровати. Папу закутали в больничную рубашку, и было нестерпимо видеть его в этой одежде, а не в его собственной пижаме, не на его собственной кровати. Он тяжело и непривычно громко дышал.
– Если он должен умереть, – сказал Селия, – то я бы хотела, чтобы он умер дома. Он всегда боялся больниц. Он не хотел бы, чтобы это случилось здесь.
Они как-то странно посмотрели на нее – и врач, и сестра, и сиделка, и Селия подумала, что все трое сочли ее грубой и неблагодарной, ведь они так старались помочь Папе, положили его сюда, на эту кровать, и заботятся о нем.
– Мне понятны ваши чувства, – сказал врач. – Все мы немного боимся больниц. Но вовсе не обязательно, что ваш отец умрет, мисс Делейни. Сердце работает нормально. Пульс ровный. У него на редкость здоровый организм. Дело в том, что в подобных случаях практически невозможно ничего предсказать. Не исключено, что в таком состоянии с незначительными изменениями он проживет недели, месяцы.
– Он будет чувствовать боль? – спросила Селия. – Остальное не имеет значения. Он будет чувствовать боль?
– Нет, – ответил врач. – Нет, боли не будет. Но он будет абсолютно беспомощным. Вы это понимаете? Днем и ночью за ним будет необходим профессиональный уход. У вас дома есть такие возможности?
– Да, – сказала Селия. – Да, конечно.
Она сказала так, чтобы убедить врача, и тут же с поразительной при данных обстоятельствах ясностью мыслей и бесстрастной предусмотрительностью стала думать о том, как переделать бывшую комнату Марии в комнату для сиделки и как они с сиделкой будут по очереди ухаживать за Папой; слуги, конечно, будут недовольны, ведь им прибавится работы; они даже могут пригрозить уйти, но тогда придется что-нибудь придумать; возможно, Труда сумеет приехать на несколько недель; а то и удастся уговорить Андре вернуться на какое-то, пусть самое непродолжительное, время; во всяком случае, новая молоденькая горничная очень старательная и усердная.
Мыслями Селия умчалась в будущее и уже думала о том, что, как только потеплеет, можно перенести кровать Папы в старую гостиную на втором этаже, которой они давно не пользовались. Понадобятся новые портьеры, но их найти не сложно, зато там ему будет веселее и спокойнее.
Врач протягивал ей стакан с какой-то жидкостью.
– Чего вы от меня хотите? Что это? – спросила она.
– Выпейте, – спокойно сказал врач. – Видите ли, вы перенесли сильное потрясение.
Селия проглотила содержимое стакана, но лучше ей отнюдь не стало. Жидкость была горькой, неприятной на вкус; ноги Селии вдруг ослабели, сделались ватными, и она почувствовала безмерную усталость.
– Я бы хотела позвонить сестре, – сказала она.
– Разумеется, – сказал врач.
Он вывел Селию в коридор, и она вдохнула кошмарный стерильный безликий запах больницы, запах, впитавшийся в стены здания, увидела яркий свет, голые, до блеска вымытые полы и стены. Они не имели никакого отношения ни к медсестре, которая шла рядом с ней, ни к врачу, который крутил на пальце стетоскоп, ни к Папе, лежавшему в беспамятстве в той комнате, где они его положили, ни к другим больным, распростертым на своих кроватях.
Врач ввел Селию в небольшую комнату и включил свет.
– Можете позвонить отсюда, – сказал он. – Вы знаете номер?
– Да, – ответила Селия. – Благодарю вас.
Он вышел в коридор. Селия набрала номер Марии в Ричмонде. Но к телефону подошла не Мария. А Глэдис, горничная.
– Миссис Уиндэм еще не вернулась, – сказала Глэдис. – Она ушла днем с ребенком, и с тех пор мы о ней не слышали, почти с двух часов.
В голосе горничной слышалось удивление и легкая обида. Она словно давала понять, что миссис Уиндэм, по меньшей мере, могла предупредить, что задержится.
Селия прижала руки к глазам.
– Хорошо, – сказала она. – Не важно. Я позвоню позднее.
Она опустила трубку и снова сняла ее. Попросила дать ей номер телефона комнаты Найэла в театре. Набрала его и ждала, ждала. Конечно, думала она в новом приливе смертельного отчаяния, сознавая свою полную беспомощность, не может быть, чтобы их обоих не было дома именно теперь, в эту минуту моей жизни, именно теперь, когда они мне так нужны; конечно же, хоть один из них непременно придет мне на помощь? Потому что я не хочу идти домой одна. Не хочу оставаться в доме одна, без Папы.
Из трубки все летели и летели гудки.
– Извините, – наконец услышала она голос телефонистки. – Никто не отвечает.
Голос телефонистки звучал холодно, отчужденно, и сама она была не более чем номер на коммутаторе, а не человек с душой и сердцем.
Селия выключила в комнате свет и стала нащупывать дверную ручку. Но не могла найти ее. Ее руки скользили по ровной, гладкой поверхности двери. И в приступе внезапной паники она принялась бить в нее кулаками.
Глава 19
– Кто хочет принять перед ужином ванну? – спросила Мария.
– Ты имеешь в виду себя, – сказал Найэл, – и если кто-то еще скажет «я», то на него не хватит воды.
– Именно это, – сказала Мария, – я и намеревалась довести до вашего сведения.
Мы медленно побрели в холл. Селия выключила в гостиной свет, оставив зажженной только лампу у камина.
– У Селии все привычки старой девы, – сказал Найэл. – Выключать свет, гасить огонь, пускать в дело недоеденную еду.
– Старые девы здесь ни при чем, – возразила Селия. – Как и условия военного времени. Просто меня к этому приучили. Вы забываете, что целых три года мне пришлось ухаживать за тяжелобольным.
– Я не забыл, – сказал Найэл. – Но предпочитаю об этом не думать, вот и все.
– Тебе помогали сиделки, – сказала Мария. – Они всегда казались такими милыми. Вряд ли это было так ужасно. – Она стала подниматься по лестнице.
– А кто говорит, что это было ужасно? – спросила Селия. – Только не я.
В коридор выходили двери самых разных комнат. В дальнем конце была дверь в детскую половину.
– Папа не очень любил здесь бывать, – сказала Мария. – Слишком много шума. Возвращаясь из театра, я всегда заходила сюда, чтобы поздороваться с детьми. Шум на меня плохо действовал.
– Все зависит от того, – сказал Найэл, – какой шум ты имеешь в виду. Шум от бомб или от детей? Лично я предпочитаю бомбы.
– Согласна, – сказала Мария. – Я имела в виду детей. – Она открыла дверь своей комнаты и включила свет. – Во всяком случае, Пала правильно сделал, что умер в Лондоне. Он был частью Лондона в большей степени, чем любого другого города. И правильно, что он умер вовремя. До того, как мир сделался таким унылым.
– А кто говорит, что мир сделался унылым? – спросил Найэл.
– Я, – сказала Мария. – Ни былого блеска, ни жизни, ни веселья. – Она открыла платяной шкаф и задумчиво посмотрела внутрь.
– Здесь дело в возрасте, – сказала Селия. – Я не сетую на то, что мне далеко за тридцать, на мне это не слишком сказывается, но, возможно, для тебя и Найэла…
– Я тоже не сетую, – сказал Найэл. – И в восемьдесят пять можно сидеть и бездумно глядеть на воду. Или сидеть на скамейке и дремать. Ничего другого я никогда и не хотел.
Из-за двери детской послышались взрывы смеха.
– Они слишком вульгарны, – сказала Мария.
– Значит, Полли внизу, – сказал Найэл.
– Пожалуй, я загляну к ним, – сказала Селия.
Мария пожала плечами.
– Я собираюсь принять ванну, – сказала она. – Если опоздаю, объясните Чарльзу причину. – И она захлопнула дверь.
Найэл улыбнулся Селии.
– Ну? – сказал он. – Забавный выдался денек.
– Мы так ни к чему и не пришли, разве нет? – сказала Селия. – Так ничего и не добились. Возможно, копание в прошлом действительно ничему не помогает. Как бы то ни было, мои чувства с тех пор не изменились. Хоть мы и постарели. Хоть мир и сделался унылым.
– Ты и внешне не изменилась, – сказал Найэл. – Но может быть, только для меня. Вот эта седая прядка в твоих волосах уже несколько лет.
– Не опоздай к ужину, – сказала Селия. – Для меня было бы ужасно оказаться наедине с Чарльзом.
– Не опоздаю, – сказал Найэл.
Тихонько насвистывая, он пошел по коридору к комнате для гостей, где всегда останавливался.
Мы были молодые, веселые мы были.
Всю ночь мы на пароме туда-обратно плыли… (*)
Найэл не знал, почему запоминает всякую всячину. Почему в любое время дня и ночи у него в памяти всплывают обрывки стихотворений, разрозненные рифмы, незаконченные предложения, сказанные давно забытыми приятелями. Вот как сейчас, когда он переодевается к ужину в комнате для гостей в Фартингзе. Он снял твидовый пиджак и повесил его на столбик кровати. Закинул тяжелые ботинки в угол и протянул руку за американскими теннисными туфлями, затем вынул из чемодана чистую рубашку и шейный платок в горошек. Положить в чемодан галстук он не удосужился. Когда бы ни приезжал Найэл на выходные в Фартингз, он никогда не утруждал себя разборкой чемодана. Куда как проще оставить одежду – а много он никогда не привозил – сложенной в чемодане, чем раскладывать по ящикам комода или развешивать по шкафам. Этому, как и многому другому, он научился у Фриды. «Бери то, что можешь унести на спине, – обычно говорила она, – это экономит время и нервы. Не бери лишнего. Не забивай территорию. Здесь наш дом всего на два-три дня. В этой мастерской, в этих меблированных комнатах, в этом гостиничном номере».
А их было много. Грязных, обшарпанных, без eau courante, [61]61
Здесь – водопровод (фр.).
[Закрыть]без salle de bain. [62]62
Ванна (фр.).
[Закрыть]Потом получше, где горничная спрашивала, не нужно ли préparer le bain, [63]63
Приготовить ванну? (фр.).
[Закрыть]что всегда обходилось в лишних десять франков, хотя вместо воды лился кипяток, полотенце было слишком мало, а на кровати громоздилось нечто напоминающее чудовищный пуф, обшитый кружевами. Однажды они выложили всю наличность и сняли номер люкс в роскошной гостинице – настоящем дворце – в Оверне, поскольку Фрида заявила, что ей надо пройти курс лечения. Зачем, ради всего святого, Фриде понадобилось проходить курс лечения?
Она вставала в восемь утра и отправлялась не то пить воду, не то принимать душ – Найэл так и не выяснил, что из двух; а он по своему обыкновению лежал в кровати до ее возвращения где-то в середине дня и читал от корки до корки всего Мопассана – в одной руке книга, в другой плитка шоколада.
Днем он обычно заставлял ее подниматься на гору. Бедная Фрида. У нее вечно болели лодыжки, и она терпеть не могла пешие прогулки. А еще он сочинял устрашающие скандальные истории о постояльцах гостиницы и рассказывал их Фриде в ресторане. В таких случаях она толкала его ногой под столом и говорила шепотом:
– Может быть, ты успокоишься? Нас вышвырнут отсюда.
Она изо всех сил старалась напустить на себя величественный вид, но сама же вдребезги разбивала его тем, что скидывала под столом туфли, и их поиски сопровождались громким шарканьем и энергичными телодвижениями.
А потом эта меланхоличная гостиница в Фонтенбло, где сохранившие девство старые дамы возлежали в шезлонгах, а Найэл целыми днями играл на рояле, пока они не пожаловались на него управляющему. Самую серьезную жалобу принесла дама, чей шезлонг находился на самом большом расстоянии от комнаты с роялем. Ах, каким извиняющимся тоном разговаривал с Найэлом управляющий.
– Вы понимаете, месье, дело вот в чем, – сказал он с чарующей улыбкой на устах. – У дамы, которая обратилась с жалобой, весьма странные представления о нравственности. По ее мнению, любая танцевальная музыка безнравственна.
– Я с ней согласен, – сказал Найэл. – Действительно, безнравственна. Любая.
– Но суть в том, месье, – объяснил управляющий, – что причина, по которой мадам на вас жалуется, заключается не в безнравственности как таковой, а в том, что вы делаете безнравственность достойной восхищения.
Мы были молодые, веселые мы были.
Всю ночь мы на пароме туда-обратно плыли…
О Господи! Что это, откуда? Стишок из «Панча»? Почему сейчас? Почему здесь, в Фартингзе, в комнате для гостей? Может быть, это просто фрагмент, выхваченный из затейливой мешанины воспоминаний, нахлынувших на него в этот день? Сырой, зимний день, проведенный в гостиной Марии. В гостиной Чарльза. Ведь Фартингз принадлежит Чарльзу. Несет на себе отпечаток его личности. Столовая с гравюрами на батальные темы. Лестница с фамильными портретами, привезенными из Колдхаммера. Даже в гостиной, которую Чарльз великодушно позволял превратить в женскую комнату, лучшее кресло с продавленным сиденьем может занимать только он.
О чем думает Чарльз, одиноко сидя в нем каждый вечер? Читает все эти книги, громоздящиеся на полках? Вглядывается в картину над камином, в нежных акварельных красках запечатлевшую память о том далеком медовом месяце в Шотландии, где он надеялся пленить и навсегда удержать свою неуловимую Мэри Роз? Рядом с креслом Чарльза на узком табурете – его трубки, банка с табаком и груда журналов: «Кантри Лайф», «Спортинг энд Драмэтик», стародавние номера «Фармерс Уикли». На что он тратит свою жизнь? Чем заняты его дни? Утром – контора в имении, ежедневное посещение Колдхаммера, который до сих пор стоит пустой, холодный, с закрытыми ставнями, поскольку Сельскохозяйственный комитет, реквизировавший его во время войны, еще не вернул дом законным владельцам. Поездка на машине в соседний городок, одна или несколько деловых встреч. Просмотр чертежей для дренажных работ, консерваторы, старые товарищи, церковная башня. Чай с детьми, если случится быть дома к этому времени – Полли рядом с дымящимся чайником, – и раз в неделю письмо Кэролайн в школу.
Что дальше? Обед в одиночестве. Пустой диван. Марии нет, и лежать на нем некому. Но если она вспомнит, если ей больше нечего делать, то после ее возвращения из театра в лондонскую квартиру в Фартингз раздается звонок междугородного телефона:
– Ну, как поживаешь?
– Так себе, довольно много работы.
Его ответы, как правило, односложны: «да», «нет». Мария же все говорит и говорит, растягивая время, чтобы успокоить собственную совесть.
Найэл знал. Найэл слишком часто сидел в это время в комнате. Не Чарльза. Марии…
Впрочем, это не его дело. Так продолжалось долгие годы с перерывом на время войны. Почему бы не продолжаться и впредь, до скончания веков? Или наступил переломный момент?
Найэл надел другой пиджак и повязал шарф в горошек.
Переломный момент… Мужчина, да и женщина тоже, может многое стерпеть, многое вынести, но до известного предела, и тогда… Где ответ? Возможно, ответа вообще не существует. Разумеется, Чарльз ничего не может сделать. Или все-таки может?
Странное это чувство – переживать боль других как свою собственную. Сегодня Чарльз был действительно близок к переломному моменту. Но впереди еще ритуал воскресного ужина. День не закончен. Что там однажды сказала Фрида с присущей ей изрядной долей здравого смысла и своей всегдашней прямотой и откровенностью?
– Нравится мне этот Чарльз. Хороший он человек. И похоже, она заставит его жестоко страдать.
В то время Найэл, расстроенный таким обвинением, стал горячо защищать Марию:
– Но почему? Она очень любит Чарльза.
Фрида посмотрела на него и улыбнулась. Потом вздохнула и потрепала его по плечу:
– Любит? Ваша Мария? Мой бедный мальчик, она даже не начала понимать значения этого слова. Да и ты тоже.
Если Фрида действительно так думает, значит, Найэл и Мария легкомысленные, поверхностные создания. Значит, их чувства мелки, банальны и растрачиваются бесцельно, бездумно? Он сознавал, что в известном смысле все это имеет отношение к Марии. Но не к нему. Не к нему? Оскорбительно слышать, что ты ничего не понимаешь в любви. Гораздо хуже, чем быть обвиненным в отсутствии чувства юмора. Но если ты ничего не понимаешь в любви, то отчего чувствуешь себя таким несчастным безо всякой на то причины? Отчего эти бессонные, томительные ночи, предрассветные тревоги и страхи? Отчего щемящая безысходность, если для нее нет иной причины, чем хмурый день, опадающие листья, близость зимы? Отчего внезапно налетающие и так же быстро проходящие взрывы буйного настроения, жажда безрассудных поступков?
Все это, сидя на кровати и потягивая коньяк из стакана для чистки зубов, Найэл обрушил на Фриду исполненным негодования голосом, пока та расчесывала перед зеркалом свои тусклые, крашеные волосы и роняла на пол пепел сигареты.
– Ох уж эти чувства, – сказала она. – Они от нас не зависят. Они идут от желез.
Прекрасно. Во всем виноваты железы. Смех в ночные часы, переливы красок в толпе, солнце за горой, аромат воды. Шекспир – это железы… и Чарли Чаплин.
Разливая коньяк, Найэл взволнованно подался вперед; из его кармана выпало письмо от Марии.
– Ваша беда в том, – сказала Фрида, – что, создавая вас, Всевышний пустил дело по воле волн. Вам следовало иметь одних родителей и родиться близнецами.
Фрида согласилась бы с Чарльзом относительно паразитов…
Стоило бы послать Фриде телеграмму в Италию, где она обосновалась несколько лет назад на мрачной вилле на берегу озера, откуда посылала Найэлу красочные открытки с видами голубого неба и деревьев в цвету, которые ему при визитах к Фриде так и не удалось увидеть въяве, поскольку всегда лил дождь. Стоит послать Фриде телеграмму и спросить ее: «Я – паразит?» Она рассмеется своим глубоким снисходительным смехом и ответит: «Да».
Когда-то он паразитировал на Фриде, пока не встал на ноги, не научился ходить самостоятельно и обходиться без нее. Фрида, трагикомичная, как ива-переросток, покачивающаяся от легкого ветерка, с конца длинного перрона Северного вокзала с напускным безразличием машет платком, посылая ему последнее «прости».