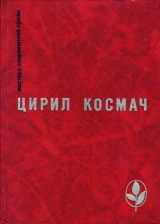
Текст книги "Папаша Орел"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Цирил Космач
ПАПАША ОРЕЛ
Каждому известно, как нелегко пробыть целый день и весь долгий вечер с близким человеком и не касаться в разговоре вещей, которые у обоих на сердце. Так случилось со мной, когда я после пятнадцатилетнего отсутствия посетил свое родное село под Толмином; брата и сестер разбросала война – они были кто в Италии, кто в Германии, а нашего отца убили в Маутхаузене – и ему уже никогда не вернуться.
В нашем опустевшем доме над Идрийцей жила тетка, сестра матери, которую мы в детстве здорово не любили, потому что была она сухой, суровой и набожной женщиной и к тому же настолько скупой, что ей было жалко даже дыма, выходившего из трубы, как говорил ее брат, наш остроумный дядюшка Нац, несмотря на тяжелую жизнь сохранивший веселый нрав и золотое сердце. Тетка многие годы прослужила в Горице у какой-то графини, которая принадлежала к побочной и к тому же усохшей ветви некогда могущественного рода Аттемсов: на этой службе она совсем отдалилась от живой жизни и высохла телом и душой. Приезжая навестить сестру, она для нас, семерых детей, привозила семь картинок с изображением Святогорской матери божьей и горстку старых пряников, отдававших плесенью; она называла нас язычниками за то, что мы не целовали пряников, прежде чем начать их грызть, и рассказывала нам об адовых ужасах так неумно, как это могут делать только закоснелые святоши, которым даже во сне не привидится, сколько сомнений живет в проницательной детской душе. Мама спешила увести ее в кухню и там основательно ругала, мол, нечего нас пугать, нам и на этом свете ада хватит.
Правда, мне говорили, что тетя очень изменилась, но все-таки воспоминания пробудились в моей душе, и я ничуть не радовался предстоящей встрече, тем более что произойти она должна была именно сейчас и именно в нашем доме, где я не был столько долгих лет. Я с большим трудом изобразил на лице доброжелательную мину, ожидая, что вначале тетя спросит меня, был ли я прилежным и послушным, всегда ли я молился, а потом… потом, разумеется, примется приторным голосом рассказывать о нашем отце. Она будет говорить и говорить, закатывать глаза, складывать руки и беспрерывно восклицать: «Наш несчастный бедняга!» Разумеется, в этом возгласе не будет ни крупицы любви или сочувствия, одно злорадство, в котором прозвучат отголоски старой теткиной песни: мол, сам виноват, не был прилежным, не слушался ее и не молился.
Этого я и хотел избежать, как извечно избегаем мы холодных и неискренних излияний.
Я никак не мог усидеть на месте. Боролся с плохим настроением и беспокойно слонялся по дому. Шел из кухни в горницу, а из горницы – в сени, потом по крутым шатким ступенькам в сад, оттуда – в амбар, где под закоптелой соломенной крышей хранилось великое множество всякого барахла, в основном того же, что и в мои детские годы: источенные червями прялки, отслужившие свой век горшки и сковородки без ручек, сломанные косилки и рваные рюкзаки, заржавевшие инструменты и даже две черные сгнившие соломенные шляпы деда, которые вот уже тридцать лет после его смерти дожидались, когда же наконец осуществится его утверждение, что через каждые семь лет все обновляется.
Все это я знал и нигде не открыл для себя ничего нового. Оказалось, что моя душа ничего не забыла, и мое тело, которое сначала было неловким, вскоре тоже почувствовало себя уверенным в том жилище, где обитало почти двадцать лет: нога правильно отмеряла высоту порога и ступенек, рука вспомнила все расстояния, так что в темных сенях совершенно уверенно легла на широкую ручку двери, ведущей в горницу, как будто открывала ее каждый день по нескольку раз, а не через пятнадцать лет. В горнице я ощупал стулья, похлопывая их по плечу, как старых знакомых, ласково погладил сундук, который, несмотря на материнские угрозы, мы безжалостно изрезали перочинными ножами, положил руку на потрескавшуюся печь и на фисгармонию, точно так же, как и пятнадцать лет назад, стоявшую за дверью.
«Все, как было», – сообщила мне довольная память.
«Все, – печально согласился я, – только его нет, чтобы оживить эти вещи».
Я вышел из дому и остановился под старой грушей, груша только что отцвела, – весна была поздняя. В мои детские годы здесь была широкая полоса густой светло-зеленой травы, я любил ходить по ней босиком, она мне всегда казалась особенно прохладной и мягкой. Здесь же я получил свои первые серьезные уроки; каждый день после обеда сюда приходил дедушка, расстилал на траве мешок, устраивался на нем, прислонив голову к шероховатому стволу груши, давал мне в руки толстую книгу «Жития святых» и ворчливо приказывал: «Теперь садись и читай, парень!» Я садился, водил пальцами по строчке и читал по слогам: «Свя-той Ан-дрей и-ли так-же близ-нец назван был…» Картина так отчетливо ожила, что я прикусил язык, собиравшийся вслух повторить слова о святом Андрее. Он бы их и повторил, не будь при этом тети, без умолку что-то говорившей.
– Разумеется. Конечно, – с досадой пробормотал я и заторопился в хлев. В хлеву стояла светло-серая корова со сломанным рогом и загнутыми вверх копытами, она изредка забрасывала хвост на свою искривленную спину и упорно жевала жесткое сено с нашего луга. Из хлева я направился в кладовую, пустую, словно перед сбором урожая; знакомый запах плесени ударил мне в ноздри. После кладовой заглянул в сарай, из сарая – в сад, который казался сиротливым и постаревшим, трухлявый деревянный забор оброс мхом и в нескольких местах готов был рухнуть. Когда-то в этом саду у нашей матери было полным полно цветов, а теперь возле ограды поднялась такая буйная крапива, что мне пришлось наклонить голову, когда я шел по дорожке, иначе бы она хлестала меня по лицу. Я вышел из сада, прислонил калитку к столбу, потому что петли давно разъела ржавчина, и перескочил через канаву, где всегда стояла густая навозная жижа. Постояв, направился к горному уступу над домом.
Воспоминания роем кружили вокруг меня. Мне так хотелось побыть одному, приветствовать родной дом не только взглядом, но и руками и словами, однако тетка безжалостно ковыляла за мной, чтобы все мне показать и обо всем рассказать. Она с трудом передвигала свои сухие ноги в тяжелых и грубых мужских ботинках, которые наверняка раньше принадлежали моему отцу, руки она держала скрещенными под передником, словно скупая хозяйка, скрывающая от соседки, сколько яиц принесла из куриного гнезда, и все говорила, говорила. Говорила, на удивление, не фальшиво, а громко и лихорадочно, как говорят люди, живущие возле реки. Наш дом в получасе ходьбы от села, стоит он совершенно одиноко, и Идрийца течет, так сказать, возле самого порога, в каких-то ста шагах от дома перекатываясь через скалы.
Мы поднялись на уступ. Я остановился возле густого самшитового куста, в котором часто прятался, когда был ребенком. Несмотря на шум реки и шелест ветра в ветвях могучего ореха, была тишина, та природная тишина, которая живет только в деревне и никогда не заглядывает в город. Я посмотрел на долину, на гребни гор, которые вырывались из толминских ущелий, потом взглянул вверх, на небо. Небо высокое-высокое и своей синевой заполняло все, даже самые дальние уголки. Нигде ни единого облачка. И под всем этим огромным сводом кружил одинокий орел. Тетя тоже посмотрела вверх, костлявой рукой прикрыв глаза от солнца, и словно бы с радостью сказала:
– Он часто прилетает.
Орел долго кружил над долиной. Медленно и спокойно парил он большими кругами, словно вспоминал хорошо знакомые места, потом уплыл прямиком к Облаковой вершине.
– Пойдем в дом, – сказала тетя.
Мне не очень хотелось, но ничего другого не оставалось. Я пошел в горницу. Когда после многолетнего отсутствия ты возвращаешься домой, на тебя смотрят как на дорогого гостя и обращаются с тобой как с дорогим гостем. Ты должен послушно сидеть в горнице, есть яичницу, пить молоко, потому что в доме нет кофе, и разговаривать.
Я сел на шаткую скамейку и положил руки на источенный червями стол. Тетя тоже села, только на стул и чуть в стороне, как и положено садиться хозяйке в присутствии гостя. Спрятала под черный платок выбившуюся прядь седых волос и вздохнула:
– Вот так…
Меня охватил страх, потому что я догадался: сейчас она начнет. Даже само звучание слов, последовавших за вздохом, не понравилось мне. Бывает, у человека прекрасный и сильный голос, но слуха меньше, чем у осла. Точно так же, бывает, у человека хорошая, прямо золотая душа, зато абсолютно лишенная слуха. Такие, люди не могут жить в соответствии с чувствами своего ближнего, хотя и стараются. Что бы они ни сказали, говорят невпопад. Зная свою тетю, я был убежден: ее душа начисто лишена слуха. Разумеется, она понимала, что я избегаю разговоров об отце, но по ее вздоху и выражению лица было ясно, что она намеревается говорить именно о нем. Поэтому я закашлялся, побарабанил пальцами по столу и начал расспрашивать об односельчанах.
– А что Обрекар? – задал я вопрос и впервые посмотрел ей прямо в глаза.
Она поняла меня. Изменила выражение лица, подняла голову, выпрямилась на стуле и воскликнула:
– О, он прекрасно держался!
– Ведь он уже старый, – поспешил добавить я, чтобы тетя не ограничилась этим восклицанием.
– Старый? Он был уже очень старый, – поддержала она. – Только человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы помочь тушить пожар. Так он сам говорил последние три года. Ему было уже семьдесят пять, когда пробил великий решающий час, который всех нас пробудил и изменил.
Она подчеркнула «всех» и «нас» и многозначительно посмотрела на меня, дескать, и она тоже изменилась. Я улыбнулся. Да, она переменилась, хотя кое-что все-таки осталось неизменным: поскольку она много читала и поскольку у нее была удивительная память, она в своих рассказах неожиданно употребляла целые предложения, запомнившиеся из книг; она говорила книжным языком, что всегда раздражало нашу покойную маму. Вот так, по-книжному прозвучала сейчас фраза о великом решающем часе.
– Да, вы хорошо работали, – сказал я. – Мне говорили.
Она сунула свой костлявый палец под платок и почесала висок, пытаясь скрыть появившийся на щеках легкий румянец смущения.
– Это ничто, – сказала она и потрясла своей маленькой головкой, – ровным счетом ничто по сравнению с тем, что сделал твой отец, ну, наш и Обрекар, – добавила она, скорее всего поняла, что не следует трогать свежую рану; поэтому-то слово «отец» заменила на «наш». И даже не посмотрела на меня, увлеченная рассказом – Обрекар совершенно преобразился. Даже имя у него изменилось. Его называли «Папаша Орел». Я теперь часто на него смотрю и мне кажется, он в самом деле похож на орла. Не так ли? – спросила она, вытащила руку из-под передника и показала на стену.
Я обернулся. На стене в рамке из бересты висела фотография старика с редкими и жесткими седыми волосами, большим выпуклым лбом, крупным орлиным носом, выдающимся подбородком и глубокими, неукротимыми серыми глазами. Взгляд был печальным, вроде бы серьезным и в то же время острым и живым и настолько проницательным, что было трудно выдержать его.
– Похож, – подтвердил я. – Даже на фотографии у него живые глаза.
– Живые! Еще какие живые! – воскликнула она, недовольная моим тоном. – Если последние полтора года, с тех пор, как его нет, я иногда колебалась, нести почту или нет, я старалась не смотреть на него. Я даже жалела, что повесила на стену его фотографию. Слишком хорошо знала: посмотрю на нее – пойду. А если бы даже не посмотрела, все равно не смогла бы не пойти. Вот тут что-то начинало стучать, – сказала она и положила костлявую руку на затылок. – Все равно должна была оглянуться. А он смотрел на меня так, что я поднималась и шла. И в дождь, и в снег. И не куда-нибудь, а в Верхнюю Трибушу, в Гачник, на Буково, в Холодную падь, в Локовец. По его тропам…
Она посмотрела на фотографию, покивала головой и замолкла, словно позабыла про меня. Я взглянул на нее и невольно удивился: кто бы поверил, что эта набожная и почти наверняка трусливая женщина в темноте, с партизанской почтой в кармане обошла все наши ущелья и горы.
– Да, совсем как живой, – продолжала она, глядя на фотографию. – Даже сейчас, когда смотрю на него, мне кажется, что он поднимет веки, смерит меня взглядом и заговорит. «Понимаешь, – скажет, – мы их прогоним, очень скоро их прогоним, эту дьявольскую банду! Они уже и так со страху дрожат!»
– Он так говорил?
– Именно так. Я очень хорошо это помню. Это было в сорок третьем, на сретение. Он пришел за бинтами, которые наш принес из Толмина. «Видишь ли, – сказал он, когда не торопясь сложил все в свой рюкзак, – разбойнику тоже страшно, когда он вламывается в чужой дом, хотя он и вооружен. Страх здесь, внутри, – и постучал рукой по груди. – И прогнать этот страх невозможно, ходи ты хоть до зубов вооруженным».
– Чертовски хорошо сказал, – восхитился я, потому что мне действительно понравились эти слова.
– Правда? – обрадовалась тетя и посмотрела мне прямо в глаза. – Иногда и нам, простым людям, умные мысли в голову приходят, – добавила она, но дожидаться, чтобы я это подтвердил, не стала. Скорее всего, ей показалось, что она слишком расхвасталась, поэтому она отвернулась и продолжала – Да, так я расскажу дальше. Его прозвали «Папаша Орел» именно из-за его глаз. Из-за этих глаз он вытерпел такие муки. Я тебе расскажу. Все по порядку… Только хочу тебе сказать: то, что ему дали имя «Папаша Орел», вначале ему не нравилось. Он сам в этом признался. Рассказал, как несколько лет назад однажды после мессы он зашел к Модрияну выпить ребулы[1]1
Ребула – сорт вина.
[Закрыть], а Пологар на него набросился. «Смотришь, как король! – орет. – Я бы тебе с удовольствием врезал!» – «А он и есть король у своих нищих. И детей у него на целое войско хватит! – залаял Окрогличар, который от высокомерия готов был лопнуть. – Все безземельные так смотрят. Ходят постоянно голодные, потому и обжоры, ну, а обжоры всегда таращатся, вот глаза у них и становятся, как плошки». Модриян только хихикал, но помалкивал, он и на нищенские гроши падок был… Так это было, – задумчиво сказала тетя. – Бедняку ясных глаз иметь не положено.
– Это верно. А где сейчас Пологар, Окрогличар и Модриян? – спросил я, потому что меня интересовала судьба богатеев, которые были готовы нас утопить в ложке воды.
– Где? – тетя по привычке повторила вопрос. – Пологар переменился. Собственные парни его на правильную дорогу вывели. Двое погибли. Он нашим помогал, и белые его жестоко избили. Выбили правый глаз, подожгли дом. Окрогличар тоже образумился. По крайней мере, настолько, чтобы закрыть пасть. Перестал лаять на своих и вроде бы даже иногда поддерживал. А вот с Модрияном ничего нельзя было поделать. Мы это всегда знали. Какое-то время он колебался, все взвешивал, настоящий торгаш. Кланялся и улыбался и нашим, и вашим. Но в конце концов пришло время показать свое настоящее лицо. Он и связался с белыми, деньги да жадность потянули его к дьяволу. До распада Италии оставался дома, потом сбежал в Толмин, потому что в нашем селе не было немецкого поста. В Толмине у него два дома. А в его здешнем доме теперь центр народного просвещения и задруга[2]2
Задруга – здесь: сельскохозяйственный кооператив.
[Закрыть], его поле комитет передал в пользование безземельным, пока вопрос не будет окончательно решен и пока и к нам не придет аграрная реформа. Не знаю, почему наши его не арестовали. Может, потому, что он очень старый. Говорят, он помешался. И немудрено. Как и что теперь с богом, я после всего, что было, не очень понимаю, – заявила тетя и вопрошающе посмотрела на старое распятие, которое висело в углу над столом, – но совесть существует наверняка. И совесть должна его мучить. Страшно, когда человек звереет! Подумай, в его саду нашли Обрекара. Под грядкой салата. Он сам должен был его закопать. Да я расскажу тебе.
– Его убили? – спросил я.
– Убили. Я расскажу тебе, когда дойду до этого. Все по порядку, сначала.
– Тогда начни сначала, – я потерял терпение. – Точно так же она нам, когда мы были детьми, рассказывала Жития святых, и уже тогда меня это злило.
– И правда, – сказала тетя, – в этом я не изменилась. Как это писатели умеют все так хорошо изложить, что обо всем говорится в нужное время?
– Потому что они начинают сначала, – заметил я и вынужден был улыбнуться ей, потому что она уже сердилась на себя.
– Хорошо! – и она решительно скрестила на груди руки. – Начну сначала. Итак, я уже сказала, он действительно был старый и измотанный. А спина – почти такая же согбенная, как у покойной Лопутницы, царствие ей небесное, руки висели ниже коленей. «Это меня в землю тянет», – говорил он. Да и неудивительно. Сколько мешков навоза перетаскал он за семьдесят лет на свои каменистые бесплодные вырубки. Ноги у него тряслись. А изжога мучила постоянно, потому и слюна текла не переставая. Поленты[3]3
Полента – блюдо из кукурузной муки.
[Закрыть] он уже не мог есть. А ты знаешь, если в наших краях бедняк не может есть поленты, значит, пора звать священника и готовиться к смерти. Да он и был готов к вечному отдохновению, он его наверняка заслужил. И если есть рай, то и рай он заслужил, ведь он мухи не обидел, хотя все семьдесят лет жизнь била его без передышки. Девять детей вырастил. Сколько трудов на это положил! От зари до зари махал киркой и все надеялся, что его детям не придется так надрываться. Он мне сам говорил, верил: когда его дети вырастут, все будет иначе. Как «иначе», того он не знал. А кто знал? Только он верил, что будет иначе… Странно! С тех пор, как я тайком начала читать это, – кивком головы она показала на стопку брошюр на полке, – мне кажется, я тоже так думала. Не стану врать, я не думала ясно… в словах, а… как бы это сказать… скорее неопределенно… чувством. Ведь ты меня понимаешь? – спросила она в замешательстве.
– Конечно, понимаю, – согласился я, видя, как ей неловко.
– Ну! – она громко, с облегчением вздохнула. – А если с давних пор люди так думали и верили, должны были родиться дети, которым было суждено воплотить эту веру в жизнь. Не так ли? – спросила она и подняла голову.
– Разумеется, – с готовностью подтвердил я, потому что тетя становилась мне все более и более симпатичной. Она уже не казалась мне злой уховерткой. И совсем не напоминала трепало. Трепало, впрочем, напоминала, поскольку была костлявая и изможденная, но изможденная здоровым крестьянским трудом, а не тем, что тридцать лет обметала паутину в затхлых комнатах разорившейся графини. Ее лицо, прежде восковое и жесткое, без малейшего намека на улыбку, теперь было загоревшим и, несмотря на глубокие морщины и бородавки, довольно приветливым и почти приятным. Глаза ожили, в них светились искренность и замешательство. Она загоралась, размахивала руками. И голос уже не был приторно-тягучим, как у торговки-разносчицы. Она говорила о причиненном нам зле, а не о «наказании за нашу грешную жизнь», как прежде. Короче говоря, это был обыкновенный человек, живущий понятной жизнью.
– Да, – она тряхнула головой, улыбнулась и, смутившись, отвернулась, заметив, что я ее разглядываю, – что я хотела сказать? Ага. Обрекары в старости остались одни, совсем одни. Нанде погиб в Карпатах. Петер только после войны вернулся из русского плена. Первого мая он пристроил флаг на самой вершине Кошутника. Карабинеры схватили его, притащили в казарму, избили, по волоску выщипали половину усов, а потом среди белого дня прогнали голого, под флагом, по селу. Да что я тебе рассказываю, ты и сам это помнишь.
– Помню, – слишком громко ответил я.
– Ну, и как ты помнишь, он в ту же ночь перешел границу. Там его позднее тоже арестовали. А после того, как он отсидел семь лет где-то в Сербии, вышвырнули через границу обратно. Здесь его опять схватили и сослали на острова. Четырнадцать лет бедняга провел в тюрьмах, а потом умер. Тюремные стены доконали… Видишь ли, раньше я не знала, какой силой обладает настоящая, честная мысль; она выпрямляет и укрепляет человека, и никакие муки не в состоянии его согнуть, он даже способен умереть за нее. Такие люди и до войны были, и еще раньше, они были всегда, зато другие в это время тянули ярмо, как скотина, и – вовсе не думая – думали и считали, что человеку так и положено, не заглядывая в завтрашний день, нести свое бремя, словно покорный вол, который изо дня в день тянет повозку, жует самое негодящее сено и даже мычать не смеет. Теперь я знаю, что человек… что человек… как бы это сказать… ах, да что тут искать слова! Он все! Все! Выше всего!
Она замолчала, опустила голову и разглядывала свои мозолистые ладони, как будто на них написана история ее холопской жизни. Потом аккуратно вытерла руки о передник, словно перечеркивая свое ничтожное, недостойное человека прошлое и поспешно, чересчур громко продолжила:
– Самая старшая его дочь, Нанца, до двадцати двух лет ходила на поденщину. В один прекрасный день она обозлилась и заявила, что не собирается всю жизнь гнуться в три погибели и выпалывать сорняки на чужих полях. Уехала. Вначале в Триест, а оттуда – в Египет, где и зачахла через четыре года… Одному богу ведомо, как там женщины зарабатывают себе на хлеб? – в раздумье произнесла она и посмотрела на меня исподлобья. – Тебе это лучше известно, ты же поколесил по свету.
– Известно, – кивнул я. – Но, может быть, все было не так плохо.
– Может быть. Но говорили и так. Да ты знаешь, как бывает: если надо посыпать женщину навозом, каждый бабий язык превращается в навозные вилы… Ладно, оставим это, лучше я расскажу, что было дальше. Их сына, Наца, арестовали, у него нашли запрещенные книги и журналы. Осудили на шесть лет. А у парня было слабое здоровье, он ночи напролет сидел над книгами. Говорят, даже стихи сочинял, во всяком случае, парни его дразнили и называли Грегорчичем[4]4
Симон Грегорчич (1844–1906) – видный словенский поэт-лирик; выходец из крестьян.
[Закрыть]. Умер он через три года в Южной Италии. Я слышала, гам болотистые и очень нездоровые места.
Я кивнул.
– Вот так у Обрекара осталось всего три сына: Нейц, Стане и Мирко. Всех троих забрали в солдаты, как только началась война. И отправили в штрафные батальоны. Младшего из них унесла на тот свет малярия, в Сардинии, еще в сорок первом.
– Тяжелые испытания.
– Тяжелые. Но они его не свалили. Он только ворчал: «Всегда-то моих парней преследовали, на всех фронтах они дрались и умирали, а сейчас, когда пришло время впрямь взяться за винтовку, их нет. Ни одного, а ведь было шестеро». Видишь, как продуманно, как лицемерно нас истребляли и изгоняли из родных мест! – воскликнула тетя, и в глазах ее сверкнула огнем святая ненависть, объединяющая униженных и обиженных.
– Такой у них был план, – пояснил я. – В сердце Европы живем. На очень важном перекрестке. Не только Италии, а всему грабительскому западному миру мы – помеха…
– Правильно! – возмущенно подтвердила тетя. – Поэтому нас и резали на части! Поэтому нас в конце прошлой войны и продали Италии!
– Именно поэтому три дня назад мы должны были оставить Триест!
Тетя ахнула, как будто у нее закололо в груди. Нахмурила брови и шумно вздохнула. Хотела что-то сказать, но передумала, потому что ее взгляд остановился на фотографии Обрекара. Она долго смотрела на нее и уже спокойно сказала:
– Впрочем, на этом жизнь не кончается. И Триест они не отрежут и не унесут с собой в кармане. Он нас дождется!
– Дождется! – согласился я и поторопил ее – А теперь рассказывай дальше!
– Правильно! – подскочила она на стуле. – На чем я остановилась? Вспомнила. Я хотела рассказать тебе об Иванке. Она была швеей. Задорная и красивая как куколка. Влюбилась в командира роты карабинеров. Разумеется, у Обрекара было очень тяжело на душе. Можешь себе представить. Он умолял ее, говорил о Нанде и Наце, просил, ругал ее ругательски, даже слушать было тошно. Куколка кинулась к нему в ноги и заявила, что больше так не может. И уехала с карабинером. Но счастлива она не была. Пять лет назад умерла и послала Обрекару своего семилетнего сына. Мальчишка оказался черный, как цыган, а глаза у него были материнские, голубые и красивые. «Глаза у него наши», – сказала Обрекарица. «Что есть, то есть, – согласился Обрекар, – только бы не был тупоумный». «Снова ты за свое!» – разозлилась Обрекарица, которая помнила его брюзжание – как только у Обрекаров рождался ребенок, он ворчал: «Когда ребенок рождается, скоро можно понять, какой он будет: не хромой, руки на месте, слышит, не слепой, горба нет, только вот в голову ему не заглянешь. А у бедняков именно такая беда часто случается». Ребенок не стал тупоумным. Совсем наоборот. Он был умным. По сути дела даже мудрым. Звали его Борис. Старики привязались к нему и ждали, может кто из детей вернется. Но ни один не вернулся. До сих пор. Нейц прислал письмо из южной Франции, где вкалывал на английскую армию, а Стане написал из Америки – он там в лагере для итальянских военнопленных. Что же это такое? – возмутилась тетя. – Двадцать пять лет мы боролись за освобождение, были союзниками, когда союзников и в помине не было, а сейчас эти же союзники прячут наших в лагерь для пленных, даже для итальянских военнопленных. Как от такого крови не закипеть! – Она махнула рукой. – Впрочем, сейчас мы говорили о…
Глаза у нее блестели. Она бросила взгляд на фотографию и покачала головой.
– Что бы он сказал, если бы дожил до всего этого? А ведь он первым начал!
Она спрятала прядь волос, выбившуюся из-под выцветшего платка, и принялась рассказывать, уже спокойно:
– Дело было так. Весной сорок второго жена долго уговаривала его сходить за весенним поросенком на Облакову вершину. Обрекар упирался. «На моих ногах на Облакову вершину уже не подняться», – твердил он. Но старуха его все-таки отправила. С ним пошел Борис и Смукач. Прекрасный был пес и очень умный к тому же. Волкодав. Обрекарице дрова на кухню носил, здоровье у нее было слабое, – боялась она на холод выходить. Смукач тоже погиб. Было это в прошлом году на сретение. Вечером из Толмина принесло домобранов. А с ними Дрнулов Дрейц, этот подонок, это ничтожество. «Где партизаны?» – орут и давай переворачивать вверх дном все в доме. «Так они и будут вас ждать», – сказал Обрекар. «Понятно не будут, коли эта скотина тоже за партизан», – шумел Дрейц и старался держаться подальше от Смукача, который бросался на него. «Прикончи зверюгу!»– посоветовал кто-то. И Дрейц пристрелил, на это у него храбрости хватило. Смукач даже голоса не подал, только с укором посмотрел на него, совсем по-человечески посмотрел, как умеют хорошие собаки; скорее всего, их верность такими делает. Дрейца этот взгляд не иначе задел за живое, потому что он уж больно медленно убирал свой револьвер. И тут раздался голос Обрекара, который вышел на порог. «Дрейц, Дрейц, – покачал головой Обрекар, – знал я, что ты свою душу загубил, но не думал, что ты ее сапогами топтать будешь». Дрейц не возмутился, не зашумел. Только сгорбился, как будто полный мешок навоза ему на спину взвалили. Да будь он из камня, эти слова должны были его пронять, ведь однажды Обрекар спас ему жизнь…
– Вот как? А когда? – спросил я.
– Во время капитуляции Италии. Наши поймали его и не сносить бы ему головы… Конечно, его все равно нет в живых, только погиб он как наш, как партизан. А мог умереть последним негодяем, если бы Обрекар и Фра Дьяволо не заступились за него…
– Кто-то?
– Фра Дьяволо, – с гордостью повторила тетя. – Впрочем, – она усмехнулась, – ты этого знать не можешь, ведь тебя не было дома. Фра Дьяволо – это партизанская кличка дядюшки Травникара. Ведь ты его помнишь? Его еще называли Ейбогу.
– Ейбогу! – воскликнул я, внезапно увидев в зеркале своей памяти дядюшку Травникара – волосатого, бородатого и усатого гиганта, сельского громовержца. Он был добряком, хвастливым добродушным добряком. Сын богатого крестьянина, он после смерти отца не захотел остаться дома, чтобы не быть батраком у старшего брата. Уехал в Боснию, где до начала первой мировой войны рубил лес. Домой вернулся лишь через год после войны. Оказалось, он служил не у Франца Иосифа, а был у четников, о чем рассказывал днем и ночью. Может, поэтому он и не брился. Работать не очень любил. Слонялся по деревне, сидел в корчме у «Моего Иисуса» и диванил[5]5
Диванить (от тур.) – беседовать, разговаривать.
[Закрыть], как он теперь выражался. Диванил, разумеется, только о Боснии, о Санджаке и Черногории, поэтому скоро все село узнало об этих героических краях. Он бы и дальше диванил, если бы молодая Травникарица не угадала его слабое место: она почувствовала, что этот дикий человек, способный говорить лишь о ружьях и саблях, любит детей, и ловко и быстро укротила его, превратив в отличную няньку.
– Нет ничего странного в том, что он стал партизаном, – заметил я.
– Да еще каким! – горячо откликнулась тетя. – С осени сорок первого он исчез. Из села самым первым. Вот так, и бороду потом сбрил – уж очень он злился на четников.
– А почему его назвали Фра Дьяволо?
– Почему? Ты, конечно, не помнишь старого священника Чари. В прежние времена, перед первой войной, тогда он был еще крепкий, чуть разозлится, поминает какого-то Фра Дьяволо. Говорят, это ария такая из оперы о разбойнике[6]6
«Фра Дьяволо» – комическая опера французского композитора Франсуа Обера (1782–1871).
[Закрыть]. А когда Чари погиб, эту арию стал напевать Травникар. Как будто получил в наследство. И напевал он ее все время. Скорее всего, и в партизанах тоже, поэтому его так и окрестили. А кличка эта очень ему подошла; говорят, дьявол был, не солдат. Вот он-то и наставил Дрейца на путь истинный.
– Как так?
– Потерпи, расскажу. Началось это, как убили Смукача, которого всем нам было очень жалко. Борис плакал целый день. За хлевом, под старой грушей, выкопал яму. И уж коль скоро я оказалась там, пошла, как говорится, на похороны. Борис положил пса в яму, погладил, а потом повернулся к Обрекару. «Дедушка, ведь правда, – спросил он, – Смукач тоже был партизаном?» Обрекар вытер мальчику слезы и решительно подтвердил: «Был! Люди стали такими собаками, что собаки вынуждены погибать, как люди!» Да ведь твоего Пази тоже застрелили, – произнесла тетя изменившимся голосом и посмотрела на меня.
Я вспомнил нашего доброго Пази, волкодава, которого карабинеры застрелили пятнадцать лет назад, когда я вернулся из римской тюрьмы домой под надзор полиции. Карабинеры говорили, что он лает за пять минут до их прихода и благодаря этому я могу спрятать все недозволенное. Пази мы тоже похоронили.
– Да, такие они были. Даже собакам жить не давали! – воскликнула тетя. – Давай, я расскажу дальше. Уже на следующий день Дрейц, совершенно удрученный, приплелся к Обрекару и попросил, чтобы тот переправил его к партизанам. Ясное дело, Обрекар ему не поверил. Но Дрейц не отступал. Сел во дворе на колоду и с места не сдвинулся, пока Обрекар все до тонкости не обдумал. Понял, что от него не отвязаться, и отвел к Травникару, пусть там разберутся. И Травникар взял его в оборот. Скорее всего, очень крепко. Но зато преобразил. Потом он умер у него на руках…








