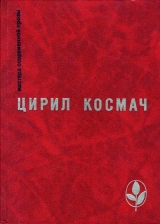
Текст книги "Человек на земле"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Видно, бабуся, ему не хочется есть, не то бы он так не смеялся.
Старуха обнимала ребенка, к глазам ее подступали слезы.
Боснийцы уже не играли в карты. Хосу не получал пухлых посылок от дяди. Тасич бросил свою домру в печь, украдкой ел хлеб и стал еще молчаливее. И работал молча или злобно ругаясь. Вскоре его придавило упавшим деревом. Когда принесли расплющенное тело, Кристиница кинулась к матери, вцепилась прозрачными ручонками и подняла заблестевшие черные глаза:
– Мама, а кому теперь достанется хлеб дяди Тасича?
Кристинице он не достался – его съели солдаты. У девочки началась золотуха, и, хотя ей надели золотые сережки, а на шею повесили на шнурке три золотых колечка, поили молоком с молотым липовым углем, окуривали дымом осиных сот, спасти ее не удалось. Детский организм был подорван. Священник прислал ей ломоть белого хлеба, Кристиница схватила его и, улыбаясь, прижала к себе. Глаза ее закрылись.
Солдаты ушли. Нанца и Кати родили. Появились итальянцы, поставили в центре села полевую кухню, варили рис и макароны. Франчек и Венчек ходили к ним с большим горшком, а потом до позднего вечера бегали по селу.
Служили благодарственный молебен «За счастливое окончание мирового побоища». В церкви не протолкнуться. Священник торжественно ступил на амвон. Он опять ничего не боялся, на лице появилось прежнее выражение уверенности сельского владыки. Паства снова принадлежала ему. Прочитав молитву, начал проповедь:
– Дорогие чада мои, господь бог помиловал слуг своих недостойных, отвел от них меч войны. Преклоним колена и возблагодарим господа из глубины сердца. Страшный сей мор не обошел и нас. Пали смертью храбрых Йозеф Кривец, Иван Куштрин, Мартин Лапаня, Франц Хвала, Андрей Клеменчич и Антон Водрич. Пропал без вести Жеф Обрекар. Добрый и богобоязненный был человек и детей своих воспитывал в страхе божьем.
Нанца, узнав, что мужа считают пропавшим без вести, нашла в этом свое оправдание. Когда священник упомянул о полной греха жизни, о падении нравов, вызванном войной, она опустила голову, а когда он поведал, что война – обширное поле, с которого сатана собрал урожай в много тысяч дунг, потом, возвысив голос, напомнил, что милосердие божье неисчерпаемо, что все женщины, оскорбившие мужей дурным поведением, должны вымолить прощение сперва у бога, потом у своих обманутых мужей, Нанца залилась слезами. Ей от всей души захотелось увидеть Жефа. Она бросилась бы перед ним на колени, умоляла бы, чтоб он ее не убивал, а Жеф, конечно, поднял бы ее с колен и простил. Встань, сказал бы он, ибо все мы грешники.
Священник сошел с амвона. Старый хромой органист никак не мог отыскать ногами нужные педали. Наконец орган заиграл. Стекла очков органиста словно бы помутнели, и две слезы упали на слова «Те Deum»[1]1
«Тебя, бога, хвалим» (лат.).
[Закрыть] и «Velicastno»[2]2
Торжественно (словенск.).
[Закрыть].
III
Жеф бросился вон из дома. Пол в сенях заскрипел, закачались каменные ступеньки. Он уперся в колоду и только здесь перевел дух. Уставившись на тупые носки грязных сапог, стянул засаленную фуражку, поплевал на мозолистые руки и потер вспотевшую лысину. Злость и жажда мести сменились горькой обидой и растерянностью. Однажды, когда он был еще сопливым мальчишкой, хозяин избил его за то, что он небрежно бросил картофельную кожуру на стол и «дар божий» упал на пол. Жеф убежал, до вечера прятался на пастбище – придумывал, как отомстить хозяину. Готов был даже повеситься. Та же мысль пришла ему в голову и сейчас. Может, хоть тогда отдохнет. Несколько минут он тешил себя этой картиной.
«Ха! Вот и веселитесь потом», – подумал он и потер руки. Губы расползлись в злорадной ухмылке.
Жеф нахлобучил фуражку, снял ремень и пошел к груше. Потянулся, пытаясь ухватиться за сук, но не достал. Тогда он подтащил к дереву тяжелую колоду, взобрался на нее и закинул ремень на сук. Ветка склонилась, и ему за шиворот упали холодные капли воды. Жеф тряхнул головой, сжал кулаки и, глядя в небо, процедил:
– Будьте вы прокляты, не повешусь!
Заскрипела дверь, на пороге показался Якоб в исподнем. Он открыл было рот, чтобы закричать, но лишь потыкал палкой о каменные ступеньки. Жеф спрятался за угол дома. Открылось окно, высунулась Нанца:
– Куда он подался?
Якоб показал палкой на гору. Даже не оглянувшись на фыркающих лошадей, Жеф садом вышел на широкую расхлябанную дорогу над рекой.
– Испугались, проклятые, – кипел он, жалея, что они не видели, как он собирался вешаться. – Вот крику было бы, руки б ломали от горя.
Жеф шел между вербами, спотыкаясь о корни. Ветки хлестали по лицу, за воротник стекала вода. Выйдя на узкую мокрую просеку, он остановился среди черных широколистых лопухов и сдвинул шапку на затылок. На сердце была жгучая пустота. А ведь он возвращался, полный большой светлой надежды. Нес ее в потных руках, как ребенок игрушку. А теперь эта надежда словно затерялась в высокой болотной траве. И как у ребенка, от обиды и злости у него потекли слезы, застревая в глубоких морщинах на небритых щеках, в уголках рта.
Жеф достал из кармана кисет, сунул в рот табак, разжевал, сильно работая зубами, и выплюнул далеко в кусты. Вышел к реке. Река текла, шлифуя огромные камни. От ее мягкого плеска у Жефа заныли ноги. Он вспомнил, что две недели не разувался, уселся и начал стягивать сапоги. Резкий запах пота ударил в нос, пальцы на ногах были разъедены. Жеф медленно опустил ноги в воду. Ночь была светлой. Над гребнем горы тянулась белая дымка, по долине гулял ветерок. «К погоде», – понимающе кивнул он. Ближе к противоположному берегу вода с шумом разбивалась об утес. Где-то в запруде охотилась выдра. Неподалеку в усадьбе пропел петух. Занималось утро.
Жеф сидел над рекой и жевал табак. Потом натянул сапоги на босые ноги и зашагал в село. Люди уже вставали, из труб поднимался дым. Жеф направился к Цестарю, уселся за стол и, надвинув на глаза шапку, приказал:
– Водки!
Цестарь подошел вразвалку, подтягивая на ходу штаны на круглом животе и заправляя рубашку. Достал деревянную табакерку, ухватил щепоть табаку, положил на тыльную сторону ладони и втянул в нос. Уставившись на Жефа, закричал:
– Те-те-те, пятнадцать петухов, гляди-ка, да это никак ты, куманек Жеф? Когда вернулся? Сегодня? А дома что ж? Нет еще? Перво-наперво ко мне? Еще бы! Те-те-те, пятнадцать петухов, сколько ж мы с тобой не виделись? Ой-ой, а ведь тебя считали пропавшим без вести. Молились за тебя. А я всегда говорил: «Конечно, все в божьей власти, но я верю, вернется». И ты вернулся. Те-те-те, пятнадцать петухов!
Жефа трясло от злости. Он прятал руки под стол, чтобы не дать Цестарю в ухо. Он и раньше терпеть его не мог: толстый как бочка, а язык что помело. «Куманек, куманек, пятнадцать петухов». Черт бы его побрал! Жеф молча выпил водку и поставил стакан перед Цестарем.
– Еще!
Цестарь вышел, но вскоре вернулся. Подтянув штаны, насыпал табаку на руку и не спеша втянул в нос.
– Так, говоришь, дома не был? Те-те-те, пятнадцать петухов! – взялся он за свое, громко чихнув. – Нехорошо, нет. Понятно, все мы грешники, все, но бог простит – тело грешно, а душа чиста. И еще, куманек, сам понимаешь, как-никак это Медведевы…
Жеф был сыт по горло. Он сдвинул шапку на затылок и грудью пошел на Цестаря, тот отскочил.
– Молчи уж! Те-те-те, пятнадцать петухов, все они одинаковые. И твоя не лучше. Трактирная баба что качели – кто хочет, тот и качается! – кривил он рот в крике.
– Куманек, нехорошо говоришь, – забормотал Цестарь, испуганно отступая.
Жеф умолк. Натянул шапку на глаза, зло сжал губы.
Весть о том, что вернулся Жеф и пьет у Цестаря, разнеслась по селу. Мужчины один за другим заходили в трактир, похлопывали Жефа по плечу, о чем-то спрашивали, не получив ответа, говорили добрые слова и, выпив вина, уходили. Пришли бабы. Пасенчуркова Ера, умевшая вычистить языком все углы, безбоязненно подошла к Жефу, поправила ему шапку и, любуясь своей ролью утешительницы, пропела:
– Эх, и на что тебе было жениться, но, видно, бог ведает, что творит.
Эти слова задели Жефа за живое, он вскочил, точно в него плеснули кипятком, шапка сползла на затылок, обнажив мокрую лысину.
– Что? Бог ведает? Значит, бог ведает, что творит? А разбойник или вор тоже ведают, что творят? А если я вобью тебе голову в живот или вышвырну свою бабу в окно, выходит, и я ведаю, что творю? Или как? Что ж это за дела? Война – иди с богом на смерть. Мир – живи с богом мирно. Вот тебе святые заповеди и пащенок в придачу. А где он теперь, бог, со своей помощью? Сидит в небесах на золотом престоле, слушает пение ангелов да, прищурясь, разглядывает в дырку наш свет. Само собой, видит меня и скорбит, и записывает в долговую книжку, как Цестарь: «Те-те-те, пятнадцать петухов, Жеф меня поносит, Жеф – богоотступник, Жеф свою бабу выгнал». Так говорю или не так? Так. У кого деньги да пушки, с теми и бог. Царь с царем помирится, ворон ворону глаз не выклюет. Трус да угодник с богом ладят. Да здравствует война! Долой войну! Что сегодня грех, то завтра добро, а что добро, то грех. – Жеф выпил залпом еще стакан водки, опять натянул шапку на глаза, пожевал табак и выплюнул прямо на пол. Теперь он мог помолчать. Старухи, слушая его, крестились.
В те дни вернулись с войны еще несколько солдат, это прошло незаметно. А вот о Жефе Обрекаре говорили все. Слух о его разгуле и богохульстве дошел до священника. Настало воскресенье. Кончив читать Евангелие, священник достал пестрый платок и громко высморкался. Все знали, что это не к добру. И верно, почти вся проповедь была посвящена Жефу Обрекару, сбившемуся с истинного пути католику, который прежде жил тихо и праведно, в страхе божьем, и в страхе божьем воспитывал детей своих. Но семя порока запало в его душу, и бог оставил его своей милостию. Богохульничает Жеф Обрекар, над ним же перст божий.
А Жеф пил и в воскресенье.
– Выгоню, – говорил он каждому встречному. – Вы б видели, как она стояла, важная да гордая, будто новый дом мне подарила. Впору на колени броситься и сказать: «Благодарю тебя от души за такое старание». Выгоню. Выгоню и возьму себе девку, здоровую, молодую девку. А Нанца пусть убирается, не то я ей голову оторву.
– Молодец, Жеф, так и сделай, – одобряли приятели.
Весь день он пил и буянил, размахивал ножом, проклинал все на свете, к вечеру глаза у него совсем помутнели и закатились. Явились жандармы и вышвырнули его из трактира.
Шатаясь, Жеф пошел через мост в село с твердым решением убить Нанцу, но силы его оставили, он свалился прямо на дороге. Проснувшись, увидел, что уже темно, и побрел дальше. Хмель еще не вышел, однако Жеф начал понимать – пора взять себя в руки, как подобает мужчине. Хватит буянить и срамиться. Он придет домой и укажет жене на дверь. «Чтоб духу твоего здесь не было, и твоего тоже», – он имел в виду Кати.
Потихоньку, стараясь остаться незамеченным, повернул на тропинку, пролез через дыру в ограде и вошел в дом. В кухне было пусто. В углу комнаты сидел Якоб и резал груши для сушки.
– А они где? – спросил Жеф.
– Ушли.
– Когда?
– Да только сейчас.
Жеф был поражен. Он снова надвинул шапку на глаза, сжал кулаки. Не он выгнал, сами ушли. Это его взбесило. От обиды и стыда он готов был провалиться сквозь землю. Проклятые бабы, выходит, они ему указали на дверь. А Якоб, само собой, злорадствует.
– Небось вы их подучили? – набросился Жеф на старика.
– Я? Бог с тобой! – съежился Якоб. – Пасенчуркова Ера прибегала, рассказывала, как ты у Цестаря грозился зарезать Нанцу и нож припас. Вот они и ушли.
– Проклятые, я им покажу, они меня еще узнают! – процедил сквозь зубы Жеф и, хлопнув дверью, вышел. На крыльце постоял, задумавшись, пересек двор, напился воды и улегся на озороде[3]3
Сооружение для сушки снопов и сена.
[Закрыть].
IV
Уже наступил день, когда Жеф проснулся. Он потянулся на своем ложе, зажмурился, протер руками глаза и только тогда пришел в себя.
Перед ним поплыли картины минувшего дня. Со стыдом и горечью он увидел себя – вот, шатаясь, бредет по дороге, несет в трактире бог знает что, пьет, как в чаду, водку стакан за стаканом, вскакивает, садится, заламывает руки и ноет, точно баба, которой только и дела, что болтать о кофе и согрешивших девках. Он вел себя как мальчишка. И хныкал как ребенок. Кричал, голос срывался – это вместо того, чтобы солидно сидеть и говорить басом, уверенно, как положено мужчине. Рассказал бы что-нибудь занятное, хотя, может, никто бы его и слушать не стал. А он, пьянчуга, нес всякую чепуху. Бабы, точно, визжали, но бабы визжат по всякому поводу. Священник о нем говорил в воскресной проповеди. Так ничего не добьешься, пользы никакой, только чести поубавилось. Пащенок – вот он, живой, здоровый. Хоть лопни от злости, никуда от него не денешься. Пожалуй, было бы умнее принести ребенку кулечек конфет, взять на руки, поиграть с ним, он-то в чем виноват? А Нанцу вздуть как следует и учить время от времени, чтоб слушалась, одного его взгляда боялась, угадывала б каждое желание, носилась бы с ним, как курица с яйцом, а он…
– Ф-ю-ю… – засвистел Жеф и взмахнул рукой, точно кнутом, – вот так бы и гонял ее, ровно скотину.
Он сам своим дурацким поведением все испортил. Со временем он бы ее простил. Только Нанца не стала дожидаться, ушла, ей на него наплевать, и на его дом, и на его прощение. Надо было остаться да посчитаться с ней с глазу на глаз, по-мужски, а он бегал по селу со своей тоской и болью, словно побитая собака.
– Что ж теперь делать? – спросил он себя вслух.
Вопрос долго оставался без ответа. «Работать на себя самого!» – и он расправил широкую грудь. Мука есть, кофе и сахар есть. Первое время даже в село ходить не надо. Работать, как он мечтал на Украине. У него будет доброе хозяйство: пашни, хлев, коровы, бык – все, что требуется. Нанца ушла, земля осталась, а это главное. И чтоб его громом убило, если он за ней пойдет. Сама явится, голодная, станет на дороге и будет с того берега жадно смотреть на его свежевспаханное поле. Он так живо представил себе эту картину, что тут же, полный решимости, вскочил. Натянул сапоги, спустился по лестнице, остановился перед озородом и огляделся. Утро было ясное, бледно-желтое, листья золотились в первых лучах солнца, чуть веял ветерок. Прямо перед ним с ветки сорвалась груша и упала сквозь листья у самых его ног. Жеф нагнулся, поднял ее, обтер о штаны и съел. Четыре года не пробовал он своих фруктов и с благодарностью посмотрел на дерево.
Жеф направился к желобу, снял рубашку, фыркая, умылся. Потом сунул в рот щепоть табаку, пошел в сад. Он хотел было выйти в поле, но остановился за домом, с грустью качая головой. Разве это поля? Куда ни глянь – постройки, земли совсем не видно.
– Нивы. Какие тут нивы? Платки носовые, – вздохнул он.
Вышел на лужок. Кони стояли там, где он оставил их в первую ночь, привязанные к ореху. Никто не позаботился их распрячь, напоить, задать сена, завести под крышу. Они обглодали все дерево, гривы растрепались. К тому же накануне шел дождь, мешки промокли, сахар набух, мука слиплась. Жеф распряг лошадей, повел во двор и вернулся – ставить их было некуда, сарая не было, а хлев, где когда-то держали корову, был слишком мал. Может, сделать конюшню в одной из тех построек? Жеф ходил от одной постройки к другой и все больше огорчался: они были сложены из круглых камней, скрепленных цементом. Когда же он все это разберет да начнет пахать? Послать бы всех к чертям: Нанцу, Кати, пащенка, дом, коней, луг – и вернуться на Украину. Но Украина далеко. Ничего не оставалось, как плюнуть желтой слюной на руки, чтобы кирка не скользила, и взяться за дело. Какое счастье, что у него есть лошади.
Наконец он нашел подходящую постройку и поставил туда лошадей. Потом вернулся к телеге, взял мешок сахару, отнес в дом. Кухня была пуста, на остывшем очаге дремала кошка. Дети ушли собирать фрукты. Когда Жеф вошел, Якоб только поднимался.
– Почему не распряг лошадей? – бросил ему Жеф.
– Что ты! Как бы я посмел! – удивился старик. – Ведь я их никогда не касался.
– Ничего, не съедят, – сказал Жеф. – Чуть не околели.
– Да я и не знал, чьи они. Лошади теперь у всех есть, только у нас нет. А казенного добра я трогать не смею. Придут жандармы, найдут, вот и посадишь сам себе черта на шею, – мямлил Якоб.
– Лошади мои, некому за ними приходить, – перебил его Жеф.
Старик замолчал. Тут что есть силы завопила старуха:
– Нанца! Нанца!
– Чего орете? – ощетинился Жеф.
– Кофе нет, – объяснил Якоб. – И табаку тоже.
Жеф открыл дверь и сказал:
– Ничего, потерпите. Кофе у меня есть, а вот табаку нет!
– Нет? Это почему же нет? – завизжала старуха.
– Я его не нюхаю, сами знаете, – отрезал Жеф.
– Слышали вы такое? Ну и зять! Разве так отвечают больной матери, что вот-вот предстанет перед божьим престолом! Жену извел, теперь взялся за мать-старуху? Такая твоя благодарность! Мы тебе землю дали, а ты лаешься! Ох, как я не хотела, правда, Якоб? Это ты все твердил, что парень работящий, тихий, честный, старательный, учтивый, богобоязненный и не знаю еще какой! Разбойник он! Да и что найдешь хорошего в горах! В ложке воды всех нас утопил бы! Да?
Жефа будто обожгло. Когда его попрекали горами, он мог сокрушить все вокруг, и опять же, старуха выбранила его как мальчишку. Он поводил руками, точно отыскивая палку, и раскрыл было рот, чтобы цыкнуть, но передумал. Проглотил горькую табачную слюну, вытащил из кармана кисет, взял щепотку табаку и высыпал на ладонь старухе, у той глаза полезли на лоб от удивления. Этого она не ожидала. Отвернувшись, чихнула.
Пришли домой дети. Жеф велел им затопить печь. Они быстро развели огонь, налили в котел воды, повесили на цепь и стали ждать, что дальше. Жеф принес мешок муки, поставил у печки и принялся готовить похлебку. Открыл три банки консервов, положил в воду. Дети, не сводившие глаз с котла, защебетали, как птенцы, им хотелось все видеть, все знать. Теперь они любили отца и позабыли, какой стоял шум, когда он вернулся; раскрыв свои клювики, ели, что он давал, и смотрели на Жефа во все глаза, удивленные и благодарные.
– А теперь – марш! – скомандовал Жеф, когда они расправились с едой. – Есть хотите – работайте. – Дети зашумели. – Стряпать будете вы, – повернулся он к Якобу. – Вот мука. Сварите клецек, чтоб полный котел был.
– М-м-м… – загудел пораженный старик. Выходит, он должен стряпать. Никогда ему не приходилось делать ничего подобного. – Да, да, – мямлил Якоб, – живому все достается, а вот мертвому – одна могила. – И покорно склонил свою маленькую птичью головку.
– Жеф! – окликнул он зятя жалобным голосом, когда тот пошел из дома. – Надо бы мать вынести, сегодня вроде тепло.
– Сейчас, – с охотой кивнул Жеф. Якоб был слаб, пришлось позвать на помощь мальчиков. Старуху уложили на колоду, Веронику приставили смотреть за ней. Девочка повиновалась, хотя ей очень хотелось пойти со всеми в поле, мальчики были в восторге, Венчек показал сестре язык.
В поле мальчишки вели себя героями – работали с невероятным упорством: лазили на крышу, разбирали камни, срывали годившиеся на топливо доски.
Отзвонили полдень, все пошли домой. Жеф захватил с собой бревно, и мальчики взяли по бревну. Они кряхтели под тяжестью, однако не сдавались, ни один не хотел казаться слабее другого. Дома у колоды, прокричав «раз, два, три!», с грохотом сбросили бревна на землю.
Из двери шел дым, как из пекла. Якоб стоял у очага, заливаясь слезами. Он не умел стряпать и не был привычен к дыму, не то что женщины. Клецки он замесил на холодной воде, часть из них приклеилась к стенкам котла, часть слиплась, часть стала твердой, как глина. Кипеть они кипели, а вариться не желали никак. Жеф заглянул в котел, усмехнулся, хотел пошутить, но почему-то разозлился и стал учить тестя варить клецки. Наконец уселись за стол. Трудно было назвать стряпню Якоба вкусной, но уж очень все проголодались. После обеда Жеф велел Якобу сварить на ужин суп с заправкой и подробно рассказал, как это делается. Якоб понимающе кивал, и Жеф с детьми вернулся в поле. Работали дотемна. Так и бежали дни. Мальчики трудились старательно. Бревна и доски, которые приходилось носить, натирали плечи. То и дело ребята наступали босыми ногами на торчавшие из досок ржавые гвозди, вскрикивали, но, послюнив ранку, храбро шагали дальше; часто спотыкались о камни, однако и на это не обращали внимания. О пистолетах, патронах и саблях, спрятанных в надежных местах, они не вспоминали – теперь было не до игрушек. За столом сидели вместе со взрослыми, ели вилками, хоть это было очень трудно и неудобно. Появившиеся в хозяйстве лошади приносили им много радости: они чистили их, поили, кормили. Изредка пробовали прокатиться верхом и, когда им за это доставалось, даже не морщились. Первой парой обычно правил Жеф, второй – мальчики, кнут держали по очереди.
Жеф работал, пока хватало дыхания. Он без устали таскал бревна, доски, камни, а когда постройки были разобраны, принялся за межу. Мальчики не могли еще работать киркой, они собирали с пашни камни и сносили в кучи. Вечером, когда, не чуя ног, возвращались домой, Жеф сидел, опустив руки и закрыв глаза, – вспоминал Украину. Да, здесь такого простора не увидишь. После ужина шли спать, мальчики на печь, а Жеф на озород. В комнату он не входил, там все напоминало Нанцу, это его злило.
Прошло две недели. Якоб варил еду: утром кашу из пшеницы с консервами, на обед клецки с консервами, вечером суп с консервами. Когда консервы вышли, он трясущимися руками посыпал кашу, клецки и суп сахаром. Сахару еще оставалось много. В доме было не голодно, но Жеф ворчал. Все в хозяйстве не клеилось. Не было молока, одежда грязная, дети выметали мусор прямо за порог, дверь уже открывалась с трудом. У Жефа постоянно чесалось под мышками и вокруг пояса. Он дважды стирал в реке свою одежду, однако вши не переводились. Нужны были женские руки. А Нанца не торопилась. В глубине души Жеф надеялся, что она придет через несколько дней. Она у тетки в горной деревушке, и та не может держать ее долго – он это знал. Рано или поздно должна вернуться. Он ждал, а Нанца не шла. «Упрямая баба, упрямая», – думал Жеф, но за ней не шел. Старый Якоб брюзжал: готовить он не привык, зрение было слабое, в супе попадались то обгоревшие спички, то тараканы. Жеф выходил из себя, а Якоб робел и, не отрицая своей вины, говорил:
– Женщина нам нужна, женщина!
– Чего там женщина! – взрывался Жеф. – Прикрой горшок, когда варишь, и все тут!
Якоб что-то проворчал, глядя на грязные тряпки. Жеф со злостью положил ложку на стол и твердо сказал:
– До весны перебьемся, а там найдем девку!
Якоб не стал спорить. «На все божья воля», – подумал он.
Мать время от времени звала Нанцу, то ли по привычке, то ли назло Жефу. Сперва это его раздражало, потом он стал спокойнее, и Анца утихомирилась.
Через несколько дней Жефа позвали к священнику, а идти было не в чем: чистой рубашки не нашлось. Он бегал по дому как шальной, кричал на Веронику, которая иногда кое-что стирала по мелочи.
– Женщину надо бы, – опять завел свое Якоб.
– Женщину, женщину! Где ее у черта взять, эту женщину! Из тряпок, что ль, сделать! Я за ней не пойду, так и знайте! – кричал Жеф. – Сама ушла, пусть сама и возвращается. – Он считал, сказано достаточно, чтобы Якоб сообразил послать за Нанцей, и даже добавил: – Здесь искать нечего!
Однажды к ним заявилась Пасенчуркова Ера. Шла мимо, вот и решила навестить Анцу. Между прочим Якоб повторил ей слова Жефа. В тот же день около полудня вернулась Нанца. Она шла над рекой, испуганно озираясь, как воровка, быстро пересекла луг и ниву, притаилась за домом – стала ждать, когда Жеф уйдет в поле. Как только он ушел, проскользнула в дом. Дети замерли, первой к матери кинулась Вероника. Мальчики медлили, боялись, что их радость может повредить дружбе с отцом. Нанца достала из кармана и положила на стол орехи и сушеные груши. Тут мальчики не выдержали. Вероника с криком «пойду расскажу отцу!» выбежала из дома. Мальчики не могли допустить, чтобы такую весть принесла отцу младшая сестренка. Они бросились за ней. Вероника упала и с разбитым носом кричала во весь голос:
– Папка, папка, мамка пришла, мамка пришла!
Подбежали запыхавшиеся мальчики, выпалили наперебой:
– Мамка пришла!
Жеф даже не шелохнулся. Мальчики смотрели на него, не зная, как быть. Они помнили о сушеных грушах и орехах, им очень хотелось поскорее вернуться домой.
– Эй, куда это вы! – окликнул Жеф. – Ну-ка, попрошайки, убирайте камни! И ты тоже, – обернулся он к Веронике, которая все еще хныкала и сквозь слезы повторяла: «Мамка пришла!»
В тот день они работали упорнее и дольше, чем обычно. Пусть знает, думал Жеф, пусть знает, что ему до нее дела нет. Последнее слово за ним! К тому же, моя пташка, мы еще не рассчитались. И если ты думаешь, что тебе все сойдет с рук, ошибаешься. Ха, теперь он потребует проценты.
Нанца принялась хлопотать по хозяйству. Подметала, убирала, чистила, мыла – ведь все в доме было вверх дном, – даже постирала кое-что на первый случай. Рубашку Жефа повесила прямо перед домом – пусть увидит, когда вернется с поля.
Но Жеф не зашел в кухню, как обычно, а, ворча, что ужин еще не готов, занялся озородом. Разобрал доски, переставил подпорки и бревна и все соображал, как вести себя с Нанцей. Что сказать? Побить, выгнать, обругать или смолчать? Не натворить бы опять чего-нибудь. Лучше молчать, это всегда разумнее. Тогда и она не разберется, что к чему. А ведь покорилась. Не может быть, чтобы пришла только за своими тряпками, тогда она не взялась бы так за работу. Пусть чувствует, что он в доме хозяин и что при нем не особенно-то поломаешься.
Когда он наконец вошел в кухню, было совсем темно. Молча сел за стол. Нанца поставила перед ним ужин, он поел, точно ничего не случилось. Ведь ужинали они и без нее! «Нет, всему конец», – ворчал он про себя. Дети смотрели на отца, затаив дыхание. Якоб сидел на ступеньках, ведущих в горницу, сжимая коленями палку и глядя в пол. Нанца, молчавшая слишком долго, решила заговорить первой.
– Детей пришла посмотреть, здоровы ли, – робко сказала она.
– Здоровы, – проворчал Жеф, – я их не съел. Думаю, все у них на месте. А не веришь, сама пересчитай им ноги, копыта, щетину, вот и убедишься.
Сказав, почувствовал, что нехорошо говорит – слишком резко и насмешливо, однако добавить ничего не хотел, чтобы не показаться чересчур мягким. Вот еще! Может, руку ей пожать да поблагодарить за встречу. На этом разговор замер. Каждый ждал, когда начнет другой. Оба были упрямы. Жеф сидел за столом, жевал табак. Нанца гремела посудой. Несколько раз он раскрывал рот, чтобы сказать что-нибудь, да передумывал. Наконец встали. Выйдя из кухни, Жеф по привычке направился к озороду. Улегся, укрывшись с головой пиджаком, и вдруг вскочил, шумно, скрипя половицами, прошел через кухню, снял сапоги и поднялся по ступенькам. Открыл было рот, будто хотел пожелать спокойной ночи, но промолчал. Где же ему спать, как не в комнате? И успокоился. Когда за ним закрылась дверь, Нанца спросила Венчека, где отец спал раньше.
– На озороде, – ответил мальчик.
– Гм, – мотнула головой Нанца. «Потоскуешь обо мне. Для постели да рожать детей я еще гожусь». И решила не идти к нему. Ни за какие деньги. Пусть спит один и думает, что хочет. Она долго бродила по дому, уложила детей, все перемыла, просеяла муку, поджарила кофе, а потом отыскала старый календарь и принялась его рассматривать. Так прошло часа два, и неизвестно, сколько бы еще она просидела в кухне, если б не подняла крик старая Анца:
– Ты что же это делаешь? Почему спать не ложишься?
– Спать? А где? К нему не пойду.
– Что-о? Вот дура! Благодари бога, что так все кончилось!
Нанца махнула рукой и вышла. Она постояла, раздумывая, потом сняла башмаки – и ступеньки, ведущие в горницу, заскрипели под ее ногами.
Утром Нанца проснулась спокойная и покорная, как прежде. В одной рубашке, босая, растрепанная, постояла на лестнице, потянулась, зевнула и подошла к Анце.
– Ну как? – спросила старуха.
– Что как? – ответила Нанца. – Был скотом, скотом и остался.
– Ну, а я что говорила! Все счеты между мужем и женой кончаются в постели. Помиритесь, еще и в барыше будешь, – твердила довольная Анца.
– Держи карман шире, – сказала Нанца, отворачиваясь, чтобы мать не видела ее улыбки.
Потом она сварила кофе. Отнесла Якобу и Анце. Жеф и сегодня не залежался. Когда он поднялся, Нанца встретила его с большой кружкой кофе:
– На, погрейся, отец.
Жеф был полон благодушия. Он бы даже сказал ей что-нибудь приятное, если б не стеснялся Якоба и детей. Нанца осталась на весь день, потом на другой, а там и на третий. Хозяйничала, варила, стирала, искала у детей вшей, которыми их наградил Жеф, да и Жеф, когда в полдень прилег отдохнуть, положил к ней на колени свою плешивую голову. Нанца так и светилась покорностью и добротой, на каждом шагу спрашивала его совета:
– Ты как считаешь, отец, может, сварить на ужин лапшу с сахаром? А завтра, пожалуй, испеку хлеб и оладьи. Когда человек много работает, ему надо много есть.
Жеф, чтобы не показаться слишком добрым, ворчал:
– Смотри, не переведи всю муку. Твоя мерка без дна, а зима большая.
Стряпать Нанца умела, только вправду не знала меры. Что ей в руки попадало, то пропадало. Извести мешок муки для нее что плюнуть – испечет раз, другой хлеб, пироги, оладьи – мешок пуст. Она пекла, варила и, чтобы угодить мужу, даже выходила в поле. Через несколько дней так освоилась, что послала Венчека к тетке за ребенком, потом сказала Жефу, что не плохо бы позвать Кати. Сколько съест, столько и отработает. И Кати пришла. Сначала одна, потом принесла ребенка. Все вошло в колею. Вставали на заре, пили кофе и шли в поле. Работали как каторжные. Детей Жеф от себя не отпускал. Когда открыли школу, он решительно заявил, что не позволит им учиться, однако вскоре сдался. Что же касается церкви, тут победа была за ним – в церковь дети не ходили. Или пусть тогда их господин священник сам кормит. Божьим словом сыт не будешь, а молиться можно и дома.
Эти речи привели в негодование все село. Бабы только и говорили что о Жефе Обрекаре и со страхом ожидали: вот-вот его постигнет божья кара.
Только Жефу было не до божьей кары и не до бабьей болтовни. Он работал за живых и за мертвых. Его снова обуяли мечты. Может, решиться построить хлев? Конечно, когда соберется с деньгами. У него есть роща, старая буковая роща, Якоб гордился ею, не трогал, берег, как драгоценность. Война ее пощадила. Якобу легче было примириться с прижитыми детьми, чем тронуть буки. И правда, буки Обрекаров были самыми высокими и крепкими. Летом в воскресные дни Якоб любил погулять там. В роще ни кустика, под ногами легкие сухие листья. Тихо, будто ходишь по пустой церкви. До войны Жеф тоже любил эту рощу. Там так легко и отрадно дышалось. Но теперь Жеф добрался и до нее. Многие продавали лес, и ценился он высоко. Это было единственное, за что можно было выручить деньги, чтобы поправить разоренное хозяйство.








