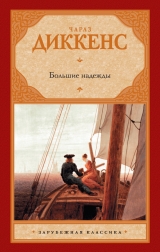
Текст книги "Большие надежды"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
Глава LV
На следующий день его доставили в полицейский суд, и дело было бы сразу назначено к слушанию, если бы для установления его личности не пришлось послать за старым надзирателем, служившим в плавучей тюрьме, откуда он когда-то сбежал. Никто в его личности не сомневался, но Компесона, который должен был ее засвидетельствовать, мертвого носило где-то по волнам, а в Лондоне в то время не случилось никого из тюремных служащих, кто бы мог дать нужные показания. Я еще накануне, сразу по возвращении, побывал на дому у мистера Джеггерса, чтобы заручиться его помощью, и мистер Джеггерс обещал не показывать против арестованного. Ничего больше и нельзя было сделать: он сказал мне, что, когда свидетель явится, дело будет решено в пять минут, и никакие силы на земле не помогут решить его в нашу пользу.
Я сообщил мистеру Джеггерсу свой план – скрыть от Мэгвича потерю его состояния. Мистер Джеггерс сердито попенял мне за то, что я «дал деньгам ускользнуть между пальцев», и сказал, что нужно будет своевременно подать прошение и попытаться хотя бы частично их сохранить. Однако он не утаил от меня, что, хотя далеко не все приговоры предусматривают конфискацию имущества, в данном случае ее не избежать. Это я и сам хорошо понимал. Я не состоял с преступником в родстве, не был связан с ним никакими признанными узами; до своего ареста он не написал никакого завещания или дарственной в мою пользу, а теперь это было бы бесполезно. Я не имел никаких прав на его имущество; и я принял решение – от которого никогда не отступал, – что не стану растравлять себя безнадежными попытками утвердить за собой такое право.
Были основания предполагать, что утонувший доносчик рассчитывал, в случае конфискации, на большое вознаграждение и собрал точные сведения об имущественном положении Мэгвича. Когда труп его наконец нашли – за много миль от места катастрофы и в таком обезображенном виде, что узнать его можно было только по содержимому его карманов, – кое-какие записи, хранившиеся в бумажнике, удалось разобрать. Там значилось имя банкира в Новом Южном Уэльсе, принявшего от Мэгвича крупный денежный вклад, и было перечислено несколько весьма ценных земельных участков. Оба эти пункта входили также в перечень, который Мэгвич дал мистеру Джеггерсу в тюрьме, воображая, что я унаследую все его богатства. Вот когда невежество этого несчастного пошло ему на пользу: он ни на минуту не усомнился, что раз мистер Джеггерс взял дело в свои руки, то наследство мое обеспечено.
По прошествии трех дней свидетель, которого дожидалось обвинение, явился, и несложное следствие было закончено. Мэгвич должен был предстать перед судом на ближайшей сессии, которая начиналась через месяц.
В эту-то тяжелую пору моей жизни Герберт пришел однажды вечером домой в большом огорчении и сказал:
– Дорогой мой Гендель, боюсь, что скоро я буду вынужден тебя покинуть.
Будучи подготовлен к этому известию его компаньоном, я удивился меньше, чем он того ожидал.
– Если я не поеду сейчас в Каир, мы упустим прекрасные возможности, и выходит, Гендель, что придется мне уехать как раз тогда, когда я тебе больше всего нужен.
– Ты всегда будешь мне нужен, Герберт, потому что я всегда буду тебя любить; но сейчас ты мне нужен не больше, чем в любое другое время.
– Тебе будет так тоскливо.
– Об этом мне некогда думать, – сказал я. – Ты же знаешь, – все время, сколько разрешается, я провожу у него, я бы целый день от него не уходил, если б можно было. А остальное время мысли мои все равно с ним.
Ужасающее положение, в каком оказался Мэгвич, так потрясло нас обоих, что мы были не в силах говорить о нем в более определенных словах.
– Дорогой мой, – сказал Герберт, – только в виду нашей близкой разлуки – а она очень близка – я осмеливаюсь задать тебе вопрос: ты подумал о своем будущем?
– Нет, я вообще боюсь думать о будущем.
– Но ты не вправе о себе забывать, никуда это не годится, дорогой мой Гендель Давай-ка, побеседуем немножко о твоих делах, по старой дружбе.
– Изволь, – сказал я.
– В нашей новой конторе, Гендель, нам понадобится…
Видя, что из деликатности он не решается произнести нужное слово, я подсказал – клерк.
– Да, клерк. И, насколько я понимаю, со временем он (подобно одному клерку, с которым ты хорошо знаком), вполне может превратиться в компаньона. Так вот, Гендель… словом, дорогой мой, приезжай-ка ты ко мне!
Пленительна была подкупающая сердечность, с какой он, после слов «так вот, Гендель», видимо предназначенных служить вступлением к серьезному деловому разговору, внезапно переменил тон, протянул мне свою честную руку и заговорил как мальчишка.
– Мы с Кларой уже столько раз все это обсудили, – продолжал Герберт, – и моя дорогая девочка не далее как сегодня со слезами на глазах просила тебе передать, что, если ты согласишься с нами жить, когда приедешь, она всеми силами постарается, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты убедился, что друг ее мужа и ей тоже друг. Мы бы так чудесно зажили, Гендель!
Я горячо поблагодарил Клару и горячо поблагодарил Герберта, но сказал, что сейчас еще не могу дать ответа на его великодушное предложение. Во-первых, голова у меня так полна другими заботами, что я и обдумать ничего толком не в состоянии. Во-вторых… Да! Во-вторых, в сознании моем смутно зародилось нечто, о чем будет еще сказано к самому концу этой нехитрой повести.
– Но если ты считаешь, Герберт, что вопрос этот, без ущерба для вашего дела, можно на некоторое время оставить открытым..
– На сколько угодно времени! – воскликнул Герберт. – На полгода, на год!
– Это слишком много, – сказал я. – Самое большее – на два-три месяца.
К полному удовольствию Герберта мы скрепили этот уговор рукопожатием, после чего у него достало храбрости сообщить мне, что отъезд его, видимо, должен состояться уже в конце недели. – А Клара?
– Моя дорогая девочка не бросит своего отца, покуда он жив; но проживет он недолго. Миссис Уимпл шепнула мне по секрету, что он вот-вот отдаст богу душу.
– Я не хочу показаться бессердечным, – заметил я, – но, право же, это лучшее, что он может сделать.
– Пожалуй, – сказал Герберт. – Ну, а тогда я приеду за своей дорогой девочкой, и мы с ней тихо обвенчаемся в ближайшей церкви. Не забудь, дорогой мой Гендель, у этой прелестной крошки нет никакой родословной, она в глаза не видела книги пэров и ничегошеньки не знает о своем дедушке. Это ли не счастье для сына моей матери!
На той же неделе в субботу я проводил Герберта до почтовой кареты, увозившей его в порт, и он уехал, преисполненный радужных надежд, но глубоко огорченный разлукой со мной. Я зашел в какой-то ресторанчик, послал оттуда Кларе записку, извещая ее, что он благополучно отбыл и велел передать ей тысячу самых нежных приветов, а потом одиноко направился к себе домой – если так можно выразиться, ибо я уже не чувствовал себя там дома, и не было на свете дома, который я мог бы назвать своим.
На лестнице мне повстречался Уэммик, – он, оказывается, безуспешно стучал в мою дверь. Я еще не виделся с ним с глазу на глаз после плачевного исхода нашей попытки к бегству, и он приходил для того, чтобы, как сугубо частное лицо, объяснить мне кое-что в связи с этой неудачей.
– К покойному Компесону, – сказал Уэммик, – вели нити чуть не от всех дел, которыми мы занимались, и то, о чем я вам говорил, я узнал из разговоров кое-каких его подручных, попавших в беду (кто-нибудь из его подручных всегда попадает в беду). После этого я уже ничего не пропускал мимо ушей и наконец услышал, что он отлучился из Лондона, и подумал, что вот самое время вам попытать счастья. Теперь-то я так полагаю, что он, будучи очень хитрым человеком, нарочно обманывал тех, кого заставлял на себя работать, – это была его система. Вы, надеюсь, не в обиде на меня, мистер Пип? Поверьте, я очень старался услужить вам, чем только мог.
– Это я прекрасно знаю, Уэммик, и я вам от души признателен за ваше участие и дружбу.
– Ну и спасибо вам, большое спасибо. Скверная получилась история, – сказал Уэммик, почесывая в затылке, – уверяю вас, я давно не был так расстроен. Я все думаю – сколько движимого имущества зря пропало. Ой-ой-ой!
– А я, Уэммик, больше думаю о несчастном владельце этого имущества.
– Да, разумеется, – сказал Уэммик. – Вполне понятно, что вы ему сочувствуете, я бы и сам не пожалел пяти фунтов, чтобы его вызволить. Но я смотрю на дело так: уж раз покойный Компесон сумел заранее прознать о его возвращении и задумал выдать его, навряд ли было возможно его спасти. А вот движимое имущество было вполне возможно спасти. В этом и состоит различие между имуществом и его владельцем, вы меня понимаете?
Я пригласил Уэммика зайти и выпить грога, прежде чем отправляться в Уолворт. Он согласился. Еще не допив свои полстакана, он вдруг спросил без всяких предисловий, только изобразив некоторую сконфуженность:
– Мистер Пип, что вы скажете, если я в понедельник возьму себе отпуск?
– Что ж, это вы, вероятно, первый раз за целый год себе позволяете.
– Скажите лучше – за десять лет, – заявил Уэммик. – Да. Я решил в понедельник взять себе отпуск. Более того: я решил отправиться на прогулку. Более того: я решил просить вас, сопровождать меня.
Я хотел отговориться тем, что невеселый из меня сейчас получится спутник, но Уэммик не дал мне открыть рот.
– Я знаю, чем занято ваше время, мистер Пип, – сказал он, – и знаю, что настроение у вас неважное. Но если бы вы могли оказать мне такую любезность, вы бы меня весьма обязали. Прогулка это недолгая, и к тому же ранняя. Вам пришлось бы потратить на нее, вместе с завтраком, скажем – часа четыре, с восьми до двенадцати. Вы прикиньте, неужели вы так-таки не сможете выкроить на это время?
Он столько для меня сделал, с тех пор как началось наше знакомство, что было бы грешно отказать ему в таком пустяке. Я сказал, что смогу выкроить время, что выкрою непременно, – и сам порадовался, видя, какую радость доставило ему мое согласие. Мы условились, что я зайду за ним в замок в понедельник утром ровно в половине девятого, и на том распростились.
В понедельник, точно в назначенное время, я позвонил у ворот замка. Уэммик сам впустил меня, и мне показалось, что вид у него еще более аккуратный, чем обычно, и шляпа вычищена еще лучше. В столовой уже были приготовлены два стакана рома с молоком и два сухарика. Престарелый, как видно, встал в этот день с петухами: бросив взгляд в открытую дверь его спальни, я заметил, что кровать его пуста.
Когда мы, подкрепившись на дорогу ромом с молоком и сухариками, стали собираться на таинственную прогулку, Уэммик, к моему великому удивлению, извлек откуда-то удочку и взял ее на плечо. – Разве мы идем на рыбную ловлю? – спросил я.
– Нет, – отвечал Уэммик, – но я люблю гулять с удочкой.
Мне это показалось странным; однако я промолчал, и мы пустились в путь. Мы пошли по направлению к Кемберуэлскому лугу, и, приближаясь к нему, Уэммик вдруг сказал:
– Ого! Глядите-ка, церковь!
В этом не было ничего достойного удивления; но мне опять пришлось удивиться, когда он сказал, словно осененный блестящей идеей:
– Не зайти ли нам туда?
Мы зашли, оставив удочку на паперти, и огляделись по сторонам. Уэммик залез в карман и вытащил из него что-то, завернутое в бумагу.
– Ого! – сказал он. – Глядите-ка, две пары перчаток! Не надеть ли нам их?
Поскольку перчатки были белые, лайковые и поскольку щель почтового ящика была раздвинута до последнего предела, я начал о чем-то догадываться. Догадка моя превратилась в уверенность, когда в церковь через боковую дверь вступил Престарелый, сопровождавший даму.
– Ого! – сказал Уэммик. – Глядите-ка, мисс Скиффипс! Не сыграть ли нам свадьбу?
Целомудренная эта девица была одета как обычно, если не считать того, что она в ту самую минуту меняла свои зеленые лайковые перчатки на белые. Такого же рода жертву на алтарь Гименея готовился принести и Престарелый. Но для старичка процедура надевания перчаток оказалась сопряженной со столь великими трудностями, что Уэммик счел необходимым прислонить его спиной к колонне, а сам, зайдя сзади, стал изо всех сил тянуть перчатки на себя, в то время как я крепко держал старичка за талию, чтобы он мог, без опасности для жизни, оказать соответствующее сопротивление. С помощью этого хитроумного маневра перчатки наделись как нельзя лучше.
Тут появились священник и пономарь, и нас, выстроив по рангу, подвели к роковым ступеням. Перед началом венчания я услышал, как Уэммик, верный своему замыслу все делать как бы невзначай, сказал, доставая что-то из жилетного кармана:
– Ого! Глядите-ка, кольцо!
Я исполнял обязанности шафера, или дружки жениха; а маленькая хлипкая привратница в детском чепчике притворялась закадычной подругой мисс Скиффинс. Ответственная роль посаженого отца досталась Престарелому, в связи с чем он, без всякого злого умысла, поставил священника в весьма неудобное положение. Произошло это так. Когда священник вопросил: «Кто отдает сию женщину в жены сему мужчине?», старый джентльмен, понятия не имевший, до какого места венчания мы добрались, продолжал благодушно улыбаться десяти заповедям, начертанным на стене. Священник вопросил еще раз: «Кто отдаст сию женщину в жены сему мужчине?» Видя, что старый джентльмен по-прежнему пребывает в блаженном неведении относительно всего происходящего, жених прокричал громко, как привык обращаться к нему дома: «Ну, Престарелый Родитель, ты же знаешь, как отвечать; кто отдает?» На что Престарелый, прежде чем заявить, что отдает не кто иной, как он, с готовностью отозвался: «Превосходно, Джон, превосходно, мой мальчик!» И тут священник сделал такую зловещую паузу, что у меня закралось сомнение – удастся ли нам в этот день довенчаться.
Однако это нам удалось, и, когда мы выходили из церкви, Уэммик снял крышку с купели, положил туда свои белые перчатки и водворил крышку на место. Миссис Уэммик, проявив больше предусмотрительности, положила свои белые перчатки в карман и опять надела зеленые.
– А теперь, мистер Пип, – сказал Уэммик, с торжествующим видом вскидывая удочку на плечо, – разрешите вас спросить, может ли кому прийти в голову, что мы только что от венца?
Завтрак был заказан для нас в чистенькой кухмистерской неподалеку от церкви, с видом на Кемберуэлский луг; в комнате, где мы уселись, стоял небольшой бильярд на случай, если мы захотим рассеяться после торжественной церемонии. Я с удовольствием отметил, что миссис Уэммик уже не разматывала руку Уэммика, когда она обвивалась вокруг ее талии, а, сидя у стены на стуле с высокой спинкой, подобная виолончели в футляре, принимала это проявление нежных чувств, как мог бы его принять сей сладкозвучный инструмент.
Нас накормили прекрасным завтраком, причем всякий раз, как кто-нибудь отказывался от какого-нибудь блюда, Уэммик приговаривал: «Кушайте, не стесняйтесь, за все уплачено вперед». Я пил за здоровье молодых, пил за Престарелого, пил за процветание замка, на прощанье поцеловал новобрачную, – словом всячески постарался не испортить им праздника.
Уэммик проводил меня до дверей, и я еще раз пожал ему руку и пожелал счастья.
– Благодарствуйте! – сказал он, потирая руки. – С курами она управляется просто на диво. Вот отведаете как-нибудь яиц – сами скажете. Эй, мистер Пип! – крикнул он мне вдогонку и закончил вполголоса: – Это я вам высказал чисто уолвортское мнение.
– Понимаю. И на Литл-Бритен повторять его не следует.
Уэммик кивнул.
– После того что вы в тот раз выболтали, лучше, чтобы мистер Джеггерс об этом не знал. А то он, чего доброго, решит, что у меня размягчение мозгов или что-нибудь в этом роде.
Глава LVI
Весь месяц, оставшийся до начала судебной сессии, он тяжко болел. У него было сломано два ребра, они задели легкое, и ему день ото дня становилось труднее и больнее дышать. И говорил он от боли так тихо, что его едва можно было расслышать, а потому все больше молчал. Но слушать меня он был готов сколько угодно, и первой моей обязанностью стало говорить и читать ему то, что, как я знал, было ему всего нужнее.
В таком состоянии он не мог помешаться в общей камере, и дня через два его перевели в лазарет. Только это и позволило мне навещать его так часто. И если бы не болезнь, его непременно заковали бы в кандалы – ведь считалось, что он – закоренелый преступник и обязательно попытается бежать.
Я приходил к нему каждый день, но лишь на короткое время; таким образом от одного нашего свидания до другого малейшая перемена в его состоянии успевала отразиться у него на лице. Я не припомню, чтобы хоть когда-нибудь заметил в нем перемену к лучшему; с тех пор как за ним захлопнулись тюремные ворота, он день ото дня худел, терял силы и чувствовал себя все хуже.
Почти безразличная покорность, проявляемая им, была покорностью смертельно уставшего человека. По его тону, по отдельным, шепотом сказанным словам, я мог заключить, что он размышляет над тем, не стал ли бы он другим, лучшим человеком, сложись его жизнь более благоприятно. Но он никогда на это не ссылался и не делал попыток перетолковать в свою пользу прошлое, неумолимо тяготевшее над ним.
Два или три раза случилось, что арестанты, работавшие в лазарете, упомянули при мне об утвердившейся за ним славе неисправимого злодея. По лицу его пробегала тогда улыбка, и он обращал на меня доверчивый взгляд, словно хотел сказать, что я-то еще ребенком видел от него не одно только дурное. Если не считать этого, он был исполнен смирения и кротости, и я не помню, чтобы он хоть раз на что-нибудь пожаловался.
Когда пришло время, мистер Джегтерс подал ходатайство об отсрочке дела до следующей сессии. Шаг этот был явно рассчитан на то, что он до тех пор не доживет, и в просьбе отказали. Его дело слушалось одним из первых. В суде он сидел на стуле, и мне разрешили стоять у самой решетки, которой были отгорожены подсудимые, и держать его за руку.
Дело разбиралось недолго – все было ясно. То, что можно было сказать в его защиту, было сказано: как он в изгнании занялся честным трудом и законными путями нажил богатство. Однако ничто не могло изменить того обстоятельства, что он вернулся и находится здесь, перед судьей и присяжными. Поскольку именно за это его и судили, не признать его виновным было невозможно.
В то время существовал обычай (как я узнал на опыте этой страшной сессии) посвящать заключительный день объявлению приговоров, причем смертный приговор для вящего эффекта объявлялся последним. Если бы картина эта не сохранилась неизгладимо в моей памяти, то сейчас, когда я пишу эти строки, я бы просто не поверил, что на моих глазах судья прочел этот приговор сразу тридцати двум мужчинам и женщинам. И первым среди этих тридцати двух был он, – ему и тут позволили сидеть, потому что стоя он бы попросту задохнулся.
Как сейчас вижу я перед собою залу суда, вижу все, вплоть до капель апрельского дождя на оконных стеклах, сверкающих в лучах апрельского солнца. За решеткой, возле которой я снова стою, держа его за руку, выстроены мужчины и женщины – тридцать два человеческих существа: иные держатся вызывающе, иные сжались от страха, те плачут и рыдают, те закрыли лицо руками, те угрюмо озираются по сторонам. Некоторые из женщин пронзительно кричали, но теперь их усмирили, и водворилась тишина. Шерифы с массивными цепями и медалями, прочие судейские букашки и чудища, глашатаи, приставы, галерея, битком набитая публикой – как в театре! – все смотрят на осужденных, которые остались теперь лицом к лицу с судьей. Он обращается к ним с речью. Среди несчастных, коих он видит перед собой, есть человек, заслуживающий быть особо отмеченным, который чуть ли не с младенчества нарушал закон; который после неоднократного заключения в тюрьму и других наказаний был наконец приговорен к каторжным работам на определенный срок; который совершил дерзкий побег, сопряженный с насильственными действиями, и был приговорен к ссылке, на этот раз пожизненно. Одно время этот человек, оказавшись далеко от мест, бывших свидетелями его преступлений, как будто проникся сознанием своей вины и вел жизнь тихую и честную. Но в какую-то роковую минуту, не устояв против тех склонностей и страстей, кои столь долго делали его язвой нашего общества, он покинул убежище, где обрел душевный покой и раскаяние, и вернулся в страну, пребывание в которой было ему запрещено законом. Здесь он вскоре был изобличен, по ему некоторое время удавалось скрываться от правосудия; когда же его наконец схватили при попытке к бегству, он оказал сопротивление и – умышленно ли, или в ослеплении собственной дерзостью, о том ему лучше знать, – явился причиной смерти изобличившего его лица, которому была известна вся история его жизни. Поскольку возвращение в страну, изгнавшую его, карается смертью, и поскольку он в дальнейшем еще отяготил свою вину, ему надлежит приготовиться к смерти.
Солнце ярко светило в большие окна сквозь сверкавшие на стеклах капли дождя, и широкая полоса света протянулась от судьи к тем тридцати двум, связывая их воедино и, быть может, напоминая кой-кому из присутствующих, что и тот и другие как равные предстанут перед иным, вечным судией, для которого нет ничего сокрытого и который никогда не ошибается. С трудом приподнявшись, так что лицо его стало отчетливо видно в этой полоске света, осужденный сказал: – Милорд, смертный приговор мне произнес всевышний, но я принимаю и ваш, – и снова сел. Кто-то призвал к тишине, и судья договорил то, что еще имел сказать остальным. Затем был прочитан официальный текст приговора, и часть осужденных вывели под руки, другие вышли, тщетно стараясь напустить на себя равнодушный вид. Кое-кто кивнул в сторону галереи, двое или трое пожали друг другу руки, некоторые, выходя, жевали душистую сухую траву, подобранную в зале. Он вышел последним, потому что ему нужно было помочь встать со с гула, и двигался он очень медленно: и он держал меня за руку все время, пока уводили остальных и пока зрители вставали с мест (застегивая сюртуки, отряхивая юбки, как в церкви или после обеда) и сверху показывали друг дружке то того преступника, то другого, а чаше всех – его и меня.
Я молил бога, чтобы он умер до того, как будет подписан указ об исполнении приговора, и твердо на это надеялся, но, терзаясь опасением, как бы он все-таки не протянул слишком долго, в тот же вечер засел писать прошение министру внутренних дел, в котором изложил все, что знал об осужденном, указал, что он возвратился в Англию только из-за меня. Я писал это прошение горячо, с чувством, а на следующий день, отослав его, стал составлять другие – разным высокопоставленным лицам, на милосердие которых особенно надеялся, и даже на высочайшее имя. Поглощенный сочинением этих петиций, я несколько дней и ночей после объявления приговора не знал ни минуты покоя, разве что засыпал иногда, сидя на стуле. А разослав их по назначению, не мог оторваться от тех мест, где их оставил: когда я находился поблизости, мои хлопоты казались мне не столь безнадежными. Охваченный безрассудным волнением и душевной болью, я бродил вечерами по улицам мимо присутственных мест и особняков, где лежали поданные мною бумаги. По сей день, в холодные, пыльные весенние вечера унылые улицы западного Лондона с длинными рядами фонарей и пышных, наглухо запертых домов всегда пробуждают во мне печальные думы.
Ежедневные наши свидания теперь еще больше сократили, и надзор за ним стал строже. Заметив или вообразив, что меня подозревают в намерении передать ему яд, я попросил, чтобы меня обыскивали, прежде чем подпустить к его койке, и предложил надзирателю, который от нас не отлучался, потребовать от меня любых доказательств того, что я не замышляю ничего дурного. Грубого обращения ни я, ни он ни от кого не видели. Люди исполняли свой долг, но без излишней жестокости. Надзиратель всякий раз сообщал мне, что ему хуже, и слова его подтверждали другие больные арестанты и те арестанты, которые за ними ходили (все злодеи, но, благодарение богу, не чуждые истинной доброты!).
По мере того как проходили дни, он все больше и больше лежал молча, устремив безучастный взгляд на белый потолок, и лицо его ничего не выражало, лишь изредка оживая от какого-нибудь сказанного мною слова. Иногда он совсем не мог говорить; тогда он вместо ответа слабо пожимал мою руку, и я научился быстро угадывать его желания.
Придя в тюрьму на десятый день, я заметил в нем большею перемену, чем обычно. Глаза его были обращены к двери и засветились при моем появлении.
– Милый мальчик, – сказал он, когда я сел возле его койки, – а я уж боялся, что ты опоздаешь. Хоть и знал, что этого не может быть.
– Сейчас как раз время, – ответил я. – Я еще подождал у ворот.
– Ты всегда ждешь у ворот, ведь верно, мой мальчик?
– Да. Чтобы не потерять ни минуты.
– Спасибо тебе, мой мальчик. Спасибо. Дай бог тебе здоровья. Ты от меня не отступился, мой мальчик.
Я пожал его руку и не ответил, ибо не мог забыть, что было время, когда я готов был от него отступиться.
– А дороже всего то, – сказал он, – что, с тех пор как надо мной висит черная туча, ты стал ко мне ласковей, чем когда светило солнце. Вот это всего дороже.
Он лежал на спине, дыхание с трудом вырывалось из его груди. Сколько бы он ни боролся, как бы ни любил меня, сознание временами покидало его, и мутная пленка заволакивала безучастный взгляд, устремленный к белому потолку.
– Боль вас сегодня очень мучает?
– Я не жалуюсь, мой мальчик.
– Вы никогда не жалуетесь.
Больше он уже ничего не сказал. Он улыбнулся, и по движению его пальцев я понял, что он хочет приподнять мою руку и положить ее себе на грудь. Я помог ему, и он опять улыбнулся и сложил руки поверх моей.
Между тем время, разрешенное для свидания, истекло; но, оглянувшись, я увидел около себя смотрителя тюрьмы, который сказал мне шепотом:
– Вы можете еще не уходить.
Я горячо поблагодарил его и спросил:
– Можно мне кое-что сказать ему, если он будет в состоянии меня услышать?
Смотритель отошел в сторону и поманил за собой надзирателя. Движения их были бесшумны, но безучастный взгляд, устремленный к белому потолку, ожил и с нежностью обратился на меня.
– Дорогой Мэгвич, теперь наконец я должен вам это сказать. Вы понимаете, что я говорю?
Пальцы его чуть сжали мою руку.
– Когда-то у вас была дочь, которую вы любили и потеряли.
Пальцы его сжали мою руку сильнее.
– Она осталась жива и нашла влиятельных друзей. Она жива и сейчас. Она – знатная леди, красавица. И я люблю ее.
Последним усилием, которое не осталось втуне лишь потому, что я сам помог ему, он поднес мою руку к губам. Потом снова опустил ее себе на грудь и прикрыл своими. Еще на мгновенье безучастный взгляд устремился к белому потолку, потом погас, и голова спокойно склонилась на грудь.
Тогда, вспомнив, о чем мы вместе читали, я подумал про тех двух человек, которые вошли в храм помолиться, и понял, что не могу сказать у его смертного одра ничего лучшего, как: «Боже! Будь милостив к нему, грешнику!»








