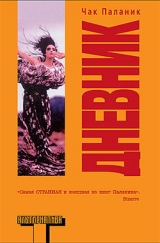
Текст книги "Дневник"
Автор книги: Чак Паланик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Слышен удар в стену. Еще удар; простенок и краска вздрагивают под пальцами. Хозяйка по ту сторону снова пинает стену расшитыми лодочками, и цветы с птичками в рамках постукивают по желтым обоям. По разводам черной аэрозольной краски. Она кричит:
– Передайте Питеру Уилмоту, что за это дерьмо он сядет.
На заднем плане шипят и бьются волны океана.
Продолжая обводить пальцами твои строчки, пытаясь ощутить то, что чувствовал ты, Мисти спрашивает:
– Вы слышали когда-нибудь о местной художнице по имени Мора Кинкэйд?
Энджел отзывается по ту сторону фотоаппарата:
– Немного, – и щелкает затвором. Говорит:
– Это не Кинкэйд связывали с синдромом Стендаля?
А Мисти отпивает еще один обжигающий глоток со слезами на глазах. Спрашивает:
– Она что, умерла от него?
А Энджел, не переставая делать снимки, смотрит на нее в видоискатель и командует:
– Смотрите сюда, – говорит. – Что вы там рассказывали про профессию художника? Про анатомию? Улыбнитесь так, как должна выглядеть настоящая улыбка.
4 июля
ПРОСТО ЧТОБ ТЫ ЗНАЛ – как это мило. Сегодня День независимости, и в гостинице битком. Пляж переполнен. В вестибюле тесно от летних людей, все они толкутся туда-сюда, ждут, когда на континенте запустят фейерверк.
У твоей дочери, Тэбби, оба глаза залеплены пластырем. Она вслепую нащупывает и прошлепывает путь сквозь вестибюль. Шепчет от камина до конторки:
– …восемь, девять, десять… – считая шаги от одного ориентира до другого.
Летние чужаки чуть подскакивают, пугаясь ее ручонок, хватающих на ощупь. Они улыбаются ей, стиснув губы, и отступают в сторону. Эта девчонка в выцветшем летнем платье в розово-желтую клетку, с волосами, стянутыми желтой лентой на затылке, – типичное дитя острова Уэйтензи. С розовой помадой и лаком для ногтей. Играющая в какую-то милую старомодную игру.
Она натыкается ладонями на стену, ощупывает картину, проводит пальцами по книжному шкафу.
Снаружи вестибюльных окон – вспышка и хлопок. Фейерверк выстреливает с континента, вздымаясь дугой и направляясь к гостинице. Будто гостиница под обстрелом.
Большие кольца желтого и оранжевого пламени. Красные огненные шары. Хлопок всегда доносится позже, как гром после молнии. А Мисти подходит к своей малышке и сообщает ей:
– Солнышко, началось, – говорит. – Открывай глаза и давай смотреть.
Не отклеивая пластырь с глаз, Тэбби отвечает:
– Мне нужно изучить комнату, пока все здесь.
Ощупывая дорогу от незнакомца к незнакомцу, – все они застыли и смотрят в небо, – Тэбби считает шаги к двери в вестибюле и к парадному крыльцу за ней.
5 июля
К ВАШЕМУ ПЕРВОМУ НАСТОЯЩЕМУ СВИДАНИЮ, вашему с Мисти, ты натянул для нее холст.
Питер Уилмот и Мисти Клейнмэн присели на свидании в густых травяных зарослях пустыря. Летние пчелы и мухи кружат вокруг них. Рассевшихся на клетчатом одеяле, которое Мисти принесла из дому. Мисти выпрямила ножки коробки с красками из светлого дерева под пожелтевшим лаком, с медными уголками и шарнирами, потускневшими почти до черноты, чтобы из нее вышел мольберт.
Если ты и так помнишь все эти вещи, пропускай.
Если помнишь, травы были так высоки, что тебе пришлось утоптать их, смастерив гнездышко под солнцем.
Был весенний семестр, и у каждого на кампусе будто возникла все та же идея. Сплести проигрыватель для компактов или компьютерный терминал из одних только травинок и палочек, здесь произрастающих. Из корешков. Стручков. В воздухе стоял густой запах резинового клея.
Никто не натягивал холстов, никто не рисовал пейзажей. В них не было изюминки. Но Питер уселся под солнцем на том одеяле. Расстегнул куртку и задрал подол своего мешковатого свитера. А внутри, загораживая его живот и кожу груди, оказался чистый холст, прибитый к растяжке.
Вместо крема от загара ты втер карандашный графит под глазами и вдоль переносицы. Большим черным крестом посреди лица.
Если ты сейчас это читаешь, значит, ты пробыл в коме Бог знает сколько. И этот дневник уж точно тебе не наскучит.
Когда Мисти поинтересовалась, зачем ты тащил холст под одеждой, так засунув его под свитер…
Питер ответил:
– Чтобы убедиться, что он подойдет по размеру.
Ты ответил.
Если ты в курсе, то помнишь, как жевал стебелек травы, помнишь его вкус. Мускулы твоей челюсти выпячивались, резко очерчиваясь то с одной стороны, то с другой, пока ты его прожевывал так и эдак. Ты копался одной рукой в траве, выбирая куски гравия и комки земли.
А все друзья Мисти плели из своей дурацкой травы. Чтобы вышел прибор, по которому достаточно заметна изюминка. И чтобы не распустился. Пока тот не будет выглядеть достаточно похожим на подлинное доисторическое высокотехнологичное развлекательное устройство, иронии не выйдет.
Питер дал ей чистый холст и сказал:
– Нарисуй что-нибудь.
А Мисти возразила:
– Никто уже не рисует картин. Больше не рисуют.
Даже если она и знала людей, которые нынче рисовали, то делали они это собственной кровью или спермой. И рисовали они на живых собаках из питомника, или на растаявшем желе, но на холсте – никогда.
А Питер сказал:
– Уверен, ты все равно рисуешь на холсте.
– Чего это? – спросила Мисти. – Потому что я отсталая? Потому что не знаю ничего лучше?
А Питер сказал:
– Ты давай, бля, рисуй.
По идее, они не должны были опускаться до предметно-изобразительного искусства. До рисования красивых картинок. По идее, они должны были научиться визуальному сарказму. Мисти сказала – делается слишком большой упор на познание, и нельзя не практиковать технику эффективной иронии. Она сказала, мол, красивая картинка мир ничему не научит.
А Питер ответил:
– Нам по возрасту не положено покупать пиво, а мы собрались учить мир?
Лежа на спине в их травяном гнездышке, закинув руку за голову, Питер сказал:
– Все мировые потуги ничего не значат, если у тебя нет таланта.
На случай, если ты ни хера не заметил, ты, сиська, – Мисти по-настоящему пыталась тебе понравиться. Просто на заметку: платье, сандалии, широкая соломенная шляпа – она с ног до головы разоделась для тебя. Если бы ты взял и коснулся ее прически, то раздался бы хруст от лака для волос.
На ней было столько духов «Песнь Ветра», что на нее слетались пчелы.
А Питер пристроил чистый холст ей на мольберт. Сказал:
– Мора Кинкэйд никогда не ходила ни на какой, бля, худфак.
Он сплюнул комок зеленой жвачки, сорвал еще один травяной стебель и сунул его себе в рот. Произнес позеленевшим языком:
– Уверен, если бы ты нарисовала то, что в твоем сердце, то оно могло бы висеть в музее.
То, что в ее сердце, возразила Мисти, большей частью дурацкий хлам.
А Питер молча глянул на нее. Спросил:
– Тогда смысл – рисовать то, что тебе не нравится?
То, что ей нравится, возразила Мисти, никогда не продастся. Люди это не купят.
А Питер сказал:
– Может статься, ты сама удивишься.
Это была Питерова теория самовыражения. Парадокс бытия профессиональным художником. То, как мы тратим всю жизнь, пытаясь хорошо самовыразиться, но сказать нам нечего. Мы хотим, чтобы элемент творчества строился по системе причины и следствия. Хотим результатов. Создать покупаемый товар. Нам нужно, чтобы старание и дисциплина уравнялись с признанием и воздаянием. Мы садимся за тренажер нашего худфака, за дипломный проект на специалиста изящных искусств, и практикуемся, практикуемся, практикуемся. И, со всеми нашими великолепными навыками, – документировать нам нечего. По словам Питера, ничто нас так не бесит, как какой-нибудь дерганый наркоман, ленивый бездельник или поганый извращенец, который вдруг создает шедевр. Будто невзначай.
Какой-то придурок, который не боится заявить о том, что он любит на самом деле.
– Платон, – объявляет Питер, поворачивая голову, чтобы сплюнуть в траву зеленую жвачку. – Платон говорил: «Кто приблизится к храму Муз без вдохновения, веруя, что достойно лишь мастерство, останется неумелым, и его самонадеянные стихи померкнут пред песнями безумцев».
Он сунул очередной стебель в рот и взялся жевать, со словами:
– Так что же делает Мисти Клейнмэн безумцем?
Ее сказочные дома и булыжные мостовые. Ее чайки, которые кружат над устричными лодками, возвращаясь с отмелей, которых она никогда не видела. Ни в какой сраной жизни, черт возьми, она не станет рисовать это дерьмо.
– Мора Кинкэйд, – говорит Питер. – Не бралась за кисть, пока ей не исполнился сорок один год.
Он взялся вытаскивать кисти из коробки светлого дерева, скручивая кончики. Он сказал:
– Мора обвенчалась со старым добрым плотником с острова Уэйтензи, и у них была пара детей.
Он извлек ее тюбики с красками, пристроив их тут же, рядом с кистями, на одеяле.
– Пока не умер ее муж, – продолжал Питер. – И потом Мора заболела, очень заболела, чахоткой или чем-то таким. Опять же, в те времена в сорок один год ты считалась уже старушкой.
Пока не умер один ее ребенок, говорил Питер, Мора Кинкэйд не бралась за картины. Он сказал:
– Наверное, нужно пострадать по-настоящему, прежде чем рискнешь заняться любимым делом.
Ты рассказал Мисти обо всем об этом.
Ты сказал, что Микеланджело был депрессивным психопатом, который изображал себя на картинах мучеником с содранной кожей. Генри Матисс бросил ремесло адвоката из-за аппендицита. Роберт Шуман стал писать музыку только тогда, когда ему парализовало правую руку, и его карьере концертного пианиста был положен конец.
Ты копался в кармане, пока рассказывал эти вещи. Пытался что-то выудить.
Ты рассказывал про Ницше и его третичный сифилис. Про Моцарта и его уремию. Про Пола Клее и склеродерму, скрутившую его суставы и мышцы и приведшую к смерти. Фрида Кало и расщепленный позвоночник, из-за которого ее ноги покрылись кровоточащими язвами. Лорд Байрон и его хромота. Сестры Бронте со своей чахоткой. Марк Ротко со своим самоубийством. Флэннери О'Коннор с кожным туберкулезом. Вдохновение нуждается в болезнях, травмах, безумии.
– По Томасу Манну, – сказал Питер. – «Великие художники есть великие инвалиды».
И потом ты положил что-то на одеяло. Там, в окружении тюбиков краски и кистей для рисования, оказалась большая брошь из поддельных самоцветов. Размером с серебряный доллар, брошка была из бесцветных стеклянных камешков, из крошечных шлифованных зеркал в желто-оранжевой оправе, поцарапанных и помутневших. Там, на клетчатом одеяле, она словно взрывала солнечный свет в сноп искр. Оправа была из потускневшего металла, державшего фальшивые самоцветы в маленьких острых зубках.
Питер спросил:
– Ты слушала, что я говорю?
А Мисти подобрала брошь. Искры отражений били ей прямо в глаза, и ее ослепило, закружило ей голову. Отключило от всего вокруг, от травы и солнца.
– Это тебе, – сказал Питер. – Для вдохновения.
Отражение Мисти дробилось дюжину раз в каждом поддельном самоцвете. Сотнями осколков ее лица.
Мисти произнесла, обращаясь к искрящимся цветам в своей руке:
– Так расскажи мне, – попросила она. – Как умер муж Моры Кинкэйд?
А Питер, с зелеными зубами, сплюнул зелень в высокую траву по соседству. На лице черный крест. Он облизал позеленевшие губы зеленым языком и ответил:
– Убийство, – сказал Питер. – Его убили.
И Мисти начала рисовать.
6 июля
ПРОСТО НА ЗАМЕТКУ, в потертой старинной библиотеке, где обои расползаются по всем швам, а во всех матовых плафонах, свисающих с потолка, – дохлые мухи, все, что ты припомнишь, осталось таким же. Все тот же изношенный глобус, пожелтевший до цвета супа. На континентах вырезаны названия стран вроде Пруссии и Бельгийского Конго. Тут по-прежнему висит в рамке знак, предупреждающий – «ЛЮБОЙ, КТО БУДЕТ ЗАСТИГНУТ ЗА ПОРЧЕЙ КНИГ, ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ».
Пожилая миссис Терримор, библиотекарша, носит все те же твидовые пиджаки, только теперь у нее на лацкане запонка размером с лицо, гласящая – «ОКАЖИТЕСЬ В НОВОМ БУДУЩЕМ с Финансовыми Услугами Оуэнса Лэндинга».
Непонятному можно придать любой смысл.
По всему острову население надевает запонки или футболки такого же типа, разнося всевозможные рекламные сообщения. Они получают небольшой приз или денежное вознаграждение, если их видят с чем-то таким. Тела, превращенные в рекламные щиты. В кепках с телефонными номерами на 1-800.
Мисти пришла сюда с Тэбби, на поиски книжек про лошадей и про насекомых, которые учитель просит ее прочесть до перехода в седьмой класс этой осенью.
Компьютеров нет. Нет доступа в Интернет или терминалов с картотекой – значит нет летних людей. Запрещены латте. Нет проката видеокассет и видеодисков. Не позволяется ни звука громче шепота. Тэбби направилась в детский отдел, а твоя жена – в личной коме, в отделе книг об искусстве.
На худфаке учат, что знаменитые старые мастера, вроде Рембрандта, Караваджо и Ван Эйка, просто обводили контуры. Рисовали так, как Тэбби не позволяет учитель. Ганс Гольбейн, Диего Веласкес, – сидели в бархатной палатке в кромешной тьме и зарисовывали окружающий мир, просвечивающий внутрь сквозь маленькую линзу. Или отраженный кривым зеркалом. Или, наподобие булавочной камеры, спроецированный в темную комнатушку через дырочку. Проекция окружающего мира на экран из холста. Каналетто, Гинзбург, Вермеер, – торчали там, в темноте, часами или днями, обводя здание или обнаженную натуру, стоящую снаружи в ярком солнечном свете. Иногда даже клали краски прямо поверх спроецированных цветов, подбирая блеск ткани по ее спроецированным падающим складкам. Рисовали точный портрет в один вечер.
Просто на заметку, «камера обскура» по-латыни значит «темная комната».
Миг, когда сталкиваются шедевр и конвейер. Фотоаппарат с красками вместо оксида серебра. С холстом вместо пленки.
Они провели здесь все утро, и в какой-то момент Тэбби подходит постоять с матерью. Тэбби держит в руках раскрытую книгу и зовет:
– Мам? – еще зарывшись носом в страницу, она рассказывает Мисти. – А ты знаешь, что огонь должен быть минимум в шестьсот градусов и должен длиться семь часов, чтобы поглотить среднее человеческое тело?
В книжке черно-белые фотографии жертв пожара, свернувшихся в «позу боксера», подтянувших к лицам обугленные руки. Кисти сжаты в кулаки, запечены в духовке пламени. Черные обугленные кулачные бойцы. Книга называется «Судебное расследование случаев пожара».
Просто на заметку, погода сегодня – нервное отвращение с трусостью перед фантазией.
Миссис Терримор поднимает взгляд от стола. Мисти говорит Тэбби:
– Поставь на место.
Сегодня, в библиотеке, в отделении искусства, твоя жена наугад касается книг на справочной полке. Она без причины открывает книгу, и там говорится, мол, когда художник использовал зеркало, чтобы отразить на холст изображение, картинка получалась навыворот. Именно поэтому на столь многих картинах старых мастеров все левши. Когда пользовались линзой, изображение выходило вверх ногами. Как бы они не смотрели на картинку, та все равно получалась искаженной. В этой книге старинная гравюра, изображающая художника, который обводит проекцию. Поперек страницы кто-то написал – «Ты способна проделать это в уме».
Именно затем поют птички, – чтобы метить территорию. Затем писают собачки.
Точно как жизне-после-смертное послание Моры Кинкэйд под крышкой столика в Древесно-золотой столовой, «Выбери любую книгу в библиотеке», мол.
Ее остаточный эффект в карандаше. Самодельное бессмертие.
Это, новое послание, подписано – «Констенс Бартон».
«Ты способна проделать это в уме».
Мисти вытаскивает наугад другую книгу, позволяя ей распахнуться. Она про художника Чарльза Мерьона, великолепного гравера-француза, который стал шизофреником и умер в желтом доме. На одной из гравюр для Французского Адмиралтейства – классическое каменное здание с рядом высоких гофрированных колонн, – работа выглядит безупречной, пока не замечаешь рой чудовищ, спускающихся с неба.
И поперек облаков над чудовищами карандашом значится – «Мы – их приманка и ловушка для дичи».
Подпись – «Мора Кинкэйд».
Закрыв глаза, Мисти пробегает пальцами по корешкам книг на полке. Ощупывая гребни из кожи, бумаги и ткани, она вытаскивает книгу не глядя, и дает ей распахнуться в руках.
Здесь Франциско Гойя, отравившийся свинцом из ярких красок. Краски он наносил костяшками и подушечками пальцев, макая их в баночки, пока не захворал свинцовой энцефалопатией, которая вела к глухоте, депрессии и безумию. Здесь, на странице, картина с богом Сатурном, поедающим своих детей – мрачный черный водоворот, окружающий гиганта с выпученными глазами, который откусывает руки у обезглавленного тела. На чистых полях страницы кто-то оставил надпись – «Раз ты нашла это, тогда еще можешь спастись».
Подписано – «Констенс Бартон».
В следующей книге французский художник Ватто изображает себя бледным тощим менестрелем, умирающим от чахотки, как и было с ним в реальной жизни. Синие небеса сцены пересекает надпись – «Не рисуй им картин». Подпись – «Констенс Бартон».
Чтобы проверить себя, твоя жена пересекает библиотеку, мимо библиотекарши, которая наблюдает сквозь маленькие круглые очки в черной проволочной оправе. В охапке Мисти тащит книги про Ватто, Гойю, камеру обскуру, – все они открыты и пристроены одна на другую. Тэбби поднимает взгляд от столика, заваленного детскими книжками. В отделе художественной литературы Мисти снова закрывает глаза и идет, проводя пальцами по старинным корешкам книг. Без причины останавливается и вытаскивает одну.
Это книга о Джонатане Свифте, о том, как у него появился синдром Меньера, и жизнь его была разрушена глухотой и головокружением. В огорчении он написал мрачные сатиры «Путешествия Гулливера» и «Скромное предложение», где предположил, что британцы могли бы выжить, поедая увеличивающийся приток ирландских детей. Его лучшие работы.
Книга распахивается на странице, где кто-то оставил надпись – «Они заставят тебя убить всех детей Божьих, чтобы спасти их собственных». Подписано – «Мора Кинкэйд».
И вот, твоя жена вкладывает эту новую книжку в верхнюю из книг, и снова закрывает глаза. Таща охапку книг, тянется за очередной книжкой. Мисти проводит пальцами от корешка к корешку. Ее глаза закрыты, она делает шаг – и натыкается на мягкую преграду и запах тальковой пудры. Когда она снова смотрит, – видит темно-красную помаду на припудренном лице. Зеленый козырек поперек лба, над ним купол седых вьющихся волос. На козырьке отпечатано – «Звоните 1-800-555-1785 и получите ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ». Ниже – пара очков в черной проволочной оправе. Твидовый пиджак.
– Простите, – произносит голос, и это миссис Терримор, библиотекарша. Стоит, сложив руки.
И Мисти отступает на шаг.
Темно-красная помада продолжает:
– Я буду признательна, если вы перестанете портить книги, сваливая их в кучу таким образом.
А бедная Мисти просит прощения. Так и оставаясь чужаком, она несет их на столик.
А миссис Терримор, расставив руки, растопырив их, говорит:
– Прошу вас, дайте мне расставить их по местам. Прошу вас.
Мисти возражает – не сейчас. Она говорит, что хотела бы их выписать, и, пока две женщины борются за охапку, одна книжка выпадает и плашмя шлепается на пол. Громко, как звук пощ ечины. Распахивается в том месте, где можно прочесть – «Не рисуй им картин».
А миссис Терримор говорит:
– Боюсь, это книги читального зала.
А Мисти возражает. Нет, не читального. Не все. Можно прочесть строчки – «Раз ты нашла это, тогда еще можешь спастись».
Библиотекарша замечает их сквозь очки в черной проволочной оправе и сетует:
– Вредят и вредят. Каждый год.
Смотрит на напольные часы в оправе темного ореха и говорит:
– Итак, если не возражаете, у нас сегодня короткий день.
Сверяет часы на руке с напольными, со словами:
– Мы закрылись десять минут назад.
Тэбби уже выписала себе книжки. Она стоит у входной двери, ждет и зовет:
– Быстрей, мам. Тебе на работу.
А библиотекарша копается свободной рукой в кармане твидового пиджака и извлекает большую розовую стирательную резинку.
7 июля
ЭТИ ВИТРАЖИ островной церкви маленькая оборванная Мисти Клейнмэн могла нарисовать еще до того, как научилась читать и писать. Даже еще до того, как увидела витражи. Она никогда не была в церкви, – ни в какой церкви. Но наша маленькая безбожница Мисти Клейнмэн могла нарисовать надгробья деревенского кладбища на Уэйтензийскому мысу, изобразив даты и эпитафии, когда еще не знала ни цифр, ни букв.
Сейчас, сидя здесь, в здании церкви, ей трудно припомнить, что она первым делом вообразила, а что первым делом увидела в свой приезд. Пурпурный покров алтаря. Толстые древесные балки, черные от лака.
Все это она представляла себе ребенком. Но ведь такого не может быть.
Грэйс молится за ее скамьей. Тэбби с дальней стороны от Грэйс, обе они на коленях. Со сложенными руками.
Голос Грэйс, которая закрыла глаза и бормочет губами в сложенные руки, шепчет:
– Прошу, позволь моей невестке вернуться к ее любимой живописи. Прошу, не дай ей растратить выдающийся талант, данный ей Господом…
Все семьи островитян бормочут молитвы вокруг.
Позади шепчет голос:
– …прошу, Господи, дай жене Питера все, что ей нужно, чтобы начать работу…
Еще один голос. Пожилая леди Петерсен молится:
– …да спасет нас Мисти, пока от чужаков не стало хуже…
Даже Тэбби, твоя родная дочь, шепчет:
– Боже, помоги маме со всем разобраться и начать рисовать…
Все восковые фигуры острова Уэйтензи стоят на коленях вокруг Мисти. Тапперы, Бартоны и Нейманы, – все закрыли глаза, сплели пальцы и молят Господа заставить ее писать картины. Все считают, что у нее есть какой-то скрытый талант для их спасения.
А Мисти, твоя бедная жена, единственная здесь, кто в своем уме, хочет только – что же, хочет она только выпить.
Пару глотков. Пару аспирина. И еще раз.
Она хочет заорать всем, чтобы они заткнулись со своими чертовыми молитвами.
Когда достигаешь средних лет и видишь, что тебе никогда не стать великой знаменитой художницей, как мечталось, и нарисовать что-то, что тронет и вдохновит людей, тронет по-настоящему, и расшевелит их, заставит изменить жизнь. Что у тебя попросту нет таланта. Что тебе не хватает мозгов или вдохновения. У тебя нет ни одного качества, нужного, чтобы создать шедевр. Когда видишь, что во всем твоем портфолио с работами – сплошь одни каменные домины и пушистые цветочные сады, – в чистом виде сны маленькой девочки из Текумеш-Лэйк в Джорджии, – когда видишь, что все, что ты способна нарисовать, всего-навсего прибавит посредственного дерьма в мир, и так забитый посредственным дерьмом. Когда понимаешь, что тебе сорок один год, и ты достигла пределов данного Богом потенциала – ну что ж, твое здоровье.
Вот тебе соринка в глаз. Пей до дна.
Вот такой умелой тебе оставаться и дальше.
Когда осознаешь, что тебе никак не дать ребенку лучшую жизнь, – черт, да тебе не дать своему ребенку жизнь даже того качества, что давала тебе мамочка в трейлерном парке, – и это значит, что у него не будет ни колледжа, ни худфака, ни идеалов – ничего, кроме обслуживания столиков, как у мамы.
Эх, коту все под хвост.
Обычный день в жизни Мисти Марии Уилмот, королевы среди рабов.
Мора Кинкэйд?
Констенс Бартон?
Уэйтензийская школа художников. Они были разными, разными от рождения. Эти художницы, сделавшие все таким легким с виду. Суть в том, что кое у кого талант-то есть, но у большинства – нет. Мы, большинство, в итоге не получаем ни славы, ни поклонов. Люди вроде бедной Мисти Марии – ограниченные, скованные болванчики, без всяких шансов получить льготное место на стоянке. Или право на участие в каких-нибудь там Особых Олимпийских Играх. Они оплачивают кипы счетов, но не претендуют ни на особое меню в мясном ресторане. Ни на сверхгабаритную душевую. Ни на особое переднее сиденье в салоне автобуса. Ни на право политического лобби.
Нет, делом твоей жены все равно будет аплодировать другим людям.
На худфаке одна знакомая Мисти девушка запустила кухонный миксер, наполнив его сырым цементом, пока мотор не загорелся, выбросив облако ядовитого дыма. Это было ее выступление против жизни в роли домохозяйки. В этот миг она, наверное, живет в пентхаусе и питается органическими йогуртами. Она богата и может положить ногу на ногу.
Другая знакомая Мисти девушка исполняла кукольную пьесу из трех актов в собственном рту. Там были маленькие костюмчики, в которые вдевался язык. Запасные костюмы оставались за щекой, будто на сцене за кулисами. В переменах сцены закрываешь губы, как занавес. Зубы – как софиты и авансцена. Просовываешь язык в следующий костюм. После пьесы в трех актах повсюду вокруг рта у нее оставались следы от натяжения кожи. Ее orbicularis oris совсем растягивалась и теряла форму.
Однажды вечером, в галерее, исполняя крошечную версию «Величайшей истории в мире», эта девушка едва не умерла, когда ей в глотку соскользнул маленький верблюд. Нынче она наверняка загребает бешеные деньги.
А Питер, с его восторгом перед милыми домиками Мисти, очень ошибался. Питер, который сказал, что ей нужно укрыться на острове, рисовать только то, что ей нравится, дал очень херовый совет.
Твой совет, твой восторг – был очень и очень херовым.
Если верить тебе, Мора Кинкэйд двадцать лет моет рыбу на консервном заводе. Учит детей ходить на горшочек, сеет траву в саду, – и вдруг однажды садится и рисует шедевр. Бомбу. Без диплома, без практики в студии, – все равно, отныне она навеки знаменита. Ее любят миллионы людей, которые никогда с ней не встречались.
Просто на заметку, погода сегодня – огорчение, местами с припадками ревнивой ярости.
Просто чтоб ты знал, Питер, твоя мать – так и осталась сукой. Она прирабатывает в службе, которая подбирает людям фарфоровые столовые предметы, когда в сервизе есть недостачи. Она подслушала, как какая-то летняя женщина, – ни дать ни взять загорелый скелетик в роскошном платье из пастельного вязаного шелка, – сказала, сидя за завтраком:
– Какой смысл лезть сюда при деньгах, если купить нечего?
Только Грэйс это услышала, она тут же насела на твою жену с рисованием. Чтобы та дала людям вещь, на которую можно заявить права собственности. Будто Мисти как-то должна взять да вытащить шедевр из задницы, и вернуть семейству Уилмотов благосостояние.
Будто она может спасти так целый остров.
Приближается день рождения Тэбби, тринадцатилетний юбилей, – а денег на подарок нет. Мисти откладывает чаевые на переезд в Текумеш-Лэйк. Им нельзя вечно жить в Уэйтензийской гостинице. Богачи поедают остров заживо, и она не хочет, чтобы Тэбби росла в нищете, под притеснением со стороны богатых мальчиков с наркотиками.
К концу лета, прикидывает Мисти, им удастся свалить. Что делать с Грэйс, Мисти не знает. У твоей матери наверняка есть подруги, у которых можно поселиться. Всегда существует церковь, готовая помочь. Сообщество Женского Алтаря.
Вокруг них в церкви мозаичные святые, все утыканные стрелами, изрубленные топорами и горящие на кострах, и вот Мисти припоминает тебя. Твою теорию о роли страдания в небесном вдохновении. Твои рассказы про Мору Кинкэйд.
Если несчастье – вдохновение, то Мисти, пожалуй, уже почти добралась до вершин.
Здесь, когда весь остров стоит вокруг на коленях, молясь за то, чтобы она начала рисовать. Чтобы она стала их спасителем.
Повсюду вокруг святые, – улыбаются и творят чудеса в моменты боли, – Мисти тянется за псаломником. За одним из дюжины старых пыльных псаломников, некоторые из которых – без обложек, с некоторых свисают истертые атласные ленточки. Она наугад берет один и открывает. А там – ничего.
Она пролистывает страницы, но там ничего нет. Только молитвы и псалмы. Никаких особо секретных посланий внутри не нацарапано.
Хотя, когда она собирается положить его на место, на дереве скамьи, где ее прикрывал псаломник, вырезана надпись, гласящая – «Беги с острова, пока можешь».
Подписано – «Констенс Бартон».







