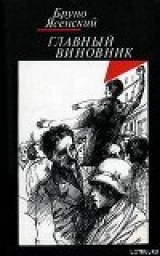
Текст книги "Заговор равнодушных"
Автор книги: Бруно Ясенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Релих грустно качает головой.
– Ты не уходишь, ты бежишь. Ты боишься, чтобы сомнение, которое пускает в тебе сейчас ростки, не превратилось в очевидность. Пойми, Женя, я хочу только помочь тебе. Что ты знаешь о Гаранине? О связях с Щуко он перед тобой умолчал. Да разве только об этом? Обо всем, Женя, обо всем! Умалчивал, врал, скрывал. Возьми сопоставь факты и вообрази на одну минуту, что речь идет не о твоем муже и друге, а о неизвестном тебе разоблаченном двурушнике. Просмотри его политическую биографию. В один из ответственнейших моментов жизни страны он бросает комсомол, чтобы отсидеться на школьной скамье. Пусть другие вывозят социализм на своем горбу, мы за это время подучимся, в грамотных кадрах нехватка – живо пойдем в гору! Его стыдят, уговаривают взять заявление обратно. Он жалуется всем и всякому: трудно! Не успеваю! Вот если бы послали в Москву!… Наконец мечта осуществляется, его посылают в Москву, в КИЖ. И что же? Не прошло и года, он опять тут: «Здрасте! Не могу жить без родного завода! Буду учиться на инженера без отрыва от производства!» Жене, вероятно, говорит: «Не могу жить без тебя! Подумай, оставаться в Москве целых три года!»
– Константин Николаевич!
– Погоди, Женя! Давай попробуем разгадать: что же случилось в Москве с нашим энтузиастом учебы? Явно какай-то неувязка. А случилась вещь довольно простая. Среди преподавателей нашелся «историк» из тех, которые «историю» хотят делать револьвером из-за угла – так быстрее. «Историку» и его хозяевам до зарезу нужны кадры, предпочтительно из молодежи, затем он и стал педагогом. Нащупывание возможных кадров – дело щепетильное. Но есть порода людей, с которыми легче всего столковаться,– это карьеристы…
– Вы не имеете права так говорить!
– Я говорю о неизвестном тебе двурушнике. И вот опытный психолог от истории уже заприметил нашего юношу. Через месяц тот у него в семинаре. Для углубленной работы нужны книжки. «Заходите как-нибудь вечерком ко мне на дом». Ну, а там, естественно, и беседа. От исторических тем до современных – один шаг, на то и сушествуют исторические параллели. Для профессора наш юнец – клад: в оппозиции не был, из партии не исключался да еще, оказывается, работал на оборонном заводе.
– Константин Николаевич!…
– Погоди, Женя. Попробуем проследить до конца. Перед нашим юношей выбор: корпеть три года в КИЖе, с тем что потом пошлют куда-нибудь в районную газету, а тут – только бы работа пошла – служебная карьера обеспечена. И вот наш юнец опять на заводе – жить без производства не может! Посадили на газету. Первое дело – принюхаться. Секретарь райкома – крепкий большевик, умный, растущий работник. Но молод, а стало быть, и не совсем опытен. Горяч. У секретаря с директором нелады. Пахнет склокой. Наш юнец тут как тут! Вся беда – не знает он ни того, ни другого и не уверен еще, на чью сторону встать. Карьеру собирается делать не по партийной линии, а по линии ИТР, следовательно, поддержка дирекции как будто важнее. Недолго думая, он бежит к директору, предлагает ему свои услуги и столбцы газеты…
– Это неправда!
– Спроси у него, он тебе скажет сам. Он тебя заверит, что всегда был принципиален. Ему показалось, что в данном вопросе прав директор. Потом он убедился в ошибке, и, по-прежнему дорожа принципиальностью, он перешел на сторону райкома. В действительности, если тебе интересно, директор, разгадавший сову по полету, заявил, что ни в какой поддержке не нуждается. Тогда наш юнец решает действовать поосторожнее. Сначала несмело, потом все развязнее он начинает громить дирекцию.
– Да, этого-то вы и не можете ему простить!…
Релих грустно улыбается.
– Чем же, по-твоему, вызвана стремительная перемена фронта?
– Не знаю. Я вообще ничего не знаю. – Голос ее дает трещину, вот-вот расколется на мелкие брызги слез.
– Видишь ли, странным стечением обстоятельств как раз большинство из тех мероприятий дирекции, которые подвергались самому яростному обстрелу газеты, впоследствии неизменно получало полное одобрение наркомата и крайкома. Наконец дирекция и райком, при активном содействии вышестоящих органов, находят общий язык и в интересах производства решают изжить до конца все ненужные дрязги. Подвергается некоторым изменениям состав бюро. Умный секретарь искренне желает положить конец ненужной драке и выдвигает своим заместителем честного рабочего-производственника, слывшего любимчиком директора. Работа завода начинает налаживаться. Нашему юнцу все эти перемены не по нутру. Он старается всячески затеять склоку между секретарем и его заместителем, трубит на всех перекрестках, что новый заместитель – шляпа и подхалим, бегает-де к директору и доносит ему обо всем. Разве не так?
Она молчит, низко опустив голову.
– Но разжечь склоку все же не удается. На время наш юноша вынужден прекратить свою активность. Ему поручают поплотнее связаться с Грамбергом. Тот когда-то исключался из партии, но сумел замазать следы… К твоему сведению, Женя, сегодня ночью Грамберг арестован. В какой мере помогал ему в его махинациях Гаранин, выяснят, очевидно, соответствующие органы. Факт, что с Грамбергом он состоял в последнее время в самых близких отношениях. Печатал в своей газете грамберговские статьи и сам, под его диктовку, протаскивал в передовицах кое-какие недвусмысленные теорийки. Пока не был пойман на этом с поличным… Вот тебе и весь Гаранин.
Женя встает, в лице ее ни кровинки.
– Я не верю, я не хочу верить, чтобы это могло быть так, как вы говорите!
– Что ж, не хочешь верить – не верь. Римляне говорили когда-то: «Надеюсь вопреки отсутствию всякой надежды». Бедная жена Гаранина может сказать: «Не верю вопреки всякой очевидности». Но ведь жену Гаранина я и не брался убеждать. Я хотел спасти Женю Астафьеву. А для Жени Астафьевой одного того, что человек, которому она доверяла, оказался врагом партии, было бы, я уверен, вполне достаточно, чтобы отшатнуться от него с ненавистью и отвращением.
Она поворачивается и уходит. Комната, еще комната, передняя, лестница.
– Товарищ, вы забыли калоши!
Это кричит женщина, открывавшая ей дверь.
– Ах да, я забыла калоши…
Ступеньки лестницы бегут, как растянутая гармоника. Стоит сжать гармошку – и люди посыплются вниз. Разве если держаться за перила…
На дворе – снег. Столько хлопьев, что можно в них заблудиться. Кто-то гудит. Протяжно запели тормоза. И рядом, совсем близко, стоит протянуть руку – никелированная морда автомобиля с посаженными по-рачьи глазищами фар.
– Эй, мамзель! Уши отсидела?…
6
А на столе шепотом, застенчиво лебезит обезоруженный телефон. Релих поднимает трубку:
– Слушаю. Что? Да, да, сейчас буду!
Оказывается, уже девять.
Он берет со стола портфель, объемистый, как чемодан, и начинает в него запихивать всякую бумажную начинку. И отчего это портфелей не делают сантиметра на два пошире!
Опять звонит телефон.
– Иду! – ревет в трубку Релих и, не слушая, кладет ее на вилки.
Внизу, у подъезда, ждет автомобиль, похожий на сугроб на колесах.
* * *
«Сегодня начинается продажа хлеба без карточек!» «В Москве открыто 368 новых булочных, хлебных отделений в продовольственных магазинах и палаток. План развертывания сети выполнен на 128%. Двадцать шесть ответственных работников НКВнуторга, во главе с заместителем наркома, прикреплены к ряду булочных на первые дни широкой торговли хлебом…»
В кабинете, на письменном столе, двенадцать телефонных трубок. Каждая из них снабжена лампочкой особого цвета. Кабинет директора соединен прямым проводом со всеми основными цехами завода. Лампочки на столе загораются и тухнут, как сигнальные огни. На бюваре расписание совещаний, список вызванных лиц и большая стопка телеграмм. Направо, надо лишь повернуть голову, – огромное венецианское окно. За окном – снег, площадь, люди в папахах и ушанках, плакаты, зима.
«Советский рабочий на зависть всем работает не десять часов, а семь. Помни, что каждый час, минута даже, зря проканителенные, равносильны краже!»
Вспыхивают и тухнут лампочки. Проворно скользит по блокноту отточенный карандаш стенографистки. Нос у стенографистки остренький, как карандаш. Телефонистка в диспетчерской исполняет на стенной клавиатуре свои замысловатые упражнения.
«Пленум Колтушинского сельсовета, Пригородного района, Ленинградской области, на территории которого расположена биологическая станция академика Павлова, единодушно избрал великого ученого первым делегатом на районный съезд Советов… Академик Павлов, принимая мандат, сердечно поблагодарил делегацию за оказанное ему внимание. По словам председателя Пригородного районного комитета, академик Павлов в беседе с делегатами коснулся своих научных работ:
«О чем я мечтаю? Я мечтаю о том, чтобы добиться возможности оздоровления человечества, чтобы люди, вступающие в брак, давали физически здоровое, умное, мыслящее поколение. Этого я добиваюсь».
Четвертое совещание приближается к концу. Любое совещание не должно и не может продолжаться дольше тридцати минут. В двенадцать часов заседание в крайкоме. Первая кнопка налево: «Вызовите машину!» Третья кнопка сверху: «Личный секретарь-информатор». В обязанности его входит два раза в день – в двенадцать и в двадцать – докладывать директору обо всем, что случилось на заводе и в поселке.
– Вы должны, как братья Патэ, все видеть и все слышать, – поучал Релих, переводя на эту работу Катю Якубович. – Директор завода должен знать о том, что произошло на заводе, раньше, лучше и подробнее всех.
Кате Якубович лет за тридцать. Английская блузка с галстуком. Лицо красивое, в веснушках, волосы стрижены по-мальчишески. Сослуживцы говорят, что с ее памятью можно выступать в цирке: она знает лично всех рабочих завода и всех «итэеров» с женами и домочадцами. На заводе ее любят и называют запросто – Катя. За Релиха она готова пойти в огонь без каких-либо для этого эротических предпосылок. Релиха она обожает за четкость в работе, за американскую сжатость, за полное отсутствие неделовых элементов в отношениях с женским персоналом заводоуправления. Беседы ее с Релихом лаконичны до предела и продолжаются не больше пяти минут.
У Кати в руках блокнот для пущей деловитости, хотя все, что в нем записано, она знает наизусть.
– Слушаю.
– Сегодня ночью арестован Грамберг. Был обыск на квартире.
– Знаю. Дальше.
– В третьем цеху мастер Шавлов после новогодней попойки явился на работу пьяным. Отправлен обратно.
– Который это Шавлов? С усами, рябой?
– Да. Шавлов Никифор. В том же цеху четверо рабочих, два из бригады Лагутко и два из бригады Азаренкова, с перепоя не вышли на работу. Треугольник цеха предполагает завтра устроить над ними товарищеский суд.
– Правильно.
– В седьмом цеху по собственной неосторожности автогенной лампой обжег себе колено ударник Карелов. Отвезен в больницу. Опасности нет. В том же цеху по нераспорядительности мастера Ильина вышла из строя песко-струйка.
– Кстати, – перебивает Релих, – утром в поселок приезжала машина НКВД. Что там случилось, не знаете?
– Знаю. Это у меня в разделе бытовых: Женя Астафьева застрелила Юрия Гаранина.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
С крыши бумажной фабрики видна река, круто поворачивающая на восток, и холмистые поля в снегу, косогорами взлетающие к горизонту.
– Видите? – спрашивает Костоглод, рукой указывая на север.
Адрианов видит: с севера сплошным зеленым массивом движется лес. Вот он, перевалив через холм, быстро спускается к реке. И Адрианов не совсем уверен: нужно ли удивляться тому, что лес сам идет на фабрику, или это так и должно быть?
– Кто это организовал? – спрашивает он на всякий случай.
– Кобылянский, – говорит Костоглод. – Поехал и сагитировал. Двести гектаров!
«Молодец Кобылянский!» – думает Адрианов, и от сознания того, что фабрика, уже пять дней стоящая без баланса, заработает опять полным ходом, ему хочется петь.
Лес спустился уже к реке и вступил на лед. Лед трещит и, не выдержав тяжести, проваливается. Адрианов не успевает даже вскрикнуть. И вот сосны переходят реку вброд. Прямые, медноствольные, они шагают по пояс в воде, подняв высоко над головой зеленый ворох ветвей, словно боясь замочить одежду. Первые, взбежав по обрыву, вваливаются на фабричный двор и с грохотом ложатся наземь. Им наскоро обрубают крону и, голые, оттаскивают вглубь. Но в ворота гурьбой ломятся новые. Вот ими уже завален весь двор, вся набережная, все подъездные пути, а их все больше и больше, и под длинными красными штабелями один за другим начинают исчезать хрупкие корпуса комбината.
– Скорее! Людей! – надрываясь, кричит Адрианов. – Надо вызвать из города пожарную команду! Алло! Станция! Дайте мне город!…
И Адрианов крутит, крутит что есть сил дребезжащую ручку телефона, а телефон звенит, звенит, захлебываясь своим картавым «ррр»…
Адрианов вскакивает и сонной рукой машинально хватает за глотку раскричавшийся не в меру будильник. Половина седьмого. Пора!
Он накидывает мохнатый халат и бежит в ванную. Там для него уже приготовлен таз со снегом. Адрианов натирает докрасна снегом свое большое тридцативосьмилетнее тело, тут и там туго стянутое узлами мышц. Вытянув вперед левую руку, он смотрит не без удовольствия, как под коричневой кожей юркой мышью бегает мускул. «Нет, пока что я еще не зажирел!»
Запах снега и ощущение напряжения в мышцах вызывают смутную мечту о лыжах.
«В ближайший выходной выгоню за город все бюро. Пусть походят на лыжах. Засиделись!»
Десять минут гимнастики. Теперь можно одеваться. Застегивая рубашку, Адрианов смотрит в окно.
По противоположному тротуару продвигается человек в шубе. Именно не идет, а продвигается. Поскользнулся. Упал. Сердито отряхивается. Исчез за поворотом. Поверх соседних крыш (дом стоит на горе) виден широкий ледяной тракт – река, а за рекой – поля в холмах и белом сиянии снега.
Мысль о лыжах возвращается навязчиво и почти сердито:
«Треть года весь край под снегом – скатерть. А дураки скулят. Связь разлаживается. Не хватает людей расчищать дороги. Из колхоза в район, за каких-нибудь двадцать километров, по любому пустяку гоняют лошадей, когда лес лежит невывезенным. А секретари? А инструктора? Без машины в деревню ни ногой. Каждый день сажают машины в сугробы. Автомобилисты! А на лыжах не угодно? Быстрее – раз; вернее – два; здоровее – три. Никакого зряшного разбазаривания транспорта плюс экономия горючего».
Адрианов перед зеркалом намыливает лицо. Мысль, навеянная запахом снега в тазу, растет, наливается румянцем:
«Начать с пробегов. Втравить в это дело комсомол. Потом – великое дело сила примера! – инструктора крайкома в ближайшие районы только на лыжах! Про автомобили забудьте! Секретарям райкомов запретить зимой пользоваться машиной в радиусе меньше тридцати километров. Другой темп жизни края! До сих пор, чего греха таить, в деревне живуча старая традиция, освященная веками: зимой отсиживайся у печки, русская кость тепло любит! Работников из районов метлой не выгонишь, одна отговорка – дороги. Поставить край на лыжи, и тонус жизни мигом поднимется на пятьдесят процентов. По-иному зациркулирует кровь в районах. Мороз не велик, да стоять не велит! Довести лыжи до каждого колхозного двора. Межколхозные лыжные эстафеты по обмену сельхозопытом и проверке подготовки к посевной. Да что эстафеты! Краевой слет колхозников-ударников на лыжах!»
От чересчур воодушевленного взмаха руки бритва задевает за подбородок. Проступает капелька крови. Вместе с капелькой крови проступают сомнения. Откуда раздобыть сразу такое количество лыж? Физкультурники и те жалуются: куда ни ткнись – всего нехватка.
Бритва разочарованно смахивает со щеки мыльную пену.
Но мечта не сдается:
«А почему бы нам не затеять собственное производство лыж? Леса, что ли, у нас мало? Год-другой понадобится, пока насытим лыжами один только наш край. А там другие края оторвут их у нас с ногами!»
С полунамыленным лицом Адрианов бежит к гимнастерке, достает из кармана записную книжку. На белом листке крупным почерком пишет: «Сварзин. Лыжи!!!» – и дважды подчеркивает карандашом.
Одетый, он выходит в столовую и, развернув свежую газету, принимается за бифштекс. В доме знают: если Адрианов встал в шесть, значит, в крае все благополучно. Тогда подают ему к завтраку пару яиц всмятку. Если встал в половине седьмого, значит, дела в крае обстоят неважно (надо поспать лишних полчаса – это окупится), тогда к завтраку дают ему честный кусок жареного мяса.
Передовица: «Звуковое кино в деревню!»
«Решение правительства срочно озвучить киноустановки в 900 районных пунктах послужит новым толчком… Сверх того создается сеть звуковых кинопередвижек, установленных на автомобилях… В течение 1935 года отправятся в разъезд по стране, по самым глубинным, отдаленным от железных дорог сельским местностям, 400 таких передвижек…»
Записная книжка Адрианова опять появляется из кармана.
«Четыреста, конечно, мало. Чего доброго, могут нас и обделить. Больше двух-трех передвижек на край не придется».
В записной книжке появляется новая строчка: «Вызвать Дичева!» – и рядом, в скобках: «(кинопередвижки)».
«Пусть культпроп предпримет шаги, спишется. Может быть, даже стоило бы двинуть в Москву Дичева или Сентюрина. Пусть поклянчат в ГУКФ. Без десятка передвижек не возвращаться! Пошлем передвижки в Лисецкий, в Борхатинский, в самые отдаленные районы. Вот будет праздник!»
Записная книжка исчезает в недрах адриановского кармана.
«Первый пленум Московского Совета». «Об итогах пятого пленума ВЦСПС». – Вот они, внутренние резервы! – «Французский министр иностранных дел Лаваль выезжает сегодня вечером в 8 ч. 30 м. в Рим…» – Вот точная информация, до одной минуты! – «Стачка под землей… Бастующие захватили шахту и не поднимаются наверх, требуя гарантий, что их не оставят без работы… Несколько человек заболели вследствие отравления газами…» «Международный шахматный турнир в Гастингсе. В партии против Митчелла Ботвинник имеет шансы на выигрыш…» – Эх, неплохо было бы после возвращения заполучить Ботвинника на недельку к нам – рассказал бы о турнире и сыграл с нашими краевыми чемпионами. В последнее время народ крепко следил за турниром. Поедет Дичев в центр, надо ему поручить, чтобы сагитировал Ботвинника…»
Шахматы – один из коньков Адрианова. Так говорят в крайкоме. На самом деле Адрианов вовсе не такой уж любитель шахмат. Но воспитать в активе железную традицию – не пьянствовать, не жениться по два раза в год, не резаться по ночам в карты – дело не такое уж легкое, если не дать людям ничего взамен. Надо дать по возможности больше. Самообразование, работа над собой – раз. Но нельзя ехать на одной работе. Беллетристика – это уже кое-что. Правда, трудно ее достать. Все же в последнее время кое-как это дело наладили. Основные новинки секретари районов получают на местах, через аппарат крайкома. Очень важное дело – спорт. Здесь сдвиг налицо. Большинство секретарей районов – ворошиловские стрелки. До весны подтянутся остальные, теперь это – дело чести. Не позже июля все обязались сдать на значок ГТО. Многие прыгали с парашютом. Ну, а когда у секретаря два-три значка, тут уж и активу показаться без значка неповадно. Очередная задача – вытеснить карты шахматами. В деле внедрения шахмат тоже кое-чего удалось Адрианову добиться. В известной степени, как всегда, личным примером. Сабулевских кустарей переключили целиком на производство шахмат. Нет ни одного района, где бы не было шахматного кружка. Соревнования и межрайонные турниры постепенно входят в быт. Конечно, приезд Ботвинника или Ласкера здорово двинул бы это дело вперед!
Завтрак окончен. Бросив газеты на столик, Адрианов переходит в кабинет. В кабинете ждет уже инженер Величко. По утрам, с восьми до девяти, Величко читает Адрианову курс по станкостроению.
Хочется до зуда в пальцах снять телефонную трубку и спросить, как обстоит дело с подвозом баланса для остановившейся бумажной фабрики. Но Адрианов знает по опыту: забить голову текущими делами до утренней лекции – значит зря потерять час, все равно в голове ничего от лекции не останется. В крайкоме привыкли: до девяти часов звонить Адрианову нельзя, разве в самых что ни на есть аварийных случаях. Сначала никак не могли с этим примириться, звонили с семи, а то и раньше. Каждому его случай представлялся неотложным и исключительной важности. Но постепенно приноровились.
Чтобы телефон не мозолил глаза, Адрианов садится к нему спиной.
– Давайте, на чем мы остановились?
– «…Процесс Феллоу заключается в вертикальной прострожке промежутков между зубьями, пользуясь в качестве резца зубчатым колесом с 24 зубьями… Для шестерен с числом зубьев меньше 24 образующая эвольвенты, характеризующая профили зубьев, составляет с касательной к окружностям зацепления угол не в 25°, как в обыкновенных случаях, а угол в 20°…»
Девять часов. Хрипло звонит телефон. Крайком вступает в свои права. Величко прощается и уходит. Адрианов снимает трубку, словно открывает шлюз. Сейчас на него низвергнется край – водопадом дел и заданий.
– Слушаю!
Говорит Товарнов, помощник:
– Сегодня, в пять утра, Бумкомбинат возобновил работу. Для подвоза баланса мобилизовано четыреста тридцать грузовиков и девяносто процентов лошадей четырех близлежащих сельсоветов.
– Почему девяносто, а не все сто?
– По данным сельсоветов, три процента лошадей больны, а семь процентов необходимы для самых неотложных нужд колхозов.
«Известно, для каких нужд: катать в район! Эх, лыжи бы, лыжи!»
– Как дело с подвозом?
– Бесперебойно. Лес идет, как по конвейеру. Адрианову отчетливо припоминается сегодняшний сон:
как сосны шли вброд, подняв высоко над головой зеленый ворох ветвей.
– А лед выдержит? – спрашивает он, бессознательно повторяя сказанные уже сегодня кому-то слова.
– Что? Я не совсем вас понял, Андрей Лукич, – озадаченно сопит в трубку Товарнов. – Какой лед? На реке? Ведь сейчас январь.
– Ну и что ж, что январь? Все-таки четыреста машин с грузом… – оправдываясь, ворчит Адрианов.
Ему совестно перед помощником за нелепый вопрос, и он круто меняет тему:
– Радиосовещание с секретарями райкомов подготовлено?
– Точно к шести часам.
– Почему нет еще сегодняшнего «Рабочего»?
– Только что получили. Вышел с небольшим опозданием.
– Решение бюро напечатано?
– Есть. Потому-то номер и запоздал. Бюро ведь кончилось вчера в час ночи…
В решении бюро записан выговор редактору. Такие вещи всегда печатаются туго.
– Через двадцать минут буду в крайкоме. Подготовьте все дела. В двенадцать уеду на Бумкомбинат.
– Андрей Лукич! – умоляюще вскрикивает трубка. – Погодите минуточку! У меня еще уйма вопросов.
– Вот и хорошо. Доложите мне обо всем в крайкоме.
Адрианов вешает трубку. Он просматривает папку с письмами секретарей районов. Это ответы на вопрос, поставленный Адриановым в связи с его последней беседой о типе партийного работника: «Пусть каждый из вас попытается сам определить отрицательные черты своего характера, прощупать собственные недостатки, мешающие ему в работе. Не торопитесь, не приукрашивайте. Понаблюдайте за собой со стороны и изложите мне в личном письме, в чем же, по-вашему, состоят ваши основные недочеты и что вы предпринимаете для того, чтобы от них избавиться».
Уже третью неделю поступают ответные письма. Выдвигая вопрос, Адрианов не переоценивал объективного интереса такого рода самокритических сочинений. Привычно отсчитывая по пунктам положительные стороны каждого, даже самого незначительного мероприятия, он подытожил в уме: известная затравка к пересмотру каждым своих методов работы – раз; материал для будущей беседы о методике работы над собой – два; для меня лично – материал для более углубленного знакомства с командным составом нашей краевой организации.
В этом разрезе письма представляли и вправду незаурядный интерес. Характер автора сказывался отчетливо уже в самой манере изложения. Были письма, сжатые до предела, состоящие всего из нескольких слов, вроде: «обидчив», «вспыльчив», «запущенное мальчишество», – деловые, почти стенографические характеристики, выдержанные в тоне беспристрастного заключения, в редких случаях с учетом смягчающих вину обстоятельств. Были письма почти библейские в бесхитростной своей простоте.
Секретарь Шеболдаевского района Барабих писал:
«По вечерам дома выпиваю. Вреда от этого никому никакого нет. На людях и в рот не беру, значит, дурного примера не показываю. О том, что пью, дома никто не знает. На работе моей это не отражается – встаю каждый день в пять, без опоздания. Если причиняю кому вред, то разве только собственному организму. Да и то свидетельства медицины в этом вопросе весьма сбивчивы. Умом себя оправдываю, но сердцем все же смущаюсь. Получается, вроде как бы ушел я в подполье: пью один при закрытых дверях. Бороться пробовал – не выходит. Придешь домой усталый, как лошадь, голова не варит. А пропустишь стаканчик-другой – как часы завел: могу еще читать и работать до двенадцати».
Секретарь Дубняковского района Глухарев каялся в том, что человека, не выполнившего его задания, «способен возненавидеть и обругать самыми нехорошими словами». Черту эту в своем характере знает и борется с ней по возможности. «Говорят, американцы, чтобы не ругаться, резину жуют, но у нас, к сожалению, таковой не производят. В последнее время испытываю такой метод: вспылив, стискиваю зубы и молчу, кто бы меня о чем ни спрашивал. Обратно, не знаю, как лучше. Иной раз сами колхозники просят: „Кондрат Трофимыч, покрыл бы ты нас лучше матом, по-божески, а то молчишь, смотреть на тебя страшно“.
Нижнереченский секретарь Руденко сокрушенно признавался, что «сильно недолюбливает единоличников», и просил не рассматривать этого, как отрыжку его ошибок двадцать девятого года. Перегибы свои тогдашние он полностью осознал и исправил на практике. Всю партийную литературу о работе в деревне читал и усвоил. Единоличников своих не трогает – от греха подальше, – да и осталось их у него в районе всего тридцать штук, но зато все народ на редкость упрямый. Никакая сила разума их не берет. Как с ними быть – неизвестно. Поддерживать их искусственно – смысла нет, да и политически неправильно: район – не богадельня. Выселить их из района не выселишь, сидят, как грибы. Выходит, по всему СССР скоро все население будет в колхозах, а ему одному в Нижнереченском придется открывать заповедник для последних единоличников.
Были письма пространные, ночные раздумья со ссылками на Фейербаха, Плеханова, Гете, однажды даже на Лабрюйера, с литературными параллелями из классиков и современных беллетристов. Видно было, что авторы писали ночью, долго расхаживая по комнате, от времени до времени доставая с полки то ту, то другую книгу. А когда кончили свое необычное послание руководителю краевой организации, не похожее на официальные рапорты и письма о достижениях и нуждах района, на дворе, наверное, кричали уже петухи и вставало седое декабрьское утро в серьгах из ледяных сосулек…
Из посланий этих Адрианов видел наглядно, что прочли и продумали за последние месяцы его воспитанники, чем обогатились их книжные полки. Из самого стиля писем он дополнительно узнавал, казалось бы, так хорошо (и все же не до конца) знакомых ему людей. Люди говорили, как на чистке, чистейшую, неприкрытую правду, честно делясь с Адриановым своими сомнениями и слабостями.
Больше всего поразило Адрианова по своему началу письмо маляевского секретаря Шингарева.
Шингарева знал он, чтобы не соврать, лет тринадцать, и начало их знакомства, если рассказать о нем сейчас, могло показаться даже несколько необычным: Шингарев принимал Адрианова в губернскую партийную организацию. Удивительного в этом ничего не было, поскольку сидел тогда Шингарев на кадрах и прошел через его руки не один Адрианов, а добрых несколько тысяч здравствующих и поныне членов партии.
Всю свою сознательную политическую жизнь, если не считать фронтов в гражданскую да нескольких лет учебы, Адрианов провел в крае, начав свое восхождение с секретаря маленькой заводской ячейки. Это стало для него впоследствии источником дополнительных затруднений. Руководить Адрианову приходилось людьми, которые еще вчера были его начальством. Люди эти выдвижение его встретили кисло, как личную обиду. Когда же Адрианову впервые пришлось по кое-кому из них ударить, атмосфера обиды стала еще напряженнее. Каждый из них считал себя предназначенным по крайней мере Адрианову в советники и подчеркнутую самостоятельность нового секретаря воспринимал как простое зазнайство.
Авторитет Адрианова вырос как-то незаметно. Отчитывал Адрианов по заслугам всех, но особенно строго тех, кого выдвигал сам и кого привыкли считать его любимцами. Снимал же с работы только тогда, когда случай оказывался явно безнадежным. За стоящих работников дрался вплоть до КПК.
Первоначально Адрианов руководил цеховой ячейкой, а Шингарев ведал кадрами в губкоме. Потом встретились они и подружились в городском комитете партии, куда выдвинут был Адрианов и куда за какие-то промахи сплавили из губкома Шингарева. Когда же Адрианов пошел вторым секретарем в крайком, Шингарев секретарствовал уже в одном из отдаленных лесных районов.
Письмо Шингарева, написанное убористым почерком на нескольких листках, вырванных из тетрадки, начиналось так:
«Главный мой недостаток как руководителя районной организации состоит, мне кажется, в том, что я не люблю своего района…»
Прочтя первые строки, Адрианов насторожился. Такое признание у своих секретарей он встречал впервые, и звучало оно почти неправдоподобно.
Адрианов сбрасывает пальто, выключает дребезжащий телефон и, сев за стол, погружается в чтение:
«Сижу я в моем Маляевском районе вот уже шесть лет. Нельзя сказать, чтобы сначала я не взялся за работу с воодушевлением. Построил мебельную фабрику, понастроил школ, прорубил просеки для дорог. Года три проработал как вол, и думать было некогда. А потом однажды подумал и осекся. Район мой лесной – лес шумит, птицы поют. До железной дороги далеко. Проводить тут ее в ближайшие пятилетки не предполагается. Перспектив перед моей мебельной фабрикой никаких. Делаю школьные парты для своего и близлежащих районов. Благо еще школьное строительство у нас из года в год разрастается, а то и фабрику пришлось бы закрыть. Произвожу из дровосеков фабричных пролетариев – в этом, пожалуй, единственный смысл моей фабрики. Люди учатся, растут. Подрастут – уходят из района, делать им тут нечего. Из леса приходят новые. А я один сижу и сижу, как леший. Вырастил я за это время добрые три смены. Любого посади на мое место – справится: хозяйство несложное.
Сейчас мне сорок три года. Ну, просекретарствую я еще года три-четыре. А потом что? Люди у нас растут. Скоро каждый рядовой работник будет с высшим образованием. Дровосеки мои, небось, уже во втузах учатся. Встретишься с ними через несколько лет – инженеры. А я кто? Думается мне, скоро и самый тип районного секретаря, такого, как я, отомрет. Стране не нужны будут больше мастера на все руки, вроде нас. Секретарями промышленных районов будут коммунисты-инженеры, секретарями сельскохозяйственных – коммунисты-агрономы. А нас куда? В пятьдесят лет на учебу? Не поздновато ли?
Вот руковожу я районом, где мебельная фабрика. Производство освоил назубок, не хуже любого инженера. А попробуй я завтра идти работать по этой линии – не примут. Спросят: а где у вас диплом? Поставят в лучшем случае мастером, да и то если фабрика из отсталых. На передовых – все мастера с дипломами. И выходит, потрачу я на секретарство все мои силы – работа у нас, известно, тяжелая, нервная, – а потом иди куда хочешь. На учебу будет уже поздно, на «социалку» – рано.
Вот четвертый год каждую осень ставлю вопрос, чтобы послали меня учиться, пока еще что-нибудь из этого может выйти. И четвертый год крайком отказьшает, посьшает других, помоложе. Что же, вам видней. Только секретарь, который не горит своим районом, – плохой секретарь.
С коммунистическим приветом
Ф. Шингарев».
Адрианов задумчиво складывает письмо и сует его в портфель.







