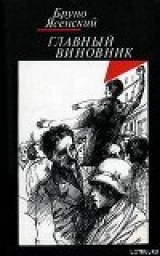
Текст книги "Заговор равнодушных"
Автор книги: Бруно Ясенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
17
Утром Эрнст встал поздно, с головной болью, оделся и отправился на Александерплац, в полицей-президиум. Поднявшись на третий этаж, он заглянул в одну комнату, затем в другую. В четвертой комнате одинокая девица выстукивала что-то на машинке. Эрнст поздоровался любезным «Хайль Гитлер!» и попросил у нее разрешения позвонить по телефону: все автоматы заняты, а ему необходимо известить клиента, которого срочно вызывают в полицей-президиум.
Элегантная внешность и изысканные манеры Эрнста сделали свое дело. Барышня сказала: «Пожалуйста» – и указала на телефон.
Эрнст вызвал профессора Эберхардта и официальным тоном попросил его явиться к двум часам в полицей-президиум, комната 48. На тревожный вопрос старика, по какому делу его вызывают, Эрнст ответил сухо: «Кое-какие формальности» – и положил трубку. Он поблагодарил барышню, наградившую его весьма милой улыбкой, и вышел в коридор.
Первая половина дела была сделана. Ангелы, наблюдающие за телефоном Эберхардта, если им даже вздумается проверить, узнают, что звонили действительно из полицей-президиума. Эберхардт-старший по такому вызову явится непременно. Шпик, который будет его сопровождать, вряд ли вздумает путаться за ним по зданию полицей-президиума. Скорее всего подождет у выхода. Если же и поднимется, то не станет особенно пристально следить за лицами, с которыми профессор Эберхардт встречается в полиции.
Прохаживаясь по коридору, ровно в два часа Эрнст увидел на площадке лестницы Эберхардта-старшего. По лестнице поднимался дряхлый старик. Вид у него был запущенный и неопрятный. Не осталось и следа ни от прежней выправки бонвивана, ни от подчеркнутой аккуратности в одежде. Смерть Роберта, должно быть, здорово подкосила старика.
У дверей комнаты 48 Эрнст подошел к нему и сказал полушепотом:
– Здравствуйте и не удивляйтесь!
Старик остановился как вкопанный и в остолбенении глядел на Эрнста.
– Как? Вы работаете в полиции?! – воскликнул он с нескрываемым ужасом.
– Не говорите глупостей, – строго пробурчал Эрнст. – И слушайте меня внимательно. Погуляйте здесь минуты две. Потом идите в самый конец коридора. Последняя дверь направо – уборная. Войдите туда и заприте за собой дверь на задвижку. Поняли? – Он повернулся на каблуке и медленно пошел по коридору.
Топографию места он успел изучить досконально. Уборная в конце коридора принадлежала к типу одноместных. Она состояла из двух отделений: из маленькой комнатушки с писсуаром и умывальником и из собственно уборной – крохотной кабинки за деревянной перегородкой. Эрнст зашел в кабинку. Минуты через три в помещение с Умывальником зашел профессор и стал возиться с задвижкой. Эрнст окликнул его и позвал в кабинку.
– Садитесь, – сказал он, затворяя вторую дверь и указывая старику на стульчак. – Вдвоем здесь стоять негде.
Профессор послушно присел, поглядывая на Эрнста со страхом.
– Вы действительно не служите в полиции? – спросил он еще раз.
Эрнст в нескольких словах попытался объяснить причину, заставившую его выбрать для их свидания такое неподходящее место. Профессор вздохнул с облегчением. Он тут же полез за пазуху и стал вытаскивать какие-то бумаги.
– Это письмо Роберта к вам, а это – к Маргрет. А вот это – бумаги, которые мне удалось спасти. – Дрожащими руками он совал их Эрнсту.
– Вы все это таскаете с собой?
– Да, я боюсь оставлять дома.
– Хорошо, – сказал Эрнст, пряча бумаги. – А теперь рассказывайте, быстро! Долго оставаться нам здесь нельзя…
…Десять минут спустя Эберхардт-старший вышел из уборной и, следуя инструкции Эрнста, вошел в комнату 48. Он спросил у сидящего там ворчливого чиновника, как пройти в паспортный отдел. Затем, помешкав еще немного, он вышел в коридор, спустился по лестнице, сел в автобус и отправился домой.
Эрнст просидел в уборной еще минут пять. Он завернул в газету письма и бумаги Роберта и спрятал их тщательно за бак для спуска воды. Потом он покинул уборную, на ходу приводя в порядок гардероб. Покрутившись немного в самом людном отделении, он вышел на улицу. Из привычной осторожности он объехал чуть ли не весь Берлин, то и дело меняя средства передвижения, пообедал в небольшом ресторанчике в Далем и только к вечеру, усталый, вернулся в гостиницу.
Решив выспаться перед завтрашним путешествием, он быстро разделся и уже собирался лечь спать, когда в номер вдруг постучали. Привычным ухом он уловил за дверью присутствие нескольких людей. Он рванулся к костюму, соображая, куда податься, когда хряснула взломанная дверь. Одеваться было некогда. В нижнем белье и ночных туфлях он, не раздумывая, выскочил на балкон. Балкон был длинный, на него выходили двери нескольких номеров. На дворе уже стемнело, моросил ледяной, промозглый дождь.
Пробежав до конца балкона, Эрнст уперся плечом в последнюю дверь и с размаху влетел в чей-то ярко освещенный апартамент. Раздетая пожилая дама при виде его испустила короткий крик. Эрнст огляделся. Топот шагов на балконе заставил его выскочить в коридор. Добежав до запасной лестницы, он съехал по перилам на второй этаж, шмыгнул в коридор и ткнулся в первую дверь. Дверь была не заперта. В номере на диване дремал полураздетый мужчина. При звуке открываемой двери мужчина пошевелился. Эрнст нырнул в ванную…
Покидая в облачении Релиха негостеприимную гостиницу и хладнокровно взвешивая ситуацию, Эрнст сказал себе не без горького юмора, что, несмотря на все, его перехитрили. Правда, им не удалось заполучить его лично, зато в их руках остался весь доктор Клаус Зауэрвейн вместе с паспортом, визой, деньгами и железнодорожным билетом, доктор Зауэрвейн никуда завтра не уедет. Но уедет ли Эрнст Гейль – это еще вопрос…
Он вспомнил про бумаги Роберта и похвалил себя за предусмотрительность. А впрочем, не подвох ли все это? Ничего, как-нибудь разберемся! Будем надеяться, что при всей их недюжинной прозорливости им все же не придет в голову перетряхивать в полицей-президиуме уборную.
Разыскав кое-кого из товарищей, Эрнст быстро обзавелся костюмом, ботинками, даже стареньким пальто и устроился на ночь на одной из конспиративных квартир в Вильмерсдорфе.
Ложась спать на распластанном на полу худом тюфяке и тщетно пытаясь укутаться в коротенькое байковое одеяло, он сурово отчитывал себя за свое непозволительное легкомыслие. И все же – он знал это отлично, – если бы можно было вернуть вспять два последних дня, он поступил бы и во второй раз точно так же.
Оставалось обдумать, каким путем выехать по назначению не позже завтрашнего вечера. Обдумывая эту сложную задачу, он заснул сном утомившегося праведника.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Одиннадцатого января 1935 года из Берлина на запад вышли два поезда. Поезд «А» – курьерский «Берлин – Париж» – вышел в одиннадцать тридцать, развивая скорость до восьмидесяти километров в час. Поезд «Б» – простой пассажирский, со средней скоростью в пятьдесят километров – вышел в Кельн двумя часами позже. В поезде «А», в четырехместном купе международного вагона, ехал директор н-ского завода Константин Николаевич Релих. На его советском паспорте имелась французская виза. В поезде «Б», в битком набитом вагоне третьего класса, ехал Эрнст Гейль. У Гейля не было ни заграничного паспорта, ни французской визы, но ехал он тоже в Париж, хотя поезд шел только в Кельн, а на билете Эрнста значился как конечная станция Трир.
Одновременно с поездами «А» и «Б» из сотен тысяч других станций, разбросанных по всему земному шару, вышли в этот день тысячи других поездов: одни в том же, другие в противоположном, третьи в еще иных направлениях. В поездах ехали десятки миллионов людей, с паспортами и без, с билетами и без билетов. Люди ехали за хлебом, за работой, торговать, жениться, разводиться, рожать, хоронить родственников, навещать знакомых, лечиться, отдыхать на курортах, заниматься зимним спортом, шпионажем, дипломатическими переговорами, учебой, охотой, представительствовать, взламывать несгораемые шкафы, резать пациентов, развратничать, продуваться в рулетку, произносить речи, щелкать фотоаппаратами…
В эпоху, когда на пяти шестых земного шара вся человеческая жизнь протекала в узких стойлах нерушимых государственных и сословных границ, нерасторжимого брака, непроветриваемых канцелярий, железнодорожный билет был лотерейным билетом, предоставлявшим покупателю право принимать участие в лотерее счастливых встреч, был паспортом в страну непредвиденных приключений.
Не все пассажиры, отправлявшиеся в путешествие, прибывали на место назначения. Несмотря на то, что «Ракету» Стефенсона от обтекаемого локомотива выпуска 1934 года отделяло расстояние в сто десять лет, поезда по-прежнему нередко сталкивались друг с другом и летели под откос. Точная статистика железнодорожных катастроф держалась в секрете, как военная тайна.
Во избежание крушений миллионы людей в зной и стужу, днем и ночью выстаивали по пути с зелеными флажками, переводили стрелки, бегали с масленками вдоль поездов, смазывая нагретые буксы, выстукивали на станциях молотками гулкие колеса вагонов, дежурили без сна у телефонных аппаратов в диспетчерской. На каждую сотню населения приходился один железнодорожник.
Весь земной шар, как гигантский хоккейный мяч, был обмотан постромками рельсов. На сотни тысяч километров тянулись они через поля и овраги, продирая густую шерсть лесов и набухая рубцом на незащищенной плеши пустынь. Поэты сравнивали их с щупальцами спрута, зажавшего в своих объятиях землю. Ученые сравнивали их с системой кровеносных сосудов: в конечностях материков, тронутых параличом, она отмирала и корчилась; в других, здоровых, она разветвлялась все шире, воскрешая к жизни мертвые пустыни Туркестана хлебной кровью Сибири.
На каждый километр рельсов приходилось до полутора тысяч шпал. Поезда двадцатого столетия бежали по трупам лесов, варварски поваленных древним топором дровосека. Люди, выбитые из колеи, любили ложиться на рельсы, под проходящие поезда, доставляя служебные неприятности машинистам.
По бесконечным рельсам днем и ночью бежали вагоны. В вагонах на ходу жили люди. Люди, оторвавшись от своей повседневной жизни, скучали, читали детективные романы, играли в карты, в шахматы, качали на коленях чужих детей. Детвора упрямо наступала им на мозоли и прорывалась к окнам. Вид всегда неподвижного и чопорного мира, вдруг пустившегося вскачь, приводил ее в возбужденный восторг. Взрослые снисходительно улыбались зрительному обману малышей, утешаясь сознанием собственного превосходства. Они были бы немало посрамлены, узнав, что современная релятивистская физика давно осудила их консервативную точку зрения, допуская вслед за детьми, что поезда стоят на месте, а движется окружающий мир. Если же предметы и люди на перроне не покачиваются при каждой внезапной остановке, виновато в этом гравитационное поле, мгновенно поглощающее их кинетическую энергию.
На пассажиров, сидящих в поезде, гравитационное поле действовало по-своему: по мере движения они явно начинали тяготеть друг к другу. Оторвавшись на время от земли, они сразу становились общительнее и отзывчивее. Они пили чай или вино из одной кружки с незнакомыми людьми, делились с ними своими заботами и огорчениями, сочувственно выслушивали бесконечные рассказы спутников, услужливо бегали на станциях опускать в ящик чужие письма, баюкали чужих ребят, плакали над чужим горем и радовались чужой удаче…
Поезда идут на север средь седых слегка лесов. Поезда идут на запад. Поезда идут на юг. Поезда вращают землю, точно белка колесо. Танец начат. Сосны скачут. Люди плачут и поют.
В четырехместном купе международного вагона сидят Константин Николаевич Релих и его случайные спутники. Немец, лысый и круглый, неопределенного возраста – стандартный экземпляр распространенной породы «делец». Зовут его господин Хербст, Герман Хербст, и едет он с больной женой в Ментону. Жена еще молодая, может быть, даже красивая, но ужасающе тонкая и прозрачная, полулежит в углу, закутанная в шаль. Третий спутник – француз: дипломатически-тупое лицо туриста с рекламного плаката «Париж – Лион – Средиземноморье», скорее всего чиновник из французского посольства или консульства в Берлине. Очутившись в купе в обществе женщины, он считает своим мужским долгом погладить ее по ноге, искусно просунув руку под плед и задумчиво уставившись в окно. Нога холодна и тонка, как сосулька. Дотронувшись пальцами до выдающейся коленной чашки, он отдергивает руку. Ощущение такое, будто он погладил скелет. Женщина неподвижна. Ее большие голубые глаза, как обожженная светом фотографическая пластинка, не реагируют больше ни на какое возбуждение.
Француз сердито шелестит «Таном». Это не женщина, это третья стадия туберкулеза! Таких должны перевозить в специальных вагонах для заразных!…
Он обиженно покидает купе и отправляется в ресторан смаковать терпкое рейнское вино.
Господин Хербст суетится и хлопочет, бегает за апельсинами, поправляет на жене плед. Господин Хербст чувствует себя виноватым перед соседями по купе, перед женой, перед проводниками, перед всем миром. В молчаливых глазах всех он читает холодный укор: поздновато вы задумали, господин Хербст, вывозить свою жену в Ментону. В оправдание он рассказывает, рассказывает без конца: у кого только он ее не лечил, куда только не посылал! Каждый врач советует другое. Теперь последний консилиум остановился на Ментоне. Ментона, наверное, ей поможет.
Релих, утомленный назойливой болтовней немца, выходит в коридор. Но господин Хербст не покидает его и здесь. Он предлагает Релиху сигару и, не смущаясь отказом, навязчиво бубнит, понизив голос, чтобы не слышали в купе: как это все не вовремя, как не вовремя! И ведь сейчас как раз ему ни за что нельзя было уезжать! А вот пришлось бросить все дела и уехать.
Он даже немножко рисуется, давая понять, что другой в его положении не пошел бы на это, а вот он, Герман Хербст, бросил все и уехал спасать жену.
Дела у него обстоят действительно неважно. С момента отъезда из Берлина вслед за ним уже пришли две телеграммы. После каждой он становится еще более суетлив, выбегает в коридор, сует проводнику для отправки новую депешу, возвращается в купе, садится, вскакивает, уходит в уборную и, может быть, там, запершись один, бьется головой о стенку.
Релих возвращается в купе и достает из портфеля книгу. Ему что-то не читается. Прозрачная фрау Хербст слишком ярко напомнила ему собственную жену – Зою.
Год назад он, так же как Герман Хербст, увозил ее в Крым, в душном купе международного вагона, суетился и хлопотал, приносил молоко и апельсины. Очевидно, всем женщинам присуще доставлять окружающим максимум беспокойства. Зоя обладала этим свойством в совершенстве. Даже умереть она постаралась не вовремя, чтобы расстроить его заграничную командировку. Телеграмму о ее смерти он получил в день отъезда. Из соображений элементарного приличия ему следовало отложить поездку и отправиться хоронить жену. Но очередная, на этот раз последняя, выходка Зои перетянула струнку. Он заклеил телеграмму и оставил ее на столе. Могло же это известие прийти несколькими часами позже!…
За окном плывут, как плоты, рыжие квадратные поля. На телеграфных проводах сохнет сизое январское небо. Немец убежал в коридор. В купе никого, кроме Релиха и больной госпожи Хербст. Больная закрывает глаза и плотнее кутается в шаль.
Вот так, вот так же год назад ехали они с Зоей. Купе было двухместное, но сидели они точно так: она – полулежа на диване, он – напротив нее, на стуле. Это было на третий день после ее нелепого приезда из Ялты, вызванного каким-то дурацким предчувствием, что ему, Константину, угрожает опасность.
О, она отлично понимала, что теперь ей уже не поправиться! Она сказала ему об этом сама: «Я знаю, что мои дни сочтены. Больше мы, вероятно, не увидимся. Поэтому я очень хотела, чтобы ты проводил меня хотя бы до Москвы. Думаю, раз за пятнадцать лет нам нужно бы поговорить…» Она добавила еще: «С мертвыми можно говорить начистоту…»
Разговора у них тогда не получилось.
Теперь ее уже нет. Если бы мертвые могли являться своим близким, как это водится в английских романах, он не отказал бы ей на этот раз в откровенном разговоре. Он сказал бы: «Ты была права, только с мертвыми можно говорить начистоту. Если хочешь, поговорим. Садись. Я знаю, что духи нематериальны, но раз они могут появляться, они могут и сидеть. Продлим нашу старую беседу…»
Все было в точности как сейчас: стучали колеса, за стеной, звеня стаканами, ходил проводник.
«Завернись в плед и ложись. Или ты уже легла? Итак, на чем же мы остановились…»
2
…В накуренном купе третьего класса едет Эрнст Гейль. Поезд подолгу стоит на каждой станции. В купе, распахивая дверцу то справа, то слева, врываются взволнованные люди с чемоданами. Убедившись, что мест нет, они с досадой пятятся назад, оставляя дверь нараспашку. Эрнст, сидящий с краю, каждый раз безропотно приподнимается и захлопывает дверь. Роль добровольного портье даже забавляет его. Хоть какое-нибудь занятие!
Путешествие поездом доставляет ему неизменное удовольствие. Нигде так быстро не разговоришься с людьми, как в поезде, в тюрьме и в пивной. Старый агитатор, он разбирается в этом отлично. К сожалению, за последние два года люди в Германии словно проглотили языки. Сколько ни бейся, не вызовешь их на разговор ни в пивной, ни в поезде. Даже в тюрьме предпочитают молчать.
С неослабевающим никогда жадным интересом Эрнст присматривается к случайным молчаливым спутникам. У большинства в руках газета «Фелькишер беобахтер». Странно, эта газета, по заверениям самих продавцов, слабо расходящаяся в розницу и распространяемая больше по подписке, по учреждениям, пользуется удивительным успехом среди пассажиров железных дорог. Нельзя сказать, чтобы они ею зачитывались! Но почти каждый держит ее в руках, наготове, как железнодорожный билет.
За окнами, прихрамывая и задыхаясь, бежит Германия. Навстречу транзитным экспрессам она бежит не так. На международных олимпиадах каждой стране лестно блеснуть. Но кто хочет узнать подлинный бег страны, должен изучать его на провинциальных состязаниях. Германия, увиденная из окон простого почтового поезда и из окон экспресса, – это две различные Германии. У лошади, скачущей на дерби, двадцать пар ног; у лошади, бегущей по проселочной дороге, ног всего четыре.
Пассажиры, кто с интересом, кто тоскливо, а кто просто от нечего делать, смотрят в окна. Их много, двенадцать человек, собранных здесь случайно.
Вот пожилой мужчина, по виду ремесленник, – узкие губы под тенистой застрехой соломенных усов. Судя по рукам, сапожник. Лица часто обманывают, руки не обманывают никогда.
Вот деревенская старуха в чепце размеренно клюет носом, как игрушечная курица на подставке. Рядом с ней старый крестьянин с фарфоровой трубкой в зубах – щеки гармошкой, лицо обветренное, суровое, глаза пугливые, как зайцы, под осенними кустами бровей.
Вот серый господин неопределенной профессии – учитель игры на скрипке или мелкий уездный чиновник в отставке – бережно поджимает под себя ногами невзрачную корзинку. Этот прикидывается, будто никого не замечает, и украдкой, искоса, из-под опущенных век ощупывает глазами лица соседей: кто-то из них несомненно обдумывает сейчас покушение на его корзинку! Но кто? Не этот ли, вертлявый, то и дело захлопывающий за всеми дверь?
Вот на том краю скамейки, у окошка под покачивающимся на вешалке котелком, немолодой общительный субъект в фиолетовых носках и в клетчатом поношенном пиджачке – коммивояжер фирмы патентованных резиновых изделий. Об этом достовернее паспорта свидетельствует его палка с голой костяной девицей в длинных чулках, нагнувшейся поправить подвязку. Таз и спина девицы, согнутая под прямым углом и образующая ручку, успели изрядно стереться от обхвата пальцев, которыми субъект перебирает непрерывно, будто играет на окарине. Это один из тех агасферов коммивояжа, которые, скитаясь всю жизнь в переполненных вагонах третьего класса, среди брюзжащих старух и пропахших табаком провинциалов, по вечерам где-нибудь в захолустной пивной, в Кобленце или в Кельне, повествуют юным коллегам по профессии о своих романтических похождениях в слипинге «Летучего гамбуржца».
Вот бедно одетая учительница – красное родимое пятно в половину левой щеки просвечивает сквозь вуалетку. Бедняжка то и дело ерзает на скамейке, тщетно отодвигаясь от остроусого трехэтажного унтера, отпускника и донжуана.
А вот целая семейка. Он – в жилетке, с усиками, подбритыми а-ля фюрер, с большой шишкой на затылке и ярко выраженной склонностью к апоплексии, – скупщик скота или, вернее, колбасник: об этом говорят его красные руки, привыкшие к кипятку, и профессиональная привычка вытирать их, за отсутствием фартука, о штаны. Она – худая и востроносая – беспрерывно двигает челюстью. Длинная шея над прямой перекладиной плеч. Черное боа из перьев висит на ней, как траурный венок на могильном кресте. Рядом – два отпрыска: один лет тринадцати, стриженный бобриком, с оловянными глазами онаниста. Другой, постарше, длинный и краснощекий, всецело занят жратвой. Жратва покоится в сумке на цоколе у мамаши.
Поезд пыхтит и время от времени протяжно взвывает от тоски. При каждом его гудке сонная старуха испуганно поднимается на дыбы, унтер вздрагивает, как от выстрела, и гневным взглядом обводит купе, коммивояжер добродушно чертыхается и в двадцатый раз заводит разговор о железнодорожных порядках, а крестоподобная мамаша на мгновение каменеет, подавившись непрожеванным куском.
Время тянется. Резиновые лица вытягиваются в зевке.
– Что вы скажете про этого Гауптмана? – хлопая ладонью по газете, вскрикивает коммивояжер. – Взял пятьдесят тысяч долларов и, вместо того чтобы удрать, спокойно дожидался, когда его посадят на электрический стул.
Учительница вытирает нос платком. Если ей кого-нибудь жалко, так это госпожу Линдберг: потерять так ребенка ни за что ни про что!
У колбасника свое, особое мнение: весь этот флемингтонский процесс затеян Америкой в пику Германии. Кто такой Гауптман? Честный немец, фронтовик, старый пулеметчик. Вот чего американцы не могут ему простить!…
Неутомимый «комми» в сотый раз подбрасывает стружки в разговор, но беседа дымит и гаснет. Даже послезавтрашний плебисцит в Сааре не в состоянии ее разжечь.
– Когда красные захотели устроить свой митинг, электростанция не дала им света. Сколько их вожаки ни бегали ябедничать к этим господам из Лиги Наций, пришлось им митинговать в темноте!
Унтер любопытствует:
– Не нашлось никого, кто бы набил в темноте морду этому подлецу и изменнику Максу Брауну?
– Что вы! Разве можно! Знаете, какой был бы шум?
– Ну, насчет шума, они поднимают его и так! Будьте покойны, после плебисцита мы поговорим с этими свиньями другим языком. Мы отправили туда тридцать семь поездов с уроженцами Саара для участия в голосовании. Это что-нибудь да значит: тридцать семь поездов честных немцев!…







