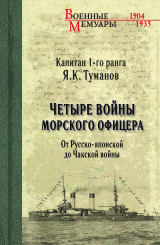
Текст книги "Четыре войны морского офицера. От Русско-японской до Чакской войны"
Автор книги: Борис Соломонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Нужды нет, что на броненосце не было установлено много вспомогательных машин, что далеко не была готова подача снарядов из бомбовых погребов, не установлен радиотелеграф, не везде еще даже была настлана палуба; обо всем этом мы также были прекрасно осведомлены. Но все это не так бросалось в глаза. Зато броня, – ах, эта проклятая броня!
– Когда же ее, наконец, начнут ставить? Сегодня «Бородино» уже вторично ходил на испытания!
– А сколько времени понадобится на установку брони?
– А нельзя ли, если наша броня еще не готова, взять плиты «Славы»?
Такими вопросами ежедневно надоедали мичмана присутствовавшему постоянно на корабле строителю броненосца – корабельному инженеру. Тот только отмахивался рукой, как от надоедливых мух.
Наконец, в один прекрасный день, о, радость: к борту броненосца буксир подвел огромный 100-тонный кран и на его палубе мы увидели столь долгожданные нами броневые плиты.
В нашей кают-компании появился новый постоянный гость: отставной ластовый подполковник, такелажмейстер С.-Петербургского порта Поздеев.
Ластовые офицеры уже отошли в область прошлого, и поэтому следует сказать о них несколько слов. Корпус ластовых офицеров состоял из произведенных в офицеры унтер-офицеров и боцманов флота и предназначался исключительно для службы в порту и экипажах. Это были достойнейшие люди, прошедшие суровую школу жизни, тончайшие знатоки своего подчас довольно сложного дела, но вне узкой сферы своей специальности они уже не знали ничего. Большинство из них были бывшие баталеры, подшкиперы и боцмана и занимали должности заведующих портовыми складами, служили на плавучих средствах порта, заведовали такелажными и парусными мастерскими, плавучими кранами и т. п. Чины имели они сухопутные, причем доходили лишь до чина капитана, на котором застревали до предельного возраста, после чего производились в подполковники с увольнением в отставку с мундиром и пенсией, но обычно оставались на своих насиженных местах, продолжая службу уже «по вольному найму».
Таковым был и наш новый знакомый – подполковник в отставке Поздеев. Сколько было ему лет – я думаю, он и сам этого в точности не знал: может быть, 55, может быть, 65, а может быть, и больше. Сухой, кряжистый старик, с лицом цвета мореного дуба, со щетинистыми седыми усами, хриплым голосом и большим носом-дулей, цвет которого предательски указывал на пристрастие его хозяина к напиткам крепостью не ниже 40°. Спрошенный однажды за обедом Арамисом, какое вино он предпочитает, с полной откровенностью и чувством собственного достоинства Поздеев ответил, что из легких виноградных вин он предпочитает коньяк.
Большой знаток своего дела, он выполнял очень тонкую работу, манипулируя такими грубыми предметами, как 100-тонный неуклюжий кран и броневые плиты. Работа, без сомнения, тонкая: подвести плиту вплотную к борту таким образом, чтобы броневые болты пришлись бы как раз против просверленных для них в борту дыр, – манипуляция в трех плоскостях, причем малейшее отклонение в одной из них сводило на нет всю работу.
Первое чувство радости и ликования при появлении в кают-компании столь долгожданного такелажмейстера очень быстро сменилось у мичманов чувством жгучей к нему ненависти. Причиной такой резкой перемены настроения послужила очень скоро обнаружившаяся черта характера подполковника Поздеева: он был глубоко проникнут философской доктриной, что торопливость нужна исключительно при ловле блох, – во всех же иных случаях жизни всякая спешка приносит лишь вред. И он до того был верен этой философии в своей работе, которая казалась нам столь важной и срочной, что мы приходили в бешенство и очень скоро сделались его заклятыми врагами. В кают-компании ли, на палубе ли, повсюду мичмана не упускали ни одного случая, чтобы не отпустить по его адресу какую-нибудь колкость, иногда очень дерзкую и злую. Но старик оставался невозмутимым, действительно уподобляясь в таких случаях, по остроумному выражению леди Асквит о своем муже, – собору Св. Павла, на который садились комары.
Но в один прекрасный день лопнуло даже безграничное терпение старика, и в нашей кают-компании разразилась буря.
История началась с события, имеющего, казалось бы, очень мало отношения к подполковнику Поздееву: с очередного приезда в Кронштадт морского министра. В то время морской министр довольно часто приезжал в Кронштадт из Петербурга на своей яхте, навещая готовящиеся к походу корабли, для докладов о ходе приготовлений Государю Императору. О каждом приезде министра корабли заблаговременно извещались штабом Кронштадтского порта. Обычно министр приходил на своей яхте «Нева» в военную гавань и там уже садился в катер и отправлялся по кораблям, которые собирался навестить. Наш броненосец стоял как раз у входа в гавань, и яхта министра проходила поэтому очень близко от него.
Был жаркий июльский день. В кают-компании только что кончили обедать, и такелажмейстер Поздеев благодушно поклевывал носом, приготовляясь, по-видимому, вздремнуть часок-другой. Арамис тоже еще не уходил в свою каюту, чтобы принять горизонтальное положение, когда пришедший с вахты унтер-офицер доложил ему, что на сигнальной мачте порта поднят сигнал: «Ожидать прибытия морского министра».
Услышав доклад вахтенного, такелажмейстер нехотя поднялся со своего кресла и медленно направился к трапу, ведущему на верхнюю палубу. Через минуту-другую его фигура показалась на юте, у левого борта которого стояло ошвартовавшись его детище – 100-тонный кран. На несчастье старика, стоял в то время на вахте один из самых заклятых его врагов – маленький, живой и юркий мичман Зубов, сделавшейся свидетелем следующей сцены.
Поздеев, перегнувшись через поручни и приложив руки рупором по направлению крана, на котором не видно было ни души, крикнул:
– На кране! Кобызев!
Продолжительная пауза… Кран продолжает оставаться мертвым…
– На кране!.. (Крепкое русское слово). Кобызев!!..
Из одного из люков крана высунулась взлохмаченная голова:
– Чаво?
– Тут скоро будет проходить морской министр; так как пойдет его яхта, ты потравливай гини…
На заспанной физиономии лохматого Кобызева высоко поднятые брови изобразили глубочайшее изумление:
– А для чего?
– А чтобы видно было, что кран работает, дурья твоя голова!
– Есть! – Лохматая голова скрылась, а такелажмейстер Поздеев медленно направился в кают-компанию продолжать прерванное dolce far niente.
Следом за ним спустился сменившейся с вахты мичман Зубов. Выражение его лица не предвещало ничего доброго. Он сел за приготовленный ему прибор и, обратившись к присутствующим в кают-компании офицерам, рассказал о той сценке на юте броненосца, свидетелем которой он только что был. Рассказ его сопровождался такими нелестными комментариями по адресу такелажмейстера, что старика наконец прорвало: он вскочил с кресла, на котором сидел, и, подбежав к Зубову, стал тыкать пальцем в его стриженую круглую голову, и вне себя от негодования закричал:
– У меня сын такой, как ты, а ты пристаешь ко мне, к старику…
Зубов в первый момент даже опешил. Он сам, да и никто из нас, не ожидал такой горячности от нашего флегматичного такелажмейстера. На мгновение в кают-компании наступила гробовая тишина. Наконец, послышался ровный голос Зубова, отчеканивающий каждый слог:
– Я вас покорнейше попрошу, милостивый государь, не тыкать в голову своими грязными пальцами…
Бедный старик даже привскочил от негодования. Он воздел руки кверху, точно призывая самого Бога в свидетели этой новой, неслыханной дерзости, и крикнул:
– Неправда и ложь, господин Зубов: руки мои совершенно чистые!
Тут присутствующие не выдержали и дружно расхохотались. Старик же окончательно опешил.
Неизвестно, чем бы окончилась эта трагикомическая сцена, если бы не счел, наконец, нужным вмешаться в конфликт сам Арамис.
– Мичман Зубов, – сказал он строгим голосом, – прошу вас помнить, что в ваши обязанности отнюдь не входит критика действий подполковника Поздеева. Предоставьте это мне и командиру. Вам же я категорически запрещаю говорить с ним таким тоном и дерзить ему. Если вы еще раз позволите себе сказать ему дерзость, я принужден буду доложить командиру, и вы сами, конечно, понимаете, чем это для вас кончится.
– А какое он имеет право говорить мне «ты» и тыкать мне в голову пальцем? – пробовал возражать Зубов.
Пышные усы Арамиса дрогнули от сдерживаемой улыбки.
– В этом виноваты только вы сами и больше никто, своими постоянными колкостями доведя его до этого. И – довольно. Я сказал и прошу вас это иметь в виду. Инцидент исчерпан.
Приняв затем свой благодушный вид, Арамис сладко потянулся, вызвал звонком вахтенного, отдал ему приказание разбудить себя, когда покажется яхта морского министра, и величественно удалился из кают-компании, чтобы принять свое любимое горизонтальное положение.
Два врага долго еще что-то ворчали себе под нос, но гроза уже прошла и больше не возобновлялась.
После этого инцидента они старательно избегали друг друга. Зубов отводил свою душу уже не в его присутствии и в особенности не в присутствии Арамиса, явно взявшего Поздеева под свое покровительство.
Местом жестокой и свободной критики поступков такелажмейстера, да и вообще начальства, сделалась моя каюта, в которой в свободную минуту собирались мичмана пошуметь и позубоскалить без помехи. Каюта эта была двойная и потому довольно обширная; жило нас там двое – я и автор прозвища «Арамис» – мичман Шупинский, стройный и красивый офицер, старше меня на год по выпуску из Морского корпуса, владелец золотой медали «За спасение погибающих», полученной им за редкий подвиг: он вынес из пожара своего собственного отца.
Судьба вскоре сжалилась над несчастным такелажмейстером и убрала с его пути его заклятого врага: вскоре после описанной сцены в кают-компании мичман Зубов был переведен с нашего броненосца на другой корабль.
Его уход также хорошо сохранился в моей памяти.
* * *
В один прекрасный день, во время обеденного перерыва работ, когда все офицеры броненосца были в сборе, готовясь сесть за стол, в кают-компанию вошел командирский вестовой и доложил, что командир просит к себе господ мичманов. Такие приглашения никогда не предвещали ничего доброго: обычно нас призывали всех вместе или поодиночке к командиру лишь для того, чтобы разнести нас за какую-нибудь оплошность и прочитать нам длинную нотацию с напоминанием тех или иных неприятных статей Морского устава. Поэтому, услышав приглашение к командиру, у всех мичманов разом понизилось веселое предобеденное настроение и, направляясь гурьбой под ироническими взглядами г.г. лейтенантов в командирское помещение, мы вопросительно поглядывали друг на друга, как бы мысленно спрашивая: «Не ты ли, негодяй, натворил что-то, и теперь нас всех зовут на цугундер?»
На этот раз, впрочем, страхи наши оказались неосновательными. Выражение лица командира, когда мы вошли в его обширное помещение, было спокойно и не предвещало не только шторма, но даже и легкого шквала. Все поэтому сразу же значительно подбодрились.
Привстав при нашем входе, командир обратился к нам со следующими словами:
– Господа! Я получил сегодня из штаба командующего эскадрой предложение списать одного из вас с моего корабля в распоряжение штаба для назначения на другой корабль эскадры. Все вы мне одинаково дороги (все молча поклонились, причем мне пришлось поклониться особенно низко, чтобы скрыть выражение муки на лице, так как в этот момент меня кто то сильно ущипнул, по-видимому, от избытка гордого чувства, что он оценен по заслугам) и ни с кем из вас я расставаться не хочу. Поэтому, если среди вас нет никого, кто пожелал бы добровольно списаться с моего корабля, я предлагаю решить вопрос жребием. Сделайте это сегодня же и сообщите мне фамилию офицера, на которого падет жребий. Вот, господа, все, что я имел вам сообщить. Можете быть свободны.
Мы снова молча поклонились и вышли.
После обеда в моей каюте собрался мичманский митинг.
Более всего почтенное собрание интересовал вопрос – на какой корабль понадобился офицер? Хорошо, если это один из новейших броненосцев. Еще лучше, если это – крейсер. О миноносце мы не смели даже и мечтать, это было бы верхом счастья! Ну а что, если это какая-нибудь старая калоша вроде броненосца «Наварин» или, Боже упаси, – транспорт?
– Вернее всего, что это какая-нибудь дрянь, – заметил всегда скептически настроенный мичман Щербачев, самый выдержанный из всех нас, всегда спокойный, слишком рассудительный для своих 19–20 лет, получившей дома строгое английское воспитание, – иначе, почему было бы не указать, на какой именно корабль должен быть назначен офицер?
– Вы знаете, господа, я уверен, что это – «Камчатка», – сказал я. – Она нашего же 14-го экипажа, это – во-первых, в такой же степени готовности или, вернее, неготовности, как и мы, – во-вторых, на ней еще некомплект офицеров – в-третьих!..
– Да, пожалуй, ты прав, – заметил Зубов.
– Да чего там толковать, все равно ни до чего не додумаемся! Давайте тянуть жребий! – крикнул кто-то.
Быстро заготовили нужное число билетиков с поставленным на одном из них крестом и все одновременно потянулись рукою в фуражку, куда они были положены. Я с волнением развернул свой билетик. Билет был с крестом.
Перед моим мысленным взором предстала уродливая «Камчатка», транспорт-мастерская и ее желчный, раздражительный командир, капитан 2-го ранга С., которого я хорошо знал по 14-му экипажу, где провел первые три месяца своей службы.
– Господа, жребий выпал мне, – заявил я упавшим голосом и повернулся к дверям, чтобы идти с докладом к командиру, как вдруг меня остановил Зубов.
– Хочешь, я пойду вместо тебя? – просто спросил он меня.
Я с удивлением посмотрел на него, не веря ушам своим.
– Ей-Богу, мне решительно все равно, – прибавил он спокойно.
Я, не колеблясь, согласился.
Прошло несколько дней. Как-то вечером, при чтении приказов командующего эскадрой, мне бросилась в глаза фамилия Зубова. Я впился взором в небольшой клочок серой бумаги, и она задрожала в моей руке. Там стояло:
«Переводится: мичман Зубов с эскадренного броненосца “Орел” на эскадренный миноносец “Блестящий”…»
В ту ночь я долго не мог заснуть, придумывая самому себе самые нелестные эпитеты:
– Трус и идиот, идиот и трус, – повторял я мысленно, хватая себя за голову, – сам упустил свое счастье…
Глава II. 30 июля 1904 г. Выход из Кронштадта. Суеверие моряков. Ревель. Незваный гость. Царский смотр. «Вторник». Либава. Ночь в дозоре. Прощай, Россия!
Дни шли за днями в непрерывной работе, и готовность корабля быстро подвигалась вперед. В середине лета мы уже перестали волноваться, что нас могут оставить и эскадра уйдет без нас. Да и прочие наши «sister-ship’s»[59]59
Однотипные корабли. – Авт.
[Закрыть] далеко еще не окончательно были готовы для дальнего похода и боя.
За этот период помню один день, который врезался мне в память.
Чудный июльский день; на безоблачном небе ярко сверкает солнце. На внешнем Кронштадтском рейде много военных судов: кроме нашей эскадры, – пришедший с моря отряд адмирала Бирилева.
Внезапно адмиральский корабль весь расцвечивается сигнальными флагами; сигнал следует за сигналом, спускается один, подымается другой. Наши сигнальщики вызвали себе в помощь подвахтенных и непрерывно записывают на грифельную доску разобранные сигналы, то приспуская, то поднимая до места флаг «иже» («ясно вижу»). Наконец, весь сигнал разобран, вахтенный с доской бежит с докладом к старшему офицеру и командиру. Адмиральский корабль сообщал:
– Флот извещается – сего числа родился Наследник Цесаревич Алексей Николаевич… – Затем следовал целый ряд распоряжений: отслужить на кораблях благодарственные молебны, по второй пушке флагманского корабля произвести салют в 101 выстрел, выдать команде лишнюю чарку водки, отпустить очередную вахту на берег и т. д. и т. д.
Все корабли, не только военные, но и стоящие в купеческой гавани дымной кучей «купцы» и даже парусные лайбы расцветились флагами. Вскоре стекла кронштадтских домов задребезжали от грома салюта: корабли производили редкий салют в 101 пушечный выстрел. Пороховой дым долго стлался густыми клубами в тихом воздухе июльского дня. Россия ликовала…
Сколь мудр Всевышней, скрывший от человека непроницаемой завесой его будущее!
Чему радовались русские люди 30 июля 1904 года? Радовались появлению на свет маленького мученика, вся короткая жизнь которого должна была быть сплошным страданием не только для него самого, но и для безгранично любивших его родителей. Но тогда никто еще не подозревал, что родившееся маленькое существо, наследник трона величайшего государства, обнимающего одну шестую часть света, был обладателем уже другого наследства, страшной наследственной болезни Гессенского дома[60]60
Род Гессенского владетельного дома, из которого происходила русская Императрица Александра Феодоровна, страдал чрезвычайно редкой, неизлечимой и страшной наследственной болезнью – гемофилией, сущность которой заключается в том, что кровь не имеет обычного свойства свертываться и страдающий этой болезнью человек рискует умереть от малейшего кровоизлияния, а самый незначительный ушиб причиняет невыносимые страдания. Особенность этой болезни еще та, что она передается по наследству только мужскому поколению, но не женскому. Так, все дочери Императора Николая II были цветущего здоровья девушками, тогда как единственный сын, наследник престола, родился больным. – Авт.
[Закрыть].
Но что еще трагичнее, – радовались русские люди рождению существа, которое 14 лет спустя невинным ни в чем мальчиком будет замучено в подвале дома захолустного городишки интернациональной сволочью, подлыми изуверами, изменниками и разрушителями того самого государства, управлять которым этот мальчик должен был по смерти своего отца.
* * *
В августе месяце наш «Орел» уже окончательно принял облик военного корабля. Уже не резали глаз глубокие красные впадины вдоль всего его борта: в это место уже были вставлены плиты могучей брони; палуба была уже настлана, устанавливался радиотелеграф новейшей в то время системы Сляби-Арко. С внешней стороны корабль был почти готов. Работы шли теперь, главным образом, внутри судна по установке многочисленных вспомогательных механизмов, подачи снарядов и т. п. В этом месяце броненосец начал уже выходить на испытания.
Другие корабли также заканчивали свою постройку и один за другим покидали Кронштадт и переходили в Ревель, где должна была сосредоточиться вся эскадра перед уходом на войну. Да и пора уже было уходить.
Вести из Порт-Артура приходили все тревожнее и тревожнее. Гарнизон истекал кровью; уже ощущался недостаток боевых припасов и даже продовольствия. Японцы, не жалея жертв, укладывая целые гекатомбы трупов в ожесточенных атаках, хотя медленно, но неуклонно продвигались вперед, постепенно сужая железное кольцо осады. После ляоянской неудачи и отступления сухопутной армии Куропаткина надежды на скорое освобождение крепости не было никакой. Попытка нашей Порт-Артурской эскадры прорваться во Владивосток потерпела неудачу, и флот, потерявши в Шантунгском бою своего командующего – адмирала Витгефта, вернулся в Порт-Артур. Злой рок тяготел над несчастной Россией. Капризный бог войны явно покровительствовал Японии, и солнце победы светило только ей одной. И этот Шантунгский бой, последний эскадренный бой нашей 1-й Тихоокеанской эскадры, ее лебединая песнь, явно показал, что Марс решительно повернулся к нам спиной. Победа была уже наша; адмирал Того уже готовился к отступлению; еще несколько минут, и путь во Владивосток был бы открыт, и через два дня его рейды увидели бы избитые снарядами стальные корпуса славных кораблей Первой эскадры… Но в этот решительный момент шальной снаряд, быть может, одного из последних залпов, который решил послать Того, попадает в боевую рубку русского адмиральского корабля «Цесаревич», убивает русского адмирала, другой – заклинивает руль, и головной корабль уже победившего флота начинает описывать бессмысленную циркуляцию, внося расстройство и беспорядок в строй русских кораблей, радость, ободрение и новую волю к победе в сердце врага. «Его Величество случай» вновь пришел в критический момент на помощь нашим врагам.
* * *
В сентябре месяце вся наша эскадра сосредоточилась в Ревеле. В Кронштадте оставался только наш броненосец, спешно заканчивающей приемку и погрузку боевых материалов и запасов провизии. Внутри корабля оставалось еще доделать много мелочей, когда мы получили приказание идти в Ревель на присоединение к эскадре.
Помню пасмурный сентябрьский день; ранняя северная осень давно уже вступила в свои права. Весь день дул сильный ост, выгонявший воду из залива. Под вечер мы снялись с якоря и пошли с внешнего рейда, где стоял наш корабль, в море. На броненосце оставалось еще много рабочих, которых мы везли с собой, так как далеко не все еще было у нас готово.
При выходе с рейда, между входными бочками, корабль наш плотно уселся на мель. Произведенный обмер показал, что сильный восточный ветер, дувший весь день, настолько выгнал воду из залива, что между входными бочками, повсюду, глубина оказалась меньше 28 футов – осадки нашего броненосца. Командир потребовал землечерпательный караван, который два дня углублял для нас канал, позволивший нам, наконец, с большим трудом, ползя днищем в песке и иле, выйти на чистую воду.
Происшествие это на многих произвело очень неприятное впечатление. Суеверные, как всякие моряки, наши старые матросы говорили: «Кронштадт не пускает нас на войну». Даже на офицеров этот инцидент произвел нехорошее впечатление, и эти два дня, пока землечерпалки рыли для нас канал, наши офицеры ходили с хмурыми лицами и ворчали на все и на вся.
Мой вахтенный начальник, под вахтой которого мне приходилось обычно стоять, – наш второй минный офицер – лейтенант Модзалевский, обычно жизнерадостный и веселый, неисчерпаемый кладезь шуток и анекдотов, – и тот хмурился и был не в духе.
– Ведь это же – чистейшее суеверие, – пробовал я подтрунивать над ним.
– Ну, конечно, суеверие, – согласился он. – Но не думайте, что мы одни, русские моряки, в этом грешны. Хотите – верьте, хотите – нет, а я сам слышал от одного английского морского офицера, как он возмущался русскими предрассудками: «Странный вы народ, русские моряки, – говорил он, – почему-то не любите сниматься с якоря в понедельник, точно есть какая-нибудь разница между понедельником, вторником или средой. Я еще понимаю, если бы вопрос шел о пятнице (у английских моряков тяжелый день – пятница)! Но понедельник – это же абсурд!»
На второй день ост стал стихать, да и канал был уже углублен достаточно, и Кронштадт вскоре исчез у нас за кормой в дыму и в тумане. Многим из нас уже более не суждено было его увидеть.
К вечеру того же дня мы вторично отдали дань морскому суеверию. Проходя мимо высокого, скалистого и угрюмого острова Гогланд, бросали в море деньги – дань Нептуну – древний обычай русских моряков.
На утро следующего дня уже увидели высокий шпиц кирки Св. Олая, и вскоре открылся нашим взорам красавец Ревель. На рейде застали почти всю нашу эскадру и, став на якорь, узнали, что в ближайшие дни ожидается приезд Государя Императора, который приедет проститься с нами и благословить нас в дальний путь.
Надо было спешно приводить себя в порядок. Корабль красился, чистился, мылся и прихорашивался, точно невеста перед венцом. Арамис проявлял совершенно несвойственную ему энергию, носясь по броненосцу, заглядывая во все уголки, налетая и распекая то какого-нибудь нерадивого мичмана, то оплошавшего унтер-офицера, или, чаще всего, козла отпущения каждого старшего офицера – боцмана.
И действительно, насколько было возможно, принимая во внимание присутствие на борту рабочих, так как работы не прерывались ни на минуту, и столь короткий срок, имевшейся в нашем распоряжении, – корабль был приведен в сносный для военного судна вид. Борта ослепительно сверкали свежей черной краской[61]61
В то время русские военные корабли красились в черный цвет. «Защитный», серый цвет был введен лишь после Русско-японской войны. – Авт.
[Закрыть], палуба блестела чистотой и порядком, мостики, шлюпки, орудия, все было надраено, покрашено и приведено в нестыдный для военного корабля вид. Наконец, получено было известие о прибытии в Ревель Государя Императора и был объявлен день смотра.
Раньше, чем описывать этот памятный день, я должен вернуться несколько назад и рассказать об одном незначительном событии, результатом которого явился большой конфуз всего личного состава моего броненосца на царском смотре.
На второй или на третий день по нашем прибытии в Ревель, вечером, когда мы ужинали, в кают-компанию вдруг вбежал огромный рыжий, никому неведомый дотоле пес – помесь пойнтера с дворняжкой. Как и подобает благовоспитанной судовой собаке, он подбежал сначала к старшему офицеру, ткнув ему в руку своим мокрым и холодным носом, и затем пошел вдоль стола, получая подачки от благодушно настроенных офицеров, ибо, как известно, г.г. офицеры во время обеда и ужина обычно пребывают в самом благодушном настроении.
– Это что за собака, откуда она? – удивился Арамис.
Все ответили полным незнанием. Арамис вызвал вахтенного.
– Что это за пес? – строго спросил он у вошедшего и вытянувшегося у дверей унтер-офицера.
– Так что, вашскородие, – испуганно забормотал вахтенный – прибыл с берега, с очередным катером. Старшина говорит, что никак невозможно было прогнать его. Должно быть, с какого другого корабля, опоздал на свою шлюпку. Наша последняя отвалила, вашскородие!..
– Хорошо, ступай.
– Очевидно, он с «Суворова» или с «Александра III», – сказал кто-то из присутствующих. – У нас и катера совершенно однотипные, да и дорогу нашел он сразу в кают-компанию.
– Надо будет завтра же навести справки и отослать пса домой, – заявил Арамис.
В суматохе приготовлений к смотру справку навести забывали, и пес продолжал жить у нас. Это был симпатичнейший пес, обычного корабельного типа, прекрасно воспитанный и знающий все судовые порядки. Так, например, он отлично знал, что если к корабельному трапу подходит гребная шлюпка или паровой катер, то дело, без сомнения, пахнет берегом. В таком случае он немедленно спускался по трапу и усаживался в шлюпке, причем выгнать его обратно не было уже никакой возможности; маленькую собачку еще можно было бы вынести на руках, но такого огромного пса нести на руках по узкому трапу – задача была не легкая и его обычно оставляли в покое. Он отправлялся со шлюпкой, на берегу приставал к одному из матросов или офицеров, шел за ним по пятам и с ним же возвращался обратно. Жил он где-то на баке и редко попадался на глаза начальству. Когда же его случайно замечал Арамис, то обычно произносил:








