
Текст книги "Открыватель визиологики"
Автор книги: Борис Письменный
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Письменный Борис
Открыватель визиологики
Борис Письменный
Открыватель визиологики
Виною тому нью-йоркская жара, привыкнуть к которой трудно. Задраяны окна; воздух кондиционированный, не живой; голова гудит точно летишь в самолете. Так пролетал он короткую июльскую ночь, терзал простыни, взбивал подушки; не спал – переворачивался из одного сновидения в другое. В последнем сне дрался. На ринге. Размытые сменялись картины – в детской секции бокса он работает с росльм соперником; и Сюзи там же, на трибунах гулкой цирковой арены Крыльев Советов кричит ему вместе со всеми: – Жми Нос! Врежь Колбасе. Режь его на пятаки!
Боксером стал случайно. В те годы дрались без разбору: от скуки – на кулачки, по-злому – камнями. Двор на двор. Когда надоели и драки и расшибалка и казаки-разбойники, задумали записаться в Крылышки.
Леха сказал: – Мировское дело гимнастом; поскользнешься, хоп! – сальто; опять на своих двоих. В секции вышло иначе: боксерский тренер определил: – С твоим, паря, носом, ты – наш человек. Кличка Нос прилепилась к нему среди прочих: Скула, Кулак, Бельмондо... Особых спортивных заслуг не добился; зато любили снимать для клубных монтажей. Фотограф командовал: – Матвей, нарисуй-ка мне стойку.
Обычно сны забывались. Москва не являлась с первых лет иммиграции, когда многих посещал Судный День депортации и грозный глас вопрошал:
– А ты что тут делаешь у нас, в Америке?
Теперь же, из-за дьявольской духоты он видел сон и себя, смотревшего сон; и нарочно не хотел просыпаться, чтобы досмотреть один момент, жаркий и влажный, в котором они с Сюзи душили друг друга в несуразных объятиях. Каждый, с головой был завернут в свою простыню; барахтаясь, они вслепую соединялись каким-то единственно правильным складным образом – профиль в профиль, как в 'джиг-пазл' – в игре вырезных фигур. Наяву никаких объятий еще не случалось, ни таких, ни всяких.
В мечтах, щурясь, он вышел из спальни. Ослепительное солнце било в настенный гобелен, вышитый квартирной хозяйкой миссис Десото: крест-накрест копья, мечи, подобие курчавой римской головы и золотом по ленте – Vini, Vidi, Viсi. На столе – со вчерашнего вечера прели рыхлые ломти арбуза; в розетках – мраморно растаявшее мороженое. Источал запахи сладкой ванили почти нетронутый торт. Вот, значит, откуда эти Крылья Советов – туда долетали через Ленинградское шоссе шоколадные ароматы фабрики Большевичка. Под просвеченной насквозь бутылью джина лежал конторский блокнот с пузырем зеленой бутылочной тени на нем и твердьм почерком бывшего тестя: – Дочь дается на выходной до пяти без копеек.
На службу Матвей летел: пятница – лучший день недели. Суббота тает до обидного незаметно; а воскресение омрачено грядущим понедельником. Именно сегодня, чуяло его сердце, произойдет нечто важное: он откроет Америку или совершит подвиг или, на худой конец, что-то сдвинется в их отношениях с Сюзи. Не даром привиделся сон в руку. Как раз на сегодня он собирался пригласить Сюзи к московским знакомым. Засомневался: наши чуть выпьют внаглую перейдут на русский; Сю заскучает. Имелся у него и другой, лучший план.
С утра в сабвее душно. Выползали из-под хламид подземные его обитатели; почесывались, зевали, гремели кружками навстречу прохожим. Уворачиваясь от них, Матвей замечал отбитые кафели, унылые светильники; думал – не зря пугают нью-йоркским сабвеем – место по виду отхожее, вроде писсуара в тюремной больничке. Ограбят, прирежут за милую душу. Верно, ужасы принято преувеличивать; он сам, например, не видел, чтобы при нем убивали. За семнадцать лет в Америке он даже обжился с клоакой, принимал как должное: глубоко вздохнуть, зажмуриться и – вперед. На поверхность вынырнешь в даунтауне, в приличном месте.
У выхода на платформу тенор-саксофон, сидя на корточках, свинговал из Джоржа Колмана, подлаживаясь под стук и шарканье ног прохожих – не хуже щеток перкуссиониста. Джаз – традиционно в подвалах, где котельные трубы и голый кирпич; сабвей и джаз – еще одни близнецы-братья.
На всхрипе знакомого свинга у Матвея аж екнуло сердце, тревожа и еще сильнее наполняя предчувствиями на сегодня. На ходу бросил он мелочь в музыкантову шляпу и кинулся к прибывающему составу. Повезло – вагонные двери распахнулись точно перед ним; ему досталось последнее свободное место. С одного бока – громоздился бегемот-нигериец в черных каплях пота, с красными глазами; с другого – два карманных размеров вьетнамца аккуратно помещались друг на друге, как складные перочинные ножички. Почти как мы с Сюзи, отметил Матвей, припоминая джиг-пазл фигуры его недавнего сна.
К моменту отправления набился полный вагон. Перед носом стоял, вздыхая, работяга с ожерельем ключей на джинсовом ремне и девушки-латинос, как бы голые ниже пояса, затянутые в рейтузы. Они обменивались быстрыми смешками и междометиями так, что Матвей, как ни пытался, не мог различить слов. Верно, иногда, чтобы развлечься, он пробовал учить испанский, разглядывая сплошь испаноязычные городские объявления вдоль вагонного потолка. Спрятанный под землю другой Нью-Йорк, с другим основньм языком, напоминал ему подвальные каморки ЖЭКов старой Москвы, где говорили по-татарски. Громыхал состав; жарким туманом качались разговоры и звуки; за окнами проскакивали, извиваясь, кабели, лампы -зеленые, красные... Лязгая, в стробоскопном мелькании окон пролетел и скрылся встречный. И в нем...– мечталось Матвею, был он – тот, пятилетний, коленками – на коленкоровые сиденья, расплющенньм носом – в завораживающую тьму московского метрополитена, в еще предстоящую жизнь.
Прилизанный торговый тип, перекрикивая грохот, досаждал убогому старикашке: – Вилли, ты выглядишь лучше меня. Ах ты – ходок, ох ты – жук, я-ття знаю! Напротив, косматый джанки, похожий на волосатого человека-Евстахия из учебника зоологии, жадно чавкая, питался чем-то рыбным, доставая пальцами из бумажного кулька. Противно, что острые запахи заставляли Матвея невольно сглатывать слюну, будто его насильно кормили рыбой. Московские элегии испарялись.
Где-то, еще в туннеле, поезд дернулся, резко затормозив. Нигериец, виновато закатив белки, налег на Матвея; он – дальше; так покатился, побратался весь ряд. Остановки случались и раньше. Минута, другая, поезд двигается опять. На этот раз все успели занять места, извиниться за пинки и толчки, поругать машиниста, но поезд стоял. Постукивал движок. Скоро и тот перестал. В тишине разговоры стихли. Перестали шелестеть газетами. Комариное дребезжание свербело из чьих-то наушников. Неприятная воцарилась тишина. В такой – неловко двинуться, ни слово сказать; остается – ждать, замереть. Прикрывали глаза, мол – окей, потерплю, и сразу же открывали с вопросом: Сколько можно стоять в этом склепе! Сквозь стену стоящих просунулась голова в завитушках. Плохо крашенная блондинка уставилась на Матвея. Как юный пионер, он встал, уступил свое место. – Молто грасиас, – прошептала женщина, обмахиваясь пустым пакетом модных магазинов Лорд-энд-Тейлор; молясь и причитая, должно быть, тому соответственное – О, Лорд и Тейлор, упаси нас, грешных...
Разом погас свет. Встал кондиционер. Наступила мертвая тишина. От приторной парфюмерии начинало мутить. С противоположной лавки несло рыбой. Пусть бы кондиционер только гудел, не работая, было бы за что ухватиться слухом, чтобы не думать о подступающем удушье. Матвей, с его скорым воображением, видел себя безжизненного, на грязном полу, склоненные над ним чужие лица, коловращение глаз... После чего они опять появились – его амебные фигуры сна, иероглифы странного языка. Распластанный на полу Матвей составлял одну фигуру из многих. Его пытались приспособить, приладить джиг-пазл не составлялся: его фигура не вписывалась в окружающие, чужие.
...Вечность спустя, крякнуло радио; раз, другой. И опять – тишина. Наконец, динамик зашуршал; появился слабый аварийный свет. Голос с негритянскими интонациями лениво произнес: – Дамы и господа, состав тронется, когда предоставится возможность...
В жарком подводном мраке качались тени, хватали ртами спертый воздух.
– В одном из вагонов... по независящим... – продолжил голос. – В общем скончался... Значит так, тут у нас один пассажир помер. Спасибо всем за внимание и имейте хороший день.
Кто-то в отчаянии бился, сопел; кто-то приоткрывал верховину вагонного окна. Стало хуже – потянуло жаром и гарью. Блондинка стонала; Матвея прошиб пот, путались мысли; дышать было нечем. Поезд стоял. Взахлеб заплакал ребенок; срывался в истерику. Так же чувствовал себя каждый в вагоне. Казалось, сейчас сорвется общая паника и тогда... Истекали одни сроки; подкатывали другие – угроза неизвестного возрастала... На крайнем пределе, если ни что иное, молитвы блондинки были услышаны – разом взревели моторы, вспыхнул свет. Тряхнуло. Тронулись. Пассажиры зааплодировали, как в самолете, произведшем посадку. Вокруг можно было видеть по-детски счастливые лица – нечастое зрелище в Нью-Йорке, особенно в сабвее.
В этот момент широко распахнулась тамбурная дверь, и некто долговязый вошел, декламируя: – Братья и сестры, перед вами – круглый сирота. Предан мамой, папой и Бельм домом... Матвей не раз уж встречал этого черного; у него были складные тирады с фальцетом; они могли бы сработать и в подмосковных электричках. – Помогая мне, вы спасаете себя. Очнитесь заблудшие души. Декламатор был в габардиновом плаще, явно с чужого плеча, одетом, похоже, на другой плащ. Из карманов торчал Нью-Йорк Таймс и детская бейзбольная бита. Вслед за чтецом, когда он уже гудел в соседнем вагоне, потянулись китайцы-коробейники с жизненноважными товарами: гуделками уйди-уйди, самозвенящей телефонной трубкой, для тех, кому никто не звонит, со жвачками и с мини-блокнотами... – Ван-далла, ван-далла... – механическими голосками объявляли китайцы единую, в доллар, цену.
За окном, по платформе, тащили труп умершего в черном пластиковом мешке. О недавнем казусе, впрочем, уже позабыли. Замельтешил обычный театр теней; закружилась карусель забот и будничных соображений. Матвей решал, не купить ли чего у китайцев для дочки или, лучше, посмотреть в киоске, на пересадке. Чего только не было в том киоске: заразительный смех и бурчанье в животе из коробки, симпатические чернила для террористов, муха в кубике льда, обманные деньги, пулевая дыра или ножевой шрам, приклеиваемые прямо на лицо... Подошла – узловая. Пересадка на Флатбуш. Матвей семенил с толпой по туннелю, чтобы успеть на манхеттенский поезд.
Чем ближе к деловой части города, тем заметнее меняется картина. Что бы ни говорили о сабвее, обобщать не стоит: глядите – уже нет той тревоги окраинных перегонов; вместо обстановки перманентной гражданской войны перемирие. Люди вылезают из коконов; сворачиваются в сумки маскировочные куртки; женщины взбивают прически; мужчины – в консервативных костюмах, нога на ногу, листают прессу. Какое там прессу! Вон, молодые люди, вчера из колледжа, увлеченно читают страницу за страницей – машинный код, сплошную абракадабру! Шутки в сторону, мы подъезжам к вычислительной столице мира. Даже молоденькая девушка, почти подросток, у выходной двери, улыбается на газетный лист и не думайте, что над страницей сердечного гороскопа. Выбираясь из вагона на Чамберс Стрит, Матвей нарочно подглядел – Джиоконда улыбалась сводке товарных индексов европейского содружества наций в газете Уолл-Стрит Джорнел.
А наверху разгоралось нью-йоркское утро. Чуть дымный солнечный свет слепил глаза. На углах жарились претцели и сосиски. Перезванивались колокола капеллы святого Павла, игрушечной церквушки, притулившейся среди окружающих небоскребов. Утренняя толпа шагала быстро, не обращая никакого внимания на башни Нового Вавилона, уходящие в небо.
– Там, подальше, Мусенька, у них городское управление, – услышал Матвей на бегу; невольно обернулся. Пожилая русская пара с открытыми ртами, на полуслове уставилась на него. Новоприбывшие. Кто же еще смотрит в Нью-Йорке в глаза посторонним! Матвей притворился, что не заметил и нырнул в свой подъезд.
Когда он выходит из лифта на четырнадцатом этаже Компании, он другой человек – Метью Печкин, лидер проекта, профессионал компьютерного дизайна. Ему немало польстило, когда на недавнем совещании его представили: Знакомьтесь – это наш Метью – наш "топ ган". Вроде, как – "наше секретное оружие". Вот он чирканет магнитным пропуском, отмечая приход, захватывает картонку кофе, включает местный софит и, погружаясь в кресло, почти машинально, фортепианным перебором клавиш набирает свои коды; после чего начинают урчать вертушки аппаратного охлаждения; светлеет экран; бегают стандартные маски и ярлыки и, послушно ключам его команд, из мути экрана начинает выплывать, наконец, бесконечная паутина заумного чертежа.
На предстоящие месяцы группе Печкина было поручена малоприятная работа – переделать заново все ранее завершенные расчеты. Они занимались системами многоцелевого размещения в нефтеналивных океанских судах и, вот, когда все, в целом, было готово, фирме-заказчику взбрело в голову чуть-чуть сдвинуть размерные параметры, то здесь, то там. Так бывало в пору студенчества, когда приносишь с гордостью свой выстраданный чертеж, построенный из тысячи тщательных линий, и профессор – доброжелатель, не моргнув глазом, предлагает сдвинуть начерченное на сущий пустяк – на полсантиметра в сторону. В случае с компьютерным черчением, сдвинуть ничего не стоит; магнитная память позволяет делать с картинкой все, что угодно: можно, играючи, менять масштабы и пропорции, плавно поворачивать чертеж танкера так, что он обрастает плотью и всплывает перед глазами, как настоящий корабль. По желанию он толстеет или вытягивается, впускает зрителя в свою мнимую реальность, в свои еще не существующие отсеки и коммуникации. Беда заключалась в том, что предложенное клиентом множество малозначительных изменений выглядело, да и было на самом деле совершенно беспорядочньм, непредсказуемьм хаосом. Времени на переделку не оставалось, но и отказываться было нельзя, чтобы не потерять перспективного заказчика. Начальство в панике устраивало совещание за совещанием, что только отнимало драгоценные часы. В промежутках между говорильнями работать тоже не удавалось, потому, что совещания созывались авралом, в любой момент. Разрастался обвал – обычный производственный сумасшедший дом.
Когда в тупике, Матвей имеет манеру терзать свои макушки, особо щекотные точки в фестончиках разбегающихся волос. – Ты будешь самый счастливый, Мотька, – говорила мама. – Три макушки! Три жены будет. Ты у меня особенный. Похоже, он сам поверил в свою особенность. В невинном детстве ему приходили в голову престранные иногда идеи. Например, о всеобщем притворстве. О том, что даже дети только притворяются детьми, прикидываются, зная, что от них этого хотят. Родители прибегали к разбору малышей. За окном синел и крепчал мороз; а в предбаннике детского сада Мотя примерял валенки из починки, на деревянном ходу и подслушивал, как белокурая девочка сюсюкала с папашей – для дела прикидывалась; толстяк в матросске надувал губы, готовый зареветь, конечно же, тоже добиваясь какой-то Моте неведомой цели. Как все дети, открывшие счет годам (тебе сколько?), он принимал общее правило, что, чем старше – тем главнее и умнее. К себе он даже этого не относил: ему в любое время казалось, что он-то уже знает все – все, что нужно знать. Матвей помнил собственное удивление такой способностью; ее ни откроешь ни детям ни взрослым. Сейчас он расценил бы ее, верно, как врожденную, вполне обыкновенную наглость недоросля – чего не знаешь, того нет.
Мать тащила его через сугробы к трамвайной остановке, устало выговаривая, что Мотя опять нарушал – смешивал суп с компотом, отрывал бретельки чулочных поясов, метал галошные мешки... На что он отвечал: – Вот, только захочу и – буду себя вести.
– Захоти, наконец, захоти, Матвей, – повторяла мама, – горе мое луковое... У нее была привычка повторять его имя – сначала вслух, все тише и тише – потом про себя. Мотина мама – Майя Матвеевна (в девичестве Гельмольц) чаще всего любила повторять про себя, как молитву, имя единственного сына (и покойного его деда), всяческие просьбы и увещевания. Давно это было...
Здесь вклинивается обстоятельство, прерывающее, но только на миг, описание обыкновенной пятницы в жизни обыкновенного молодого человека, нового американца в Новом Йорке. Дело в том, что в тот день была годовщина смерти матери героя. (Матвей, признаться, забыл). В этот день матвеина мама, видимо, повторяла имя сына каким-то особенно неистовым, иступленным образом – таким, что породила пробойный заряд, асболютно непредсказуемый резонанс сфер. В годовщину своей смерти мать молилась, не за себя, конечно, – за оставленного на произвол судьбы сына. Случилось так, что просьбы были услышаны.
Святой Матфей – его тезоименинник и евангелист, св.Матфей – апостол и прорицатель, выбрал Матвея своим медиумом; избрал очередным своим послушником и прозелитом. Тем самым, обрушил на него, на ничего не подозревающего русского иммигранта так называемой Третьей Волны всевышние мозговые бури, до селе не поддающиеся инструментальному обнаружению. Оттого ворочался Матвей этой ночью.
Как известно, автор заглавной проповеди Нового Завета Святой Матфей (Метью – по-гречески, Леви-бар-Алфеус по-арамейски) спокон веков размышляет над своим метафорическим коньком – ГЛАЗ-ЗРЕНИЕ-СМЫСЛ-ВЕРА.
– Глаз, – учит он – Есть лампа тела (Матфей,6:22); Слепой (невежда) ведет слепого (15:10)... Причину причин он видит в зрении человека.
В те дни, как всегда, св. Метью бормотал свои визиологические предсказанья: – Погибнет-Воскреснет-Прозреет... Евангелист посылал новоизбраннику своему и медиуму на Земле неоконченные, еще невнятные измышления о фигурах смысла...
В глубокой задумчивости, расчесывая макушки, Матвей прогонял на компьютере один вариант расчета за другим. Безуспешно – срывы, абенд за абендом. Тогда он отвернулся от экрана и принялся набрасывать эскизы от руки – фантазии и художества, не расчеты. Рука двигалась замечательно живо, сама по себе. Получались почти узоры, игривые перестановки фигур. С непонятной легкостью он рисовал фигуры – амебные фигуры со шупальцами, преследующие его с самого утра; они плавали у него перед глазами, сбивались, распадались, кружились; иногда почти совмещались профилями, но все будто дрожали. И Матвей чувствовал, что это – пока еще ложное совмещение: коты в мешках хватают друг друга за лапу, а думают, что – за хвост. К обеденному перерыву, на который он не пошел, ребусы, удалившись в перспективе, сомкнулись, вдруг, застыли намертво. Будто очнувшись от навождения, Матвей особенно сильно нажал, сломал карандашный грифель; вырвал последний листок из блокнота и прилепил на краю монитора. В схеме была простая красота единственного правильного решения.
Он перевел картинку в формулы. При первом, ограниченном тесте компьютер за какие-нибудь полминуты рассчитал участок корабельной палубы; обиженно пискнул, выдал безошибочный возвратный код операции – "00". К двум часам дня, перекусив наперченным, хрустящим мусором из ближнего, в коридоре автомата, Печкин имел уже приблизительный расчет целого отсека. Все пока чудом сходилось и, главное, если так пойдет дальше – трех дней будет довольно, чтобы группа его завершила проект. Итак, дело сделано. Уже сегодня, в пятницу он мог подвести черту и забыть обо всем со спокойной душой. Заинтригованный случившимся, однако, он хотел разобраться, что, собственно, натолкнуло его на решение? Что это был за абстрактный танец абстрактных фигур? Что означает слово 'абстракция', какова его энтимология? За привычным термином, бывает, стоит целая притча.
Матвей заглянул к соседу и спросил словарь Вебстера или другой, потолще. У американцев – обычные затруднения с правописанием: они держат словари повсюду. Сейчас же он наткнулся на поучительный сюжет: Абстракция значило – Удаление. Мы, например, видим лист и его прожилки; удаляясь, будем видеть все дерево в целом; купы деревьев сольются в рощу; потом различима будет только гора, покрытая лесом, как медвежьей шкурой...
Я абстрагируюсь от деталей, если хочу видеть за деревьями лес. Любопытства ради Матвей стал искать определения слов, на которых зиждется сама логика – основа основ. Пусть, думал он, это не по моей части; я, может быть, профан и ломлюсь в открытую дверь, было, однако, ощущение Архимеда, садящегося в ванну. Словарь подтверждал догадки – объяснения терминов логики оказывались ни чем иным, как почти буквальным описанием процесса видения, то есть зрительной пантомы фигур. Того, что нужно сделать в зримом пространстве, чтобы изобразить (образ!) хотя бы метафору определения искомого слова.
– Анализировать значило – разделять одну фигуру от другой.
– Решать – отрезать окончательно.
– Условие – есть видимое окружение места действия.
– Сравнение – конечно, подравнивание краев, наложение одного профиля на другой.
Так же выходило с любым 'умным' словом, означающим понимание. Само слово 'понимать','андерстенд' значило – стоять под смыслом, т.е. в непосредственной близи.
Матвей недоумевал – как такая элементарная вещь могла быть ему незнакома? Говорится – великие истины слишком важны, чтобы быть новыми. Почему же он об этом понятия не имел? Если наше мышление пародирует зрение, в этом, не исключено, кроется объяснение прошлого и будущего, нашей судьбы – зрительно мыслящих существ? Почему об этом не учат в начальной школе? Или я пропустил урок, когда, например, лежал с температурой?
Вдобавок, он проверил в словаре – как строятся в параграфы, объясняющие идейные концепции. И, конечно, они опять же были– пересказанные картинки -превращения идеи в зримый образ. Как же иначе! Попробуйте объяснить, например – стихию экономики без зримых символов падений и взлетов. Для своей внутренней смутной догадки достаточно интуиции, но для передачи другому человеку логической идеи без четкого зрительного образа, видимо, не обойтись.
–Бог ты мой, – дивился Матвей, – они повсюду, эти слова!
Дело совсем не в прописной истине, что зрение – важнейшее из чувств, Поразило его то, что в терминах логики не содержалось абсолютно ничего другого кроме зрительного образа; т.е. смысл почти всегда сопряжен со зрительным сопровождением.
Понимать вещи трудно, а видеть легко. Смотрите, как на глазах меняется мир. Где-то яйцеголовые умники решают за нас невнятные, не ОЧЕ–ВИД–ные проблемы; нам же – потребителям подавайте ленивый десерт, знаменитую 'жвачку для глаз' – ТВ, видики, компьютерные игры, СД ...– картинки.
Матвей, подобно многим из наших, способный молодой человек, программист по судьбе, чувствовал приятное воодушевление. Он мало чего знал об одноименном евангелисте Человеке–Матфее и его поисках истоков знания и веры. Как и его ровесники, Мотя едва ли бы сказал, что лозунг – Не закапывать свой талант в землю, к примеру, идет вовсе не от комсоргов и педагогов, но есть дословное из евангелия от Матфея (25:14); что про – Свет знания для пребывающих во тьме – метафоры из того же (3:16); или, что -Хождение по мукам – это из Богодицы, а не заголовок совписателя А.Толстого. Матвей не ведал множество таких вещей, без понятия о которых мы жили всегда не тужили. Как все мы, научно-популярно образованный человек Матвей снизходительно относился к философствованию (обычно с эпитетом -'пустому'), к пророчествам и бабушкиным сказкам. Он, если помните, и так, еще сызмальства знал все!
Матвею захотелось услышать голос Сюзи; но они условились созваниваться только в экстренных случаях. До конца рабочего дня оставалось четыре бесконечных часа. Несколько раз он все же набрал сюзин номер, не поднимая трубки, довольствуясь этим бессмысленным действием как реформированный пьяница, поднимающий пустой бокал, или бывший курильщик, разминающий сигарету. Сю находилась в далеком, издательском корпусе Компании, который нельзя было разглядеть в жарком манхеттенском мареве.
За окном спланировал воробей и сел на конек соседнего фронтона, точно на центральную верхушку для полной симметричности лепного барельефа.
– Откуда у жалкого комочка перьев эстетический вкус, не оттуда ль–от верблюда, что и мой собственный? – пустился было Матвей в непонятно милые ему сегодня эмпиреи, как жалюзи со стуком упали; проектный руководитель, Марвин Фукс, протянул ему меморандум:
– В пять – всем на местах. Летучка – о горящем проекте!
Этот невозможный человек – Фукс. Сотрудники подозревали, что он постоянно за их спиной; что было недалеко от истины. Он, впрочем, сам того добивался. Быстрый человечек, Марвин, подобно многим мозглякам-американцам даже простые вещи произносил скороговоркой; не мог по–другому. Если он заговорит членораздельно и медленно, казалось, откроется что–то для него страшно разоблачительное или постыдное. Фукс призывал всех быстрее печатать на клавишах; и сам набирал коды спастическими аккордами, подчеркивая, тем самым, до чего он ценит драгоценное рабочее время. Его школьные дисциплинарные понукания: – Не смотреть в окно, или – Сколько стоит минута? – сбивали с толку. Не понятно – как их трактовать: выглядел Фукс слишком прогрессивным, чтобы заявлять такое серьезно; для шутки – это было не смешно.
– Я–виж–Мат-вам–солнц–в-глаз, – пробормотал он своей скороговоркой; задернул штору; скрылся из виду.
Один Матвей пока знал, что работа готова. Как было ему поступить? Проявить рвение и бежать хвалиться начальству? Или, как учат люди бывалые, дать бумаге отлежаться, пустить сок? Отдай он проект сегодня – какой же удар он нанесет руководству!
Во–первых, получится, что они глупее его, раз столько важничали и паниковали.
Во–вторых, не станут же они ему аплодировать; тем самым, ронять свое руководящее достоинство.
В–третьих, им придется немедленно отыскивать новую головоломку для отдела, на чем, собственно, держится их престиж перед еще более высоким начальством. И в–четвертых и в–пятых...
Матвею ничего не оставалось как, продолжая имитировать занятость, придумать способ потратить оплаченное время с пользой. Это сущий парадокс -свободное время в рабочем офисе. Сначала, будто бы за кофе, он отправился проведать бывших соотечественников. Елизарию Шпольнику из Закарпатья по секрету намекнул, что проект – в шляпе; высказал пожелание – пятница – Фукс мог бы отпустить программистов пораньше.
– К'мон, ты крези? – зашептал Елизарий, пользуясь лексиконом доступных ему языков. – Фукс не будет давать пермита. Генук и шекет.– Он приложил палец к своим пунцовым толстым губам.
Налив кофе, Матвей заглянул в другой русский кубик – к Лайзе Речниц; спросил что–нибудь почитать из ящиков ее стола, которые она, хитроумно выдвигая–задвигая, обращала в потайную читальню. Лайза дала ему пачку русских газет; сказала со вздохом: – Если б ты знал, как я любила читать дома, в Минске! Почему теперь не могу найти книги, чтобы умнее меня?
– А людей умнее встречала?
– Лю–ю–ди – другое дело.., – начала Лайза, растягивая свой локон.
Но Матвей спешил дальше; решал – не отправиться ли в публичную библиотеку на соседней улице? – там был русский отдел, но передумал – долго искать: русские книги вечно попадают на полки других, так же трудно читаемых для американцев языков – туда, где иврит, хинди или тао.
Итак, попивая кофе, поддерживая видимость активности на своем экране, даже барабаня вхолостую по клавишам для пущего озвучивания картины, он принялся за газеты. По привычке Матвей листал слева–направо: так ему представлялось удобнее. На иврите он не читал – откуда странная эта манера? Сказать – зов крови – слишком помпезно. Скорее, решил – средство
преодолеть угрозу многословного чтива. Всегда начинать с конца, особенно когда попадался толстый фолиант: вот, мол, все одолел, а теперь, не спеша, посмотрим сначала. При первом, с зада–наперед перелистывании Матвея заинтриговала выноска крупньми литерами: – Галина Вишневская заявляет – На Западе нужно платить за свои покупки!
Снова разыскал статью, перелистав вперед; увидел, что обманулся – было сказано за поступки. Жаль, первый вариант ему нравился больше.
Читать не стал.
Совещание, устроенное из чистой вредности в конце рабочего дня, к тому же в пятницу, задержало Матвея; все равно он был готов примчаться к условленному месту черезчур рано. Чтобы занять время, пошел прогуляться от генерала Шермана – золотого всадника Великой Армии вдоль шикарных отелей до бродвейского зигзага у площади Колумба. Он шел и видел, как спускаются первые сумерки. Как на улице наступает вечер, пока верхние этажи еще в полном разгаре дня сверкают на солнце. Рядом с ним фыркал конно–каретный бизнес в золотой, красно–черной кайме похоронных расцветок. Цокали подковы; туристы выглядывали из фиакров, стараясь перехватить взгляд, чтобы удостоверится в своем напрокатном счастье. За отелем Плаза, Матвей пересек улицу,обогнул мемориал Мейна и вышел на театральный полуостров Бродвея. На нем – фонтан Линкольн-центра – условленное место встречи. Встречайтесь в центре ГУМа, у фонтана – выпрыгнул у него в голове пружинный болванчик, когда он решал, где назначить встречу. Без пяти семь он был у фонтана. Обошел кругом, разглядывая живые скульптурные группы ожидающих; остановился в проходе, ближнем к Эвери Фишер Холлу. Он всматривался в лица мельтешащей толпы так пристально, что одной силой взгляда мог вызвать Сю из сгущающихся нью–йоркских сумерек; он уже видел ее; только она сама еще не появилась.
(Матвей сегодня был гениален. Не ведая о небесном евангелисте, сегодня, как никогда, Матвей мог с легкостью разглядеть – что угодно; не мог только видеть судьбу – свою близкую смерть или близкое прозрение. Будущего знать не дано.)
...Познакомились они недавно. Матвей как–то заметил ее на пересадке в сабвее. День выдался мокрый и продувной. Сюзи была в прозрачном дождевике, и у него заныла душа. Он следовал за ней, как сомнамбула, пока не очутились в вестибюле его же Компании, у дверей его всегдашнего лифта. С тех пор перезванивались, не встречались. Матвей, собственно говоря, мог бы ее не узнать при встрече. Ничто так не распаляет мужское воображение, как неясность объекта. Сюзи оставалась для него загадкой, смутно просвечивающей, дразнящей; впору было засомневаться – не мираж ли она, плод распаленного воображения?
Матвей приготовился ждать долго и безнадежно, но тут его потянули сзади за палец, и Сюзи сказала: – Выбираю вас, незнакомец.
Выгоревшие волосы, веснушки, отвага в глазах – она была, как Том Сойер в плессированной клетчатой юбке.





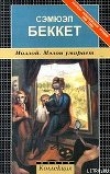
![Книга Открытый путь [сборник] автора Наталья Резанова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-otkrytyy-put-sbornik-40017.jpg)

