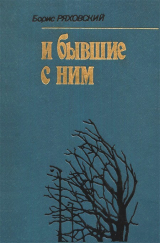
Текст книги "И бывшие с ним"
Автор книги: Борис Ряховский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Я перенес ее через порог и опустил на пол.
– Таков обычай. На счастье…
Она пошла первой осматривать комнаты. Кухня была сзади, автоматическая, и один робот, вернее, не робот, а просто этакий электрический глупыш для наведения порядка. Из тех, что могут и на стол подавать, и выполнять приказы, но говорят только несколько слов.
– Эри, – сказал я, – хочешь пойти на пляж?
Она покачала головой. Мы стояли посреди самой большой, белой с золотым, комнаты.
– А что ты хочешь? Может…
Опять тот же жест еще прежде, чем я кончил.
Я чувствовал, чем это пахнет. Но путей к отступлению уже не было.
– Я принесу вещи, – сказал я и ждал, ответит ли она, но она села в креслице, зеленое, как трава, и я понял, что она не скажет ни слова.
Этот первый день был ужасен. Эри не устраивала никаких демонстраций, не старалась умышленно меня избегать, а после обеда пробовала даже немного заниматься, – тогда я попросил разрешения побыть в ее комнате и смотреть на нее. Я обещал, что не отвлеку ее ни словом и не стану мешать, но уже через каких-нибудь пятнадцать минут (как я был догадлив!) я почувствовал, что мое присутствие тяготит ее, как невидимый груз, это выдавала линия ее плеч, ее мелкие, осторожные движения, скрытое напряжение; обливаясь потом, я убежал от нее и принялся шагать по своей комнате. Я еще не знал ее, но уже видел, что она далеко не глупа. При сложившейся ситуации это было одновременно и хорошо и плохо. Хорошо потому, что если она не понимала, то по крайней мере догадывалась, кто я, и не видела во мне варварского чудовища или дикаря. Плохо, потому что в этом случае совет, данный мне в последний момент Олафом, не имел смысла. Он процитировал мне известный афоризм из книги Хон: «Если женщина должна стать как пламень, мужчина должен быть как лед». Итак, он считал, что только ночью я могу рассчитывать на успех. Я не хотел этого и поэтому так отчаянно мучился и все же понимал, что в то короткое время, которое имеется в моем распоряжении, я не могу покорить ее при помощи слов и, что бы я ни сказал, все останется снаружи, потому что это ни в чем не опровергает ее правоты, ее справедливого гнева, который проявился только один раз в коротком взрыве, когда она начала кричать: «Не хочу, не хочу!» И то, что она тогда так быстро взяла себя в руки, тоже казалось мне плохим признаком.
Вечером ее охватил страх. Я старался быть тише воды, ниже травы, как Вув, тот маленький пилот – самый абсолютный молчальник, какого я только знал, – который ухитрялся, ничего не говоря, сказать и сделать все, что хотел.
После ужина – она не ела ничего, и это повергло меня в какой-то ужас – я почувствовал, что во мне начинает нарастать гнев, так что минутами я почти ненавидел ее за собственные мучения, и безбрежная несправедливость этого чувства еще больше углубляла его.
Наша первая, настоящая ночь. Когда она заснула у меня на руках, разгоряченная, а ее порывистое дыхание начало переходить отдельными, все более слабыми вздохами в забытье, я был совершенно уверен, что сломил ее. Все время она боролась не со мной, а с собственным телом, которое я узнавал от тонких ногтей, от маленьких пальцев, ладоней, ступней, каждую частичку и сгиб которых я как бы раскрывал и пробуждал к жизни поцелуями, дыханием, вкрадываясь в нее против ее воли, исподволь, с бесконечным терпением, так что переходы были почтя незаметны, а когда я чувствовал нарастающее сопротивление, я отступал, начинал шептать ей сумасшедшие, бессмысленные, детские слова, потом снова умолкал, и только гладил, и ласкал ее, и чувствовал, как она раскрывается и как ее скованность переходит в экстаз последнего сопротивления, а потом она задрожала иначе, уже побежденная, но я все выжидал и только молчал, так как это было уже за пределами слов, чувствовал в темноте ее лежащие на постели тонкие руки и груди, левую грудь, потому что там билось сердце все быстрей, и она дышала все стремительней, все отчаянней… и свершилось. Это было даже не наслаждение, а страсть самоуничтожения и слияния, штурм тел, которые яростно слились на мгновение воедино, наши борющиеся дыхания, наш жар перешел в самозабвение; она крикнула один раз, слабо, высоким голосом и обняла меня. А потом ее руки отпустили меня, украдкой, как бы в огромном смущении, словно она вдруг поняла, как страшно я обманул ее и предал. А я начал все, поцелуи, немые мольбы, это нежное и такое чудовищное наступление еще раз. И все повторилось, как в черном горячечном сне, и я вдруг почувствовал, как рука, теребившая волосы, прижимает мое лицо с такой силой, какой я от нее не ожидал. А потом, смертельно усталая, быстро дыша, словно желая выдохнуть из себя бушевавший жар и неожиданный страх, она заснула. А я лежал неподвижно, как мертвый, напряженный до предела, и пытался понять, что означает происшедшее, – все или ничего. Уже перед тем как заснуть, мне показалось, что мы спасены, и только теперь пришел покой, огромный покой, такой же, как на Керенее, когда я лежал на горячих плитах потрескавшейся лавы и Ардер лежал рядом и был без сознания, но я видел его губы, шевелящиеся за стеклом скафандра, и знал, что рисковал не напрасно, но у меня уже не было сил, чтобы хотя бы открыть ему кран резервного баллона; я лежал тогда как парализованный, чувствуя, что крупнейшее дело моей жизни уже позади и если я умру, то уже ничто не изменится, и в этом моем оцепенении таился невысказанный молчаливый триумф.
А утром все началось сначала. Первые часы она еще стыдилась, а может быть, это было презрение ко мне, не знаю, или она сама себя презирала за то, что случилось; перед обедом мне удалось уговорить Эри на небольшую автомобильную прогулку. Мы ехали по шоссе вдоль огромных пляжей. Тихий океан лежал под солнцем – грохочущий колосс, рассеченный пенистыми серпами белых и золотых гребней, усеянный до самого горизонта цветными лоскутами парусов. Я остановил машину там, где пляж кончался, неожиданно переходя в небольшой скалистый обрыв. Шоссе резко сворачивало, и, стоя в метре от его края, можно было смотреть сверху прямо на бурный прибой. Мы вернулись к обеду. Снова все было как вчера, а во мне все замирало при мысли о ночи, потому что я не хотел. Так я не хотел. Когда я не смотрел на Эри, я ощущал на себе ее взгляды. Я пытался отгадать, что означают набегающие на ее лоб морщинки, внезапная задумчивость, и не знаю, как или почему, перед самым ужином, когда мы уже садились за стол, вдруг, словно кто-то раскрыл мне глаза, я понял. Мне захотелось стукнуть себя по лбу. Каким же я был эгоистичным глупцом, каким самообольщающимся негодяем! Я сидел, онемев, неподвижно, пот выступил у меня на лице, я почувствовал неожиданную слабость.
– Что с тобой?.. – спросила она.
– Эри, – прохрипел я. – Я… только сейчас. Клянусь тебе, сейчас понял, только сейчас, что ты пошла со мной; потому что боялась, что я… да?
Ее глаза расширились, она внимательно смотрела на меня, как бы подозревая какой-то обман, комедию. Потом кивнула.
Я вскочил.
– Едем.
– Куда?
– В Клавестру. Собирай вещи. Мы будем там… – я взглянул на часы, – через три часа.
Она не пошевелилась:
– Правда?
– Правда, Эри! Я не знал. Да, понимаю. Это звучит невероятно. Но есть границы. Да, есть границы. Эри, я этого еще как следует не понимаю. Как я мог? Наверно, я обманывал себя. Ну, не знаю, только все равно теперь это уже не имеет никакого значения.
Она собралась… так быстро… Во мне все пылало и кипело, но внешне я был совершенно, почти совершенно спокоен. Сев рядом со мной в машину, она сказала:
– Эл, прости.
– За что? А! – Я понял. – Ты думала, я знаю?
– Да.
– Ладно.
– Не будем об этом.
И опять я набрал скорость; убегали лиловые, белые, голубые домики, дорога извивалась, я увеличил скорость, движение по шоссе было большое, потом уменьшилось. Домики потеряли цвет, небо стало темно-голубым, показались звезды, а мы все мчались в протяжном свисте ветра.
Все вокруг посерело, холмы теряли четкость очертаний, превращались в контуры, в ряды серых горбов, дорога проступила из полумрака широкой, фосфоресцирующей полосой. Я узнал первые дома Клавестры, специфический поворот, живые изгороди. У самого входа я резко остановил машину, вынес ее вещи в сад к веранде.
– Не хочу… входить в дом. Понимаешь?
– Понимаю.
Я не хотел прощаться и отвернулся. Она коснулась моей руки, я вздрогнул, словно обожженный…
– Эл, благодарю тебя…
– Молчи. Ради бога, только молчи.
Я убежал. Вскочил в машину, дал газ, гул мотора как бы на минуту спас меня. Я вышел, уже на двух колесах, на прямую. Надо мной можно было смеяться. Конечно, она боялась, что я его убью. Ведь она видела, что я пытался убить Олафа, ни в чем не виновного, только за то, что он не позволил мне… а впрочем! Впрочем, ничего. Я кричал, мчался и кричал, я мог позволить себе все, я был один. Мотор заглушал мое безумие. И опять не знаю, когда я понял, что надо делать. И снова, как в первый раз, наступил покой. Уже не такой. Ибо то, что я так ужасно использовал ситуацию и вынудил ее пойти со мной, и что все было поэтому… это было самым худшим из всего, что я мог себе представить, это отнимало у меня даже воспоминания, память той ночи, отнимало все. Я сам, собственными руками, уничтожил это в каком-то безграничном эгоизме, в ослеплении, которое закрыло от меня то, что было очевидным, что лежало на самой поверхности – ведь она не лгала, когда сказала, что не боится меня. Она боялась не за себя – боялась за него.
За стеклами летели огни, переливались, мягко отходили назад, мир вокруг был невыразимо прекрасен, а я, истерзанный, разбитый, летел, свистя шинами, из одного виража в другой к Тихому океану, к скалам. Неожиданно, когда машина наклонилась сильнее, чем я ожидал, и вышла правыми колесами за край дороги, я испугался, это длилось мгновение, потом я разразился диким хохотом: неужели я боюсь погибнуть тут только потому, что решил сделать это в другом месте; этот хохот неожиданно перешел в рыдания. Я должен сделать это быстро, думал я, потому что я уже не тот. То, что со мной делается, более чем страшно, это отвратительно. Я твердил себе, что мне должно быть стыдно, но слова не имели ни веса, ни смысла. Было уже совершенно темно, шоссе почти опустело – ночью мало кто ездил, – когда я увидел недалеко за собой черный глидер. Он шел легко и без усилия там, где я вынужден был выделывать дикие трюки тормозами и газом. Глидеры держатся на дороге силой магнитного и гравитационного притяжения или черт знает чем еще. Во всяком случае, он мог опередить меня без особого труда, но держался позади метрах в восьмидесяти, то немного ближе, то дальше. На резких поворотах, когда машину заносило и меня отбрасывало влево, он отставал, не думаю, чтобы не мог выдержать темпа. Может быть, водитель боялся. Впрочем, там не было никакого водителя. Но какое мне дело до этого глидера?
А дело все-таки было, потому что я чувствовал, что он висит у меня на хвосте не случайно. И вдруг мне пришло в голову, что это Олаф, Олаф, который, не доверяя мне ни на грош (и правильно), затаился где-то и выжидал развития событий. И при мысли, что там мой избавитель, мой дорогой, старый Олаф, который опять не даст мне сделать того, что я хочу, и будет мне старшим братом, утешителем, меня охватила такая ярость, такое бешенство, что несколько секунд я вообще не разбирал дороги.
«Какого дьявола меня не оставляют в покое?!» – подумал я и начал выжимать из машины последние возможности, последние крупицы, словно бы не знал, что глидер все равно может идти вдвое быстрее. Так мы мчались в ночи, между холмов, усыпанных огоньками, а сквозь дикий свист рассекаемого воздуха уже был слышен невидимый, распростертый впереди огромный, словно выплывающий из бездонных пропастей шум океана.
«Ну и догоняй, – думал я. – Догоняй. Ты не знаешь того, что знаю я. Ты следишь за мной, преследуешь меня, не даешь мне покоя – прекрасно; но я перехитрю тебя, выскользну, убегу, ты и моргнуть не успеешь; а ты сколько ни бейся, ничего не сможешь сделать, потому что глидер не сойдет с шоссе. Так что даже в последнюю минуту у меня будет чистая совесть. Очень хорошо!!»
Я как раз проезжал мимо домика, в котором мы жили, – три его освещенных окна сверкнули мне в лицо, словно затем, чтоб доказать, что нет такой муки, которую нельзя еще больше углубить, и я вышел на последний отрезок шоссе, параллельный океану. Тогда глидер, к моему изумлению, резко увеличил скорость и стал меня обходить. Я быстро закрыл ему путь, подавшись влево. Он отстал, и так мы маневрировали: как только он хотел выйти вперед, я загораживал машиной левую полосу – так, наверное, раз пять. Неожиданно, несмотря на мои маневры, он начал меня опережать, кузов машины почти вплотную коснулся черной блестящей поверхности безоконного, как бы безлюдного снаряда; я уже не сомневался, что это Олаф, потому что никто другой не осмелился бы сделать подобного, – но ведь не мог же я убить Олафа. Не мог. И я пропустил его. Он вышел вперед, мне показалось, что теперь он пытается загородить мне путь, но он продолжал держаться метрах в пятнадцати перед моим капотом. Ну, подумал я, это мне не помешает. И я немного притормозил, со слабой надеждой, что, может быть, он оторвется, но он не хотел отдаляться и тоже притормозил. До последнего поворота у скал оставалось около мили, когда глидер пошел еще медленнее: теперь он держался середины шоссе, так, что я не мог его обогнать. Я подумал, что, может быть, мне удастся уже сейчас, но тут не было никаких скал, только песчаный пляж, машина зарылась бы колесами в песок через сто метров, даже не дойдя до океана, – такое идиотство не входило в мои расчеты. Выхода не было, приходилось ехать дальше. Глидер еще больше замедлил скорость, я видел, что он вот-вот остановится: его черный корпус засверкал от тормозных огней будто залитый горящей кровью. В ту же минуту я попытался обойти его резким поворотом, но он преградил мне путь. Он был быстрее и поворотливее – ведь им командовал автомат. У автомата всегда реакция быстрее. Я нажал ногой тормоз, слишком поздно, послышался дикий скрежет, черная масса выросла перед самым стеклом, меня бросило вперед, и я потерял сознание.
Я открыл глаза, как после сна, бредового сна. Мне снилось, что я плаваю. Что-то холодное, мокрое текло у меня по лицу, я почувствовал чьи-то руки; они трясли меня, и услышал чей-то голос.
– Олаф, – пробормотал я. – Зачем, Олаф? Зачем?..
– Эл!!
Меня словно пронзило током, я приподнялся на локте и прямо над собой увидел ее лицо, и, когда я сел, обалдевший, неспособный соображать, она медленно опустилась передо мной на колени, плечи ее судорожно вздрагивали, а я все еще не верил. Голова у меня была огромная, как будто ватная.
– Эри, – сказал я онемевшими губами, странно большими, тяжелыми и какими-то не моими. – Эри… Это ты… или мне только…
Неожиданно силы вернулись ко мне, я схватил ее за плечи, поднял, вскочил, закружился на месте с ней – мы оба упали на еще теплый мягкий песок. Я целовал ее соленое, мокрое лицо и плакал, впервые в жизни. И она плакала. Мы долго не говорили ничего. Постепенно мы начали как будто бояться – не знаю чего, – она всматривалась в меня глазами лунатика.
– Эри, – повторял я. – Эри… Эри… – И ничего больше.
Почувствовав неожиданную слабость, я лег на песок, а она, испугавшись, пробовала приподнять меня, но у нее не хватило сил.
– Нет, Эри, – шептал я, – нет, ничего страшного, это просто так…
– Эл! Говори! Говори!
– Что говорить?.. Эри…
Мой голос немного успокоил ее. Она побежала куда-то, вернулась с плоской флягой и опять полила мне лицо водой. Вода была горькой: это была вода океана. «Я собирался глотнуть ее намного больше», – мелькнуло у меня в сознании: я заморгал. Приходил в себя. Сел и потрогал голову.
Я даже не был ранен, волосы смягчили удар, на голове появилась только шишка величиной с апельсин, немного поцарапана кожа, здорово шумело в ушах, но в общем все было в порядке. Я попробовал подняться, но ноги как-то не очень слушались.
Она стояла передо мной на коленях, глядя на меня, опустив руки.
– Это ты? Правда? – спросил я: только теперь я понял. Я резко повернулся и, почувствовав головокружение, вызванное этим движением, увидел при свете молодого месяца в нескольких метрах от нас, на краю шоссе два сцепившихся черных силуэта. Когда я снова взглянул на нее, у меня захватило дыхание.
– Эл…
– Да?
– Попытайся встать… я помогу тебе…
– Встать?
Видимо, с головой у меня было еще не все в порядке. Я и понимал, что произошло, и не понимал. Так, значит, в глидере была Эри? Но это невозможно!
– Где Олаф? – спросил я.
– Олаф? Не знаю.
– Как?.. Разве его тут не было?
– Нет.
– Ты одна?
Она кивнула.
И вдруг я ужасно, нечеловечески испугался.
– Как ты могла! Как ты могла!
Ее лицо дрожало, губы тряслись, она с трудом произнесла:
– Я… не могла иначе…
Она опять плакала. Постепенно утихла, успокоилась. Потрогала мое лицо, лоб. Легкими прикосновениями ощупывала мою голову, а я повторял, одним дыханием:
– Эри… это ты?
Потом я медленно встал, она, как могла, поддерживала меня; мы дошли до шоссе. Только там я увидел, как выглядела машина; капот, весь перед, все сплющилось в гармошку. Зато глидер почти не был поврежден – только теперь я осознал его превосходство – ничего, кроме небольшой вмятины сбоку, там, куда пришелся основной удар.
Эри помогла мне забраться в глидер, вывернула его так, что корпус моей машины, протяжно грохоча железом, свалился набок. Мы возвращались. Я молчал; плыли огни. Голова качалась на плечах, все еще огромная и тяжелая. Мы остановились перед домиком. Окна были освещены, словно мы никогда и не уезжали. Она помогла мне войти. Я лег. Она, обогнув стол, направилась к двери.
Я вскочил:
– Ты уходишь?
Она подбежала ко мне, опустилась на колени перед кроватью и отрицательно покачала головой.
– Нет?
– Нет.
– И никогда не уйдешь?
– Никогда.
Я обнял ее. Она прижалась щекой к моему лицу, а из меня уходило все: остывающая накипь гнева, ярости и безумия последних часов, страх, отчаяние. Я лежал опустошенный, словно мертвый, и только прижимал ее все сильнее, и силы будто возвращались ко мне, и была тишина, свет блестел в золотой обивке комнаты, а где-то далеко, как бы в ином мире, за открытыми окнами шумел Тихий океан.
Это может показаться странным, но мы ничего не говорили ни в тот вечер, ни в ту ночь. Ничего, ни одного слова. Только назавтра, к концу дня я узнал, как это было: едва я уехал, она догадалась обо всем и ужаснулась. И не знала, что делать. Сначала хотела позвать белого робота, но поняла, что это не поможет; он тоже – она не называла его иначе, – он бы тоже не помог. Может быть, Олаф. Олаф наверняка, но она не знала, где его искать, впрочем, уже не было времени. Тогда она взяла домашний глидер и поехала за мной. Быстро догнала меня и держалась позади, пока еще можно было надеяться, что я возвращаюсь в домик.
– Ты бы пришла туда? – спросил я.
Она колебалась.
– Сама не знаю. Думаю, что да. Сейчас я так думаю, но сама не знаю.
Потом, увидев, что я еду дальше, она испугалась еще больше. Остальное я знал.
– Нет. Ничего не понимаю, – сказал я. – Вот теперь я действительно не понимаю. Как ты могла это сделать?
– Я сказала себе, что… что ничего не случится.
– Ты понимала, что я хочу сделать и где?
– Да…
– Как ты догадалась?
После долгого молчания она ответила:
– Не знаю. Может быть, потому, что я уже немного узнала тебя.
Я молчал. Мне хотелось еще о многом спросить ее, но я не смел. Мы стояли у окна. Не раскрывая глаз, ощущая дыхание океана, я сказал:
– Ну хорошо, Эри… а что теперь? Что будет?
– Я уже сказала.
– Но я не хочу так… – шепнул я.
– Иначе невозможно, – ответила она после долгого молчания. – Да и…
– Что?
– Я не хочу иначе.
В этот день, к вечеру, снова стало как будто хуже. ОНО возвращалось и подступало и отступало – почему? Не знаю. И она, наверное, тоже не знала. Словно мы сближались только перед лицом опасности и только тогда узнавали и по-настоящему могли понять друг друга. Потом пришла ночь. И еще один день.
А на четвертый день я слышал, как она разговаривает по телефону, и ужасно испугался. Потом она плакала. Но за обедом уже улыбалась.
И это был конец и начало. Потому что через неделю мы поехали в Мае, центр округа, и там, в управлении, перед одетым в белое человеком, произнесли формулы, которые сделали нас мужем и женой. В тот же день я телеграфировал Олафу. Назавтра пошел на почту, но от него не было ничего. Я подумал, что он, может быть, переехал куда-нибудь и поэтому ответ запоздал. Но честно говоря, уже тогда, на почте, я почувствовал беспокойство, потому что это молчание не было свойственно Олафу, но из-за всего, что произошло, я думал об этом всего минуту и не сказал Эри ни слова. Как будто забыл.
VI
Наш брак, заключенный только благодаря моему неистовству, оказался неожиданно удачным. В нашей жизни произошел довольно своеобразный раздел. Когда возникало расхождение во взглядах, Эри умела отстаивать свою точку зрения, но в таких случаях речь шла о вопросах общего характера; она была, например, убежденной сторонницей бетризации и отстаивала ее отнюдь не книжными аргументами. То, что она противопоставляла свое мнение моему так открыто, я считал хорошим признаком, но наши споры происходили днем. Засветло она не решалась, вернее, не хотела говорить обо мне беспристрастно, спокойно. Видимо, она не знала, когда ее слова будут относиться только ко мне, к моим личным недостаткам, будут уязвлять лишь мелочную гордость «человека из консервной банки», если пользоваться выражением Олафа, а когда будут направлены уже против самой сущности моей эпохи. Зато по ночам – как бы потому, что мрак несколько затушевывал меня, – она говорила обо мне, то есть о нас, и я был рад этим тихим беседам в темноте, милостиво скрывавшей то и дело прорывавшееся у меня изумление.
Она рассказывала и о себе, о своем детстве, и я во второй, а вернее, в первый раз – потому что теперь это было наполнено реальным, человеческим содержанием – узнавал, как искусно было построено это общество непрерывной, тонко стабилизированной гармонии. Считалось естественным, что воспитание детей требует высокой квалификации и всесторонней подготовки, даже специального обучения; чтобы получить разрешение завести ребенка, супруги должны были сдавать что-то вроде экзаменов; вначале это показалось мне весьма странным, но, подумав, я вынужден был признать, что парадоксальность обычаев отягощала скорее нас, а не их, – в старом обществе нельзя было, например, строить дом, мост, лечить болезни, наконец, просто выполнять административную работу, не имея соответствующего образования, и только наиболее ответственное дело – рождение детей, формирование их психики – было отдано на произвол слепого случая и минутного желания, а общество вмешивалось лишь тогда, когда ошибки – если они были совершены – уже поздно было исправлять.
Таким образом, право иметь ребенка стало теперь особым отличием, его давали не всякому; дальше – родители не могли изолировать детей от их сверстников – создавались специально подобранные смешанные группы девочек и мальчиков, в которых были представлены различнейшие темпераменты; так называемые «трудные дети» подвергались дополнительным гипнологическим процедурам, а всеобщее обучение начиналось необычайно рано. Это не была наука чтения и письма: чтению и письму учили куда позже; специальное воспитание самых маленьких состояло в том, что их знакомили – при помощи специальных игр – с устройством и жизнью мира и Земли, с богатством и разнообразием форм общественной жизни; таким естественным образом уже в четырех-пятилетнем возрасте детям прививались принципы терпимости и уважения к другим мнениям и точкам зрения, правила общежития, внушалась несущественность внешних, физических черт. Все это я, конечно, одобрял, но с одной, весьма существенной оговоркой. Ведь незыблемой основой этого мира, его Высшим законом была бетризация. Воспитание было направлено именно к тому, чтобы принимать ее как реальность, подобную рождению или смерти. Слыша от Эри, как преподают в школе историю минувших эпох, я едва сдерживал ярость. В современной трактовке это были времена зверства и варварского, безудержного размножения, бурных экономических и военных катастроф, а достижения цивилизации, которые невозможно было замолчать, изображались ими как проявление тех сил и стремлений, которые позволяли людям побеждать тьму и жестокость эпохи; таким образом эти достижения пробивали себе путь как бы вопреки господствовавшей тогда тенденции жизни за счет других. То, говорили они, что раньше достигалось с величайшим трудом, чего могли добиться только немногие, к чему раньше вела дорога, полная опасностей, самоотречений, компромиссов, моральных поражений, все это теперь является всеобщим, доступным и надежным.
Пока эти рассуждения затрагивали многочисленные отрицательные стороны прошлого – например, войну, – я готов был согласиться; я также признавал достижением, а не недостатком отсутствие – полное! – всякой политики, всех этих столкновений, напряжений, международных конфликтов. Это было настолько удивительно, что я вначале подозревал, что они существуют, только просто замалчиваются; гораздо хуже было, когда эта переоценка касалась моих личных дел. Потому что не только Старк своей книгой (написанной, добавляю, за полвека до моего возвращения) перечеркивал космические путешествия. Тут Эри, аспирантка-археолог, могла научить меня многому. Уже первые бетризованные поколения коренным образом изменили свои взгляды на астронавтику, но, хотя отношение к ней стало отрицательным, она продолжала будоражить умы. Считалось, что была совершена трагическая ошибка, достигшая кульминации как раз в годы подготовки нашего полета, так как именно в ту пору подобные экспедиции отправлялись одна за другой; ошибка состояла не только в том, что результаты этих экспедиций оказались ничтожными, а полеты в околосолнечном пространстве в радиусе нескольких световых лет сверх открытия на нескольких планетах примитивных и совершенно чуждых нам форм жизни не привели к контакту ни с одной высокоразвитой цивилизацией.
Наихудшим считалось даже не то, что по мере удаления намеченных целей от Солнца чудовищная продолжительность полета должна была превратить экипажи кораблей, этих посланцев и представителей Земли, в скопище несчастных, смертельно уставших существ, которые после высадки – на Земле или ТАМ – будут нуждаться в заботливом уходе и в длительном лечении, так что посылка этих энтузиастов превратилась бы в бессмысленную жестокость; нет, не это считалось самым страшным. Наиболее существенным считали то, что Космосом старалась овладеть Земля, та самая Земля, которая не сделала еще всего для себя самой, ведь никакие космические подвиги не могли покончить с человеческими мучениями, с несправедливостью, страхом и голодом на земном шаре.
Но так рассуждало только первое бетризованное поколение, а потом, естественно, наступило забвение и безразличие; дети, узнавая о романтической эпохе астронавтики, поражались ей, быть может, даже чуточку боялись своих непонятных предков, столь же чуждых и загадочных, как их прапрадеды, запутавшиеся в грабительских войнах и походах за золотом. Именно это безразличие изумляло меня больше всего, потому что оно было хуже безоговорочного осуждения. То, ради чего мы готовы были отдать жизнь, теперь окружено молчанием, похоронено и предано забвению.
Эри не торопилась обратить меня в свою веру, не пыталась сделать меня энтузиастом нового мира. Просто говоря о себе, она рассказывала о нем, а я – именно потому, что она говорила о себе и собою свидетельствовала о нем, – не мог просто так отмахнуться от его достоинств.
Их цивилизация была лишена страха. Все, что существовало, служило людям. Ничто не имело значения, кроме их удобств, удовлетворения и насущнейших, и наиболее изысканных потребностей. Всюду, во всех областях, где сам человек, ненадежность его эмоций, медлительность реакций могли создать хотя бы минимальный риск, он был заменен мертвыми устройствами, автоматами.
Это был мир, закрытый для опасности. Угрозе, борьбе, насилию в нем не было места: мир кротости, мягких форм и обычаев, конфликтов неострых, ситуаций недраматических, мир столь же поразительный, пожалуй, как моя или наша (я имею в виду Олафа) реакция на него.
Ведь мы в течение десяти лет хлебнули столько ужасов, всего того, что противно естеству человека, что ранит его и ломает, и возвращались, такие сытые этим, сытые по горло; ведь каждый из нас, скажи ему кто-нибудь, что возвращение запаздывает, что впереди новые месяцы пустоты, перегрыз бы, наверное, говорящему глотку. И вот мы, уже не имевшие сил переносить постоянный риск, слепую вероятность метеоритного попадания и это вечное напряженное ожидание и муки, когда какой-нибудь Ардер или Эннессон не возвращался из разведывательного полета, – мы вдруг начинали ссылаться на это время ужаса, как на что-то единственно истинное, настоящее, придающее достоинство и смысл нашему существованию. А ведь я еще и теперь содрогался, вспомнив, как, сидя, лежа, вися в самых странных позах в круглой радиокабине, мы ждали и ждали в тишине, прерываемой только мерным звучанием позывных корабля, и видели, как в мертвом голубом свете капли пота стекают со лба радиотелеграфиста, застывшего в таком же ожидании, в то время как аварийные часы неслышно отсчитывали секунды, минуты, так что наконец тот миг, когда стрелка касалась красной точки диска, приносил облегчение. Да, облегчение… потому что тогда наконец можно было кинуться на поиски и погибнуть самому, а это действительно казалось легче, чем ожидание. Мы, пилоты, не ученые, были старыми волками, наше время остановилось еще за три года до настоящего старта. Все эти три года нас приучали ко все возрастающим психическим перегрузкам. Они проводились в три основных этапа, которые мы коротко называли Прессом, Дворцом Духов и Коронацией.
Дворец Духов. Человека запирали в небольшой камере, так изолированной от мира, как только можно себе представить. Туда не проникал ни один звук, ни луч света, ни атом воздуха, ни родившееся снаружи колебание. Похожая на небольшую ракету капсула была оборудована фантоматической аппаратурой, снабжена запасами воды, продовольствия и кислорода. И в ней нужно было жить в бездействии, в томительном ожидании месяц, казавшийся вечностью. Ни один человек не выходил оттуда таким же, каким вошел. Мне, одному из самых крепких подопечных доктора Янссена, только на третью неделю начали чудиться те странные вещи, которые подстерегали других уже на четвертый, пятый день: безликие чудовища, бесформенные толпы, выползающие из мертвенно светящихся приборных щитков, чтобы вести со мной бессвязные разговоры, висеть над моим вспотевшим телом, а оно в это время расплывалось, изменялось, разрасталось, наконец – и это было, пожалуй, самое ужасное – начинало как бы обосабливаться: сначала подергивались отдельные волоконца мышц, затем появились раздражения и онемения, судороги, потом какие-то движения, которые я уже наблюдал словно совсем со стороны, ничего не понимая; и если бы не предварительная тренировка, если бы не теоретические указания, я готов был бы считать, что моими руками, шеей, головой овладели демоны. Стены капсулы становились свидетелями сцен, которые невозможно описать, назвать; Янссен и его люди с помощью соответствующих аппаратов наблюдали за тем, что делалось внутри, но никто из нас тогда об этом не знал. Ощущение изоляции должно было быть подлинным и полным. Исчезновение некоторых ассистентов доктора было для нас непонятным. Уже во время полета Гимма сказал мне, что они просто не выдерживали. Один, некто Гоббек кажется, пытался силой открыть капсулу, потому что не мог больше смотреть на муки запертого в ней человека.







