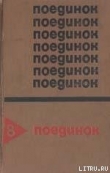Текст книги "Родительская суббота (рассказы разных лет)"
Автор книги: Борис Екимов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Поздний завтрак
В летнем хуторском быту утро начинается на белой заре, до солнца. Подоить, напоить скотину, прежде чем выгонять на пастьбу. Птица кудахчет да крякает, требуя своего. Первые дела огородные и дворовые, на базу за скотиной прибрать – тоже по холодку, пока не припечет солнце. Дело дело цепляет, время летит, солнце поднимается быстро. «Господи, уже почти девять…» Пора завтракать. Первый упряг долгой дневной работы – с плеч долой.
Хуторские дела меряются не часами, а упрягами: утром – первый, второй, самый тяжкий, – дневной, третий – вечерний, уже до звезды.
Первый упряг – спорый: со свежими силами, по холодку. После него – завтрак. Мне нравится время хуторского завтрака. Это не городское хватанье кусков, когда жуешь на бегу. Здесь, на хуторе, в летнюю пору уже отработано три-четыре часа. Первые дела сделаны, и можно, не торопясь, посидеть, еще и побеседовать.
Летний стол – на воле, в тени. На столе в сковородке шкварчит какое-нибудь жарковье: рыба, картошка, мясцо; парит в кастрюле молочная каша, лучше – пшенная, с запекшейся желтой корочкой. Рядом – крупитчатый творог, густая сметана, молоко пресное да кислое, крошеная зелень: огурчики да помидоры, молодой лучок с нежными сладкими луковками, редиска, перец… Глазам и чреву отрада. Похрумкиваешь да причмокиваешь. А потом – чай с молоком, белыми пышками ли, румяными оладушками в каймаке.
Мне нравится этот поздний утренний час. В тени развесистой ивушки еще держится холодок. И еда – в пору: аппетит разгулялся. Торопиться некуда. Самое время для неспешной еды, разговоров, новостей нынешних и прошедших.
Приходят первые гости. Баба Катя – сухонькая востроглазая старушка по прозвищу Газетка; газет она сроду не брала в руки, но знает всё. Дед Федор объявится с первым, но не последним в нынешнем дне визитом.
– Беженка вчера с зонтиком гуляла, – сообщает баба Катя, поджимая губы. – Туда-сюда, туда-сюда, при зонтике. Приглядный такой, с цветками.
– Либо в вашем куту дождик был? – усмехаясь, спрашивает мой приятель.
– Солнце, – объясняет баба Катя. – От солнца она хоронится. Боится загореть.
– А куда ей загорать? Она и так жуковая, – удивляется дед Федор. – Грузинка или армянка… Кто они?
– Лодыри, – веско произносит приятель мой. – Монастырь беззаботный. Вот под зонтиком и хоронятся.
– У тебя одна песня, – заступается Валентина, жена его. – Может, человек больной.
– Мигрень – работать лень…
– Может, аллергия от солнца или давление. У нас – пекло, вот она и прикрылась.
– У тебя тоже давление, но ты с зонтиком не гуляешь. Лодырюки.
Спор этот давний и долгий. Приятель мой к дипломатии непривычен, режет правду-матку. Жена его, Валентина, – другого, мягкого теста. Она жалеет старых и малых, своих и чужих, людей и скотину. К ней подбрасывают котят да кутят. Хуторские старухи в ней души не чают – она их лечит своими средствами: ставит банки, растирает суслиным жиром да муравьиным спиртом, не забудет побаловать печеным да рыбкою, когда муж поймает; секретничает, потакая и сострадая стариковским заботам. Когда она уезжает в город, своих проведать или по делам, старухи ждут ее, а потом признаются: «Тебя нет – и полхутора нет. Мы об табе горимся, плачем… Сберемся и плачем…»
О беженцах у приятеля моего с женой спор давний. На хуторе приезжему люду не больно сладко. Колхоз развалился. Теперь на хуторе – ни молочной фермы, ни гуртов, ни отар, ни свинарника нет, ни птичника, ни амбаров, ни мастерских. Раньше не хватало людей. Бригадир Христа ради просил: «Пойди поработай…» Нынче лишь Шура Мормышка при должности. Другие и этого не имеют, Мормышке завидуя.
– Алырники! Лодыри! – определил мой приятель. – Работать не хотят. Почему не идут к Конькову бахчи полоть? «Жарко… – передразнивает он. – Спина болит… Пыльно…» С зонтиком ходить – не болит спина? А от этого зонтика лишь новый пискун появится. Да-да! У Мормышки появился сын хутора, и у этой – не заржавеет. Готовьтесь приданое сбирать. Надо работать! – настаивает мой приятель. – Не слезы точить, а работать. Полинка закопылила нос, когда Евлашин флигель за бесплатно, считай, отдавали: «Базов нет, сараев нет…» Там старый человек проживал, едва пекал, а ты – в силах. Значит, поставь сараи, базы.
– Чем ставить? – возражает Валентина. – Из чего лепить? Из така?
– Плетней наплети.
– Она их не может плесть.
– Отговорки. Я тоже не мог. А приперло, еще каких наплел. Вот они. Ты помазала, и скотина в городьбе и под крышей.
– Ты – мужик, а они – бабы.
– А как же наши матеря!.. – горячится приятель мой. – После войны на хуторе мужиков не осталось. Одни бабы. Всё делали: колхозное и свое. Хлеба, скотина, огороды, кизяки, плетни… Сами жили и нас вырастили. Ну ладно… – сдавался он. – Не умеешь плетни плесть. Но башка у тебя должна варить. Постановь Савушке миску щей да чекушку, он тебе весь белый свет заплетет. И базы будут, и сараи. Ребятишкам купи конфет, они тебе и хворосту, и чакану, и столбушков натаскают. Вода близочко, сделай копанку. Сажай свеклу, морковь, картошку – . всю зиму сыт будешь. Бабке Евлаше было девяносто лет, а огород пенился. Все свое. Еще и поросенка держала. Сколько лет бабе Кате? – вопрошал он, пальцем указывая. – Восемьдесят два. Она кому жалится?.. Собесу, властям? Она работает. Себя кормит, да еще сынок в город полон кузов везет, аж рессоры лопаются. Скажи, баба Катя?
Старая Катерина лишь смиренно опускает глаза.
– Они – городские, непривычные… – еще один довод. – Они всю жизнь на асфальте.
Мой приятель его отметает решительно:
– Я сам тридцать лет на этом асфальте прожил, и ты столько же. Коля Бахчевник, Коньков, Витя Кравченко, Юрка, Семеныч – все городские. А на хуторе живем, работаем и не жалимся.
– Мы с детства привычные, а они сроду земли не видели. Они и не думали на хутор попасть. Наш Ваха бессовестный. – Это уже для меня объяснение. – Он вторую семью обманывает. Забирает в Грозном квартиры. Трехкомнатная у них была. Обещает, что поселит в райцентр, с работой. Они верят. А он привозит сюда и кидает в разоренную хату. Живите как хотите. Я уж его стыдила.
– Достыдишься, что подожгут нас, – сказал мой приятель. – Больше всех надо? То бича защищала, теперь этих…
– Не буду молчать! – на своем стоит Валентина. – Они бессовестные и наглеют, потому что все молчат. Держишь работника, значит, корми его, одевай. Они кинут кусок хлеба да молока снятого – вот и все. Да еще бьют. Я Вахе так и сказала: не бейте его, он человек. Заявлю в милицию.
– Испугался он твоей милиции. Гуся – участковому, и тот еще поможет живьем закопать этого бича.
Работник ли, по-нынешнему «бич», который пасет скотину у Вахи, существо жалкое: кожа да кости, рваниной прикрытые, калоши на босу ногу. Круглый год пасет: летом, зимой; и спит возле скотины. Хозяин обещает ему «выправить» паспорт. Но это, конечно, сказки…
Споры, которые ведет мой приятель с женой, им конца нет. Это – жизнь.
Приходит старая Хомовна, жалуется:
– Без хлеба сижу… Сухари догрызла, размачивала. Джуреки печь?
Станичная машина-хлебовозка поломалась. Другую неделю хлеб не везут. Люди помоложе что-то придумывают: у кого – машина, у кого – родня… А вот старым да одиноким – беда.
Приятель мой гнет свою линию:
– А как же наши матеря? Никаких хлебовозок не было. Сами пекли. Да еще какой хлеб… С нынешним рядом не постановишь. Помню, бабка печет, еще в печи хлеб, а дух – на весь хутор. Я кружусь возле: «Дай корочку…» Вынет да на лавке раскладет, сбрызнет водой да накроет полотенцем, чтобы дошел… Наши матеря… А теперь привыкли, чтобы готовое, «под ключ».
– С вашими матерями… – отмахивается Валентина. – Надоел, как спасовская нуда. Где накваска, где хмелины, где печь, где квашенка? Ты ее сделаешь, квашенку? Языком лишь… – Она берется за телефонную трубку, звонит в кооперацию, в сельсовет.
– На лошадке пришлите! – доказывает. – Старые люди… Без хлеба… Голосовать не будем! – пугает она. – Не будем, и всё! Так и запомните! Придут выборы, лучше не приезжайте со своими ящиками!! Всем хутором откажемся! Прославим на всю область!
На следующий день прибывает на хутор невеликая машинешка с хлебом, да еще макароны привозит и сладкую воду. Вот тебе и Валентина! Хуторские старухи слезу пускают: «Лишь на тебя надежа…»
Оно и вправду. Ведь до властей – как до Бога. Да и каким властям до нас дело…
Порою Валентина влезает в дела, считай, уголовные.
Операция «Люминь» – позднее назвал эту историю мой приятель, с гордостью за жену добавляя: «Провела как генштаб. Не ниже».
А было так. Утром в слезах прибежали Хомовна, Нюра-татарка да Ксеня – все старье. Кричат:
– Участковому звони! Участковому!!
Дело для наших времен обычное – за ночь со дворов пропал весь «люминь»: тазы для стирки, молочные фляги, бидончики, сковороды, жаровни, миски, кастрюли, даже провода, на каких бельишко сушить развешивали, – все алюминиевое, какое нынче на приемные пункты сдают, за наличные деньги. Раньше был в моде старьевщик ли, гунник, он тряпье собирал, теперь – «люминьщик».
– Звони участковому! Нехай приезжает, ищет! Ни сварить, ни постирать не в чем. Начисто жизни лишил…
На хуторе в стариковском хозяйстве алюминиевая снасть самая ходовая. Она и легкая, не чугун, не бьется, как стекло да эмаль. Легко и прочно.
Не враз, но отыскали по телефону участкового милиционера, он в станице. Отыскали. Но что проку? «Пишите заявления и везите ко мне», – был ответ.
Старухи еще горше заплакали. Кто напишет? И кто повезет? И какой прок от этих бумажек? Пока суд да дело, миски да кастрюли в райцентр уплывут, к «люминьщику».
Приятель мой старухам внушал:
– Надо собак заводить. На цепи. Да какие с зубами вот с такучими. У нас две собаки. Одна здесь, другая на скотьем базу.
Конечно, он прав был. Но что теперь охранять?
Валентина думала недолго.
– Это Мишка Рахманенок. Заимели соседа…
Словно сорная трава полоняло хутор Рахмановское племя. Вот и Мишка, армию отслужив, обратал молоденькую приезжую учительницу, занял пустующий дом. Забота ли, работа у Рахмановых одна: где чего плохо лежит.
– Приходил, нечистый дух! Приходил! – вспомнила Нюра-татарка. – Отбойник спрашивал для косы. Откель у меня отбойник? И зачем ему коса? Мышам сено косить? Это он высматривал! – догадалась она.
– И ко мне приходил, – вспомнила Хомовна.
– И возле моего двора крутился… А ныне с ранья чего-то колотит. Стукотит. Либо нашу посуду?..
И опять заслезились старухи:
– В сельсовет надо жалиться…
– Нехай милицию пощуняют…
Но что проку от старушечьих причитаний да слез? Не пойдешь напрямую с обыском, тем более – учительская семья.
Приятель мой гнул свое, упрекая Ксеню:
– Пальму тебе давали. А ты ее назад возвернула. Она бы – за лытки… Пальма – сторожкая.
Старая собака, услышав кличку свою, загремела цепью: мол, все верно, не зря хлеб жую.
– Всем надо собак заводить. У чеченов, у них волкодавы. Попробуй влезь… – толковал мой приятель.
– Замолчи, Христа ради, – остановила его жена. – Слушайте меня.
Валентинин план оказался по-бабьи прост и легко выполним.
Бобыль дед Федор отправился к Рахманенку с просьбой:
– Овечку надо постричь. Снять волну…
Старая овечка по кличке Шура – притча во хуторских языцех – неизвестно зачем проживала у деда Федора во дворе.
– Постричь надо, а то набьются репьи. Поллитра есть, – пообещал дед.
К таким трудам молодой Рахман был всегда готов. Без лишних слов он согласился. Как только они скрылись из глаз – дед и стригаль, Валентина заспешила к Мишкиной жене – учительше и уже от калитки торопила ее, звала:
– Срочно к телефону! Срочно! Районо вызывает! Срочно… Беги, беги… Там трубка лежит…
Молодая учительша на резвых ногах помчалась к телефону, хату и двор оставив.
Три старухи: Хомовна, Нюра-татарка да Ксеня, выбравшись из засады, словно вороватые сороки, шмыганули во двор: одна – в сарай, другая – в старый курятник, третья – в коридорную пристройку.
Искать долго не пришлось.
В сарае все и обнаружилось: мотки провода, жаровни и уже молотком побитые, сплющенные кастрюли да миски. «Люминьщик» целую посуду не принимал, это запрещалось.
Все остальное было делом простым. На готовое и станичный милиционер объявился. Целую посуду старухи забрали. Побитой рахмановская родня быстро нашла замену, чтобы закрыть «дело».
Операция «Люминь» завершилась. Приятель мой горделиво похмыкивал: «Генштаб!» – но при случае гнул свое:
– Собак надо заводить. Собака, она за лытки… Вот наши – что Пальма, что Волчок… они ночьми не спят… А Мишка, он завтра поумничает, снова упрет всё. Да не во двор, а в барак… Ищи там свищи…
Поздний хуторской завтрак. Солнышко уже высоко. Но в тени раскидистой ивушки, у просторного стола еще держится холодок. Можно не спеша чаевничать, обсуждая дела вчерашние, нынешние. Впереди – долгий день. А теперь – лишь завтрак.
Кудовая
На третий день хуторского житья, когда на подворье все новости собраны да рассказаны, наступает пора иная.
– Ты нынче чем займешься? – спрашивает поутру мой хозяин.
– Пойду попроведаю…
– Ну давай…
Отзавтракали. И пошел я по хутору бродить. Он нынче просторный, хотя и не больно людный. Но как в далекие годы протянулся и раскрылатился от донского берега, от лесистого займища до заливного луга и Лысого бугра, так и теперь доживает свой век в былых размерах, как и прежде делясь на куты: Забарак, Никишкин кут и Варшава. Последнее название почти позабыто.
Умирают, уходят с хутора люди, ветшают и рушатся дома, базы, разрежая былую тесноту дворов.
Соседства давно уже нет, когда через плетеный забор окликнешь живую душу. Нынче дома и поместья стоят вольно, будто чураясь друг друга; меж ними – пустоши, руины, заросли дурной травы или задичавшего сада.
Словно плавучие острова, все дальше расходятся живые дома, подворья, особенно в непогоду, во тьме, скупо светя желтыми окошками.
Но нынче – пора летняя и погожая. Еще издали, чуть ли не от своего двора, вижу, что у бабы Кати на летней кухне, на крыше ее, – человек.
Ближе подхожу, а это, оказывается, сама хозяйка печную трубу глиной обмазывает. Дело летнее, но впереди – зима.
– Ты как туда залезла? – спрашиваю удивленно.
– По лестнице… – поняв мое удивление и обидевшись, коротко отвечает баба Катя. – Чего ж я, вовсе некудовая? Трухля?
– Кудовая… – усмехаюсь я. – Как коза по лестнице скачешь, в восемьдесят лет.
– Восемьдесят и еще два годочка, – спускаясь на землю, к гостю, уточняет старая женщина.
Сухощавая, росточку малого, возрастом гнутая, баба Катя имеет характер бойкий, любит поговорить. Газетка – ее старинное хуторское прозвище. Живет она одиноко. Сын Василий с давних пор в городе, дочка – в станице. Живет одна, но дом и двор – как и в прежние годы.
– Огород ныне огорчает, – жалуется она, когда идем мы осматривать ее владенье. – Картошка прет, прямо бушует, в огудину, а будет ли прок…
Огород старой женщины раскинулся так просторно, пышно и зелено, что оторопь берет. У хозяйки воробьиная стать: косточки, кожа, иссохшие плети рук,.. В чем душа держится. Но огород – не окинешь взглядом. Зеленой стеной – картошка, огурцы, помидоры, плетучие тыквы… И ведь не трактор пахал, а все – лопата, мотыга и эти старушечьи, словно птичьи, иссохшие руки.
– Ну и огород у тебя… – в который раз удивляюсь. – Надо бы уже поменьше. Все же – возраст…
– Года, года… – соглашается баба Катя. – Из могуты выбилась. Здоровья нет.
– Ну и сажай поменьше, куда тебе?
– Я тоже гутарю… – соглашается она. – Который год сынка прошу: отрежь, Христа ради, огород наполовину, перенеси городьбу так-то вот – от кухни вкопай соху и перестановь городьбу. Тогда будет мне по силам: десяток рядков картошки да грядочки, для себя. И будет расхорошо. А ныне такая страсть…
– Все верно, – подтверждаю я. – Тебе много ли надо?
– Который год прошу: перестановь, сынок, городьбу. А ему некогда.
– Господь с ней, с городьбой, – говорю я. – Брось и не сажай.
Из-под белого платочка снизу вверх глядят на меня удивленные глаза:
– В своей городьбе… кинуть? Не сажать? Бурьяном зарастет… Люди будут глядеть. Вот и сынок мой упыристый тоже: кидай да кидай… Так не положено, – говорит она строго. – Городьба стоит, значит, моя земля, мой ответ. Я ведь какой год криком кричу: перестановь городьбу, чуток буду сажать, для себя. А ему – некогда. Я бы по силам сажала, для себя.
– Правильно, – одобряю я. – Дети себе посадят ли, купят.
– Вот-вот, и сынок галдит: нам не надо, не надо, мы купим. – Вздыхает. – Купим-залупим… В городе за всё – копеечка. Мамкина картошка – не лишняя. А помидоров, огурцов сколь увозят… Машина трещит, кузова не хватает. Тыквы у меня всегда расхорошие…
Тыквы и в самом деле у бабы Кати огромные, в колесо, розовые, сахарные на вкус. Зимой в гости придешь, на стол – угощенье: в духовке запеченная тыква, оранжевые кусочки с подтеками темной патоки, пахучие, сладкие. Гостям – угощенье, хозяйке – еда. Пенсия у бабы Кати – копеечная, хотя всю жизнь в колхозе работала. И потому еда, как говорится, гусиная: постные щи, картошка, свекла. Пенсия малая. Но ухитряется своим помогать. Хвалится порой: «Внучке передала двести рублей, она – девка, ей чапуриться надо, а внуку – сто рублей… Василий приезжал – ему тоже надо, хоть и взрослый, но сын»…
Сын – взрослый, тоже к пенсии подбирается. Чуть не всякий день из конторы звонит приятелю моему: «Как там мать?» На хутор приезжает, любит рыбачить. А зимой – охотится. Прибывают целым кагалом: друзья да приятели. Баба Катя заранее топит старинную мазанку – кухню. Там охотнички гулеванят.
Летом в этой кухне любят жить городские внуки: днем – прохлада, да и с гулянки можно прийти когда вздумается, не тревожа бабку.
Мне нравится эта кухня, старинное жилье: глинобитные стены, мазаный пол, русская печь, запах сухой мяты, полынных да сибирьковых веников.
Мне нравится хозяйка, старый воробушек в белом платочке, с быстрыми, живыми глазами. Мне нравится ее гнездо – флигелек в две комнаты: кухня да горница, – все аккуратно помазано и побелено, от завалинки до трубы. Просторный огород, петуньи, пахучий табак да высокие алые мальвы возле забора, скамеечка у ворот. Но сидеть на ней время не позволяет. Разве что ради гостя…
– Какие новости? – спрашиваю.
– Откель мне знать, – скромно опускает глаза хозяйка. – Зимой хоть радио гутарит. А ныне – лишь огород, хата да кухня, курята да поросенок, с утра до ночи… Раздираюсь, как бык на склизу…
Но помаленьку кое-что узнаю.
Бобылка Раиса, что прибилась к хутору лет пять назад, оказалась мужней, приезжали за ней на машине, зовут в семью, и мужик обещает не пить, потому что постарел, – вот теперь и думай. Премудрые Рахманы – они же привыкли чужими джуреками своих родителей поминать, – доумились Рахманы: сыпят к своему порогу семечки, приманывают чужих кур, приманят – и шлычку набок, в лапшу. Надюрка Рахманова проводила своего Митрия в больницу, в райцентр, с серьезной болезнью, да его и было видать: сделался вощаной, долго будут лечить, запихнула в больницу и, считай, тем же ходом привезла ему на замену какого-то с усиками, может, на время, а может, насовсем. А ведь Митрий тоже не с возу упал, они в загсе, на жизнь записанные… Котенковы наладились самогонку гнать, для жизни подмога, люди хвалят ихнюю самогонку из сахара, не то что Вахина отрава. А Вахины же – переселенцы из Грозного, к жизни нашей никак не привыкнут: лежат-лежат, потом сядут, сидят-сидят, потом лягут. Осенью люди давали им картошку, капусту, свеклу – несли ото всех дворов, кто мог, весной семена да рассаду навязывали, а у них одно посохло, другое не взошло, третье Вахины козы погрызли, потому что зимой забор в печке пожгли, а новый не поставили… А у Коли Бахчевника…
Помаленьку хуторская жизнь для меня прояснивается. Но нынче пора летняя, долго не рассадишь.
– Надо лезть, мазикать… – спохватывается баба Катя. – А то глина заклекнет.
И вот она уже наверху, возле трубы. Хоть и невысокая кухонька, но как-то боязно глядеть на старую женщину. «Восемьдесят да еще два годочка…»
На прощанье решил пошутить, кричу, посмеиваясь:
– На флигеле труба тоже рук просит!
– На той неделе полезу! – отвечает старая женщина. – Там еще на подловке делов…
Поднимаю глаза на шеломистую флигеля крышу, опасаюсь и предостерегаю:
– Там высоко… Василий приедет. Или Мария…
– Дождешься их, – отвечает баба Катя и подсмеивается: – Чего я, вовсе, что ль, некудовая?
– Кудовая! – машу я рукой на прощанье. – Еще какая кудовая.
«Сколь работы, Петрович…»
Подворье Алеши Батакова обычно встречает и провожает меня собачьим лаем: заливистая шавка – у ворот; у скотьих базов волкодав в добрую телушку ростом глухо гавкнет, глядит, куда правишься. Хозяина не видать.
Подворье, даже по меркам хуторским, огромное: подле забора – малая хатка, а дальше – город: скотьи катухи, сараи, крытые да выгульные базы, скирды сенника, а еще – немереные огород да сад, которые тянутся в упор до займищного леса. Где-то там, в глубине своего просторного государства, Алеша. Заросшее недельной щетиной лицо, вваленные щеки, худое жилистое тело. «Петрович, сколь работы…» – обычное присловье его.
Видимся нечасто. Больше – на ходу.
Вечером, уже в полутьме, на лошади скачет, остановится.
– Бычки другой день домой не идут, – жалуется. – С чеченскими свалахтались, уходят на просо, аж к Змеиному рыну. Это ведь до поры… Надо искать да гнать. – И поскакал в гору. Пригонит бычков поздно, уже в ночи.
Чуть свет, на заре, на берег идем с приятелем, к лодке, навстречу громыхает Алешин тракторенок. Уже от воды. В тележке – мотор, сети да ящики с рыбой, коли есть она. Порою мимо проскочит, лишь рукой покажет: мол, спешу; чаще остановится, не выключая движка, доложит: «Сплыл на леща… Сплыл на чехонь…» И результат. Закончит обычным: «Петрович, на уху возьмешь?» «Спасибо, сами поймаем». – «Ну гляди… Будешь уезжать – упреди. Посерьезней чего добудем…» И покатил дальше.
Вечером возвращаюсь от речки и займища мимо Алешиного подворья. Сумерки. Солнце уже опустилось за Львовичеву гору. Шавка залаяла. На ступенях крылечка что-то шевельнулось. Глянул: Алеша сидит.
– Здорово дневали, – говорю.
– Слава богу, Петрович, заходи. – И на шавку прицыкнул, а сам сидит на ступенях.
Я вошел во двор, он лишь тогда медленно приподнялся, посмеялся над собой:
– До хаты добрался, а взойти не могу… Ныне жену отправлял, в три поднялся, поехал, три раза сплыл. Надо, Петрович… Отвез жену прямиком к базару. Вернулся, сколь работы, Петрович, не присел за день. Одно за другое цепляет. Скотина, птица, огород… Вот прибился к хате, присел – и не встану. А надо еще собак покормить, да и самому… Тебя чем угостить, Петрович?.. Либо чехонью? Хорошая подошла…
Я отнекался и, быстро распрощавшись, ушел. Какие уж тут беседы…
Другое дело – днем. Идешь мимо, увидишь, окликнешь: «Здорово работали!» «Слава богу, Петрович! Заходи, попроведай…»
Побритый, улыбчивый, ясноглазый, Алеша глядит молодо, как и положено в тридцать с немногим лет; тем более что он на лицо худощав и телом костляв и жилист, подвижен, на ногу скор.
– Новости какие? – любопытствует он. – В городе, в Москве? Мы тут потонули в навозе. Ничего не знаем. Газет не видим. Да и когда их читать, Петрович? Сколь работы… Телевизор паутиной оброс, летом про него и забыли… Сколь работы… Пойдем поглядишь мое хозяйство. Хвалиться особо нечем. Надумал вот хату строить…
Про хату давно было сказано. Два ли, три года назад притянул Алеша трактором ребристые молотильные катки с Евлампиевского хутора, с его руин. В древние годы этими катками, вырубленными из дикого камня-песчаника, молотили хлеб на токах, потом катки приспособили ставить фундаментом, под первый венец. Вот и Алеша на них позарился, трактором приволок, потом оправдывался, что они лежат без дела:
– Петрович, сами-то ладно, а скотина должна под крышей стоять. Иначе с нее не спросишь. Это мне отец всегда говорил. А он по скотине был первый. И гуляк держал, и Овечек, и коз. Помногу. За что и выжили… Петрович, птица под белым небом лишь днем, а ночью надо в тепле… Тем более на гнезде, – внушал он. – Петрович, она хоть и свиньей зовется, но в сырости, при сквозняке жить не будет, – убеждал он меня.
Его отец когда-то жил здесь. Батаковых подворье старые люди еще помнят. Оно давно в руинах.
Дело в том, что на хуторе Алеша – новосел, хотя и здешний рожак. Когда-то Батаковы здесь жили, а потом ушли в райцентр. Там и Алеша трудился на судоремонтном заводе. Женился, двоих сыновей народил, построил дом – все как положено.
А потом начались горькие перемены. Все закрылось. Невеликие заводики: авторемонтный, судоремонтный, металлопроволочный, «Сельхозтехника» и прочее. Бродят мужики по райцентру с утра до ночи, друг об друга бьются. Нет работы.
У Алеши сыновья-малолетки, жена, сам – четвертый… Вот и приехал на старые пепелища. Стали жить враскорячку: дом – в райцентре, там – школа, там учатся сыновья, и, конечно, мать при них, хозяин – на хуторе.
Брошенную развалюху-саманку подправил, на землю нынче, слава богу, запрета нет.
– Петрович, тут столь делов… – показывал он свое хозяйство при знакомстве и первых встречах. – Тут работать и работать…
Летом приезжают жена да сыновья. «Трудятся, как мураши… – говорят о них. – На речку не ходят».
«Речка» – это вроде хуторского бульвара ли, клуба для молодых. Городские внуки там кувыркаются на зеленой травке, загорают, в воде бултыхаются, крутят любовь. Алешиных ребят там не видно.
Да их и нигде не видно. Батаковская усадьба – в полхутора. Как не затеряться среди скотьих сараев, катухов, базов да навесов, а еще – молодой сад, огородная плантация.
– Петрович, тут делов…
«Делов» и в самом деле немало. Тот же погреб. Кажется, что в нем? Обычная крытая яма с «выходом». Летом там холодок. Для молока, для всякого варева хорошо. Не скиснет. Зимой хранится картошка да другой овощ. Сам когда-то копал в доме своем, в поселке. Крышу менял, когда подпревала. Сосед мой, хозяйственный дед Петро, погреб соорудил – всей улице на удивленье, ходили на экскурсию. Широкий спуск по ступеням, а внизу – простор: картофельный закром, полки для банок с вареньем-соленьем, место для бочек, высокий потолок, труба для вытяжки – словом, хоромы. Но что дед Петро…
Алешин погреб, когда я лишь заглянул в него, обомлев, – это что-то немыслимое: вроде станции метро. Глубоченный бункер в два этажа с перекрытием. Дикого камня кладка на растворе. Электрический свет.
– Петрович, – убеждал меня Алеша, – погреб для хуторского быта – первое дело. Это в городе холодильник, бросил кусок мяса – и все. А у нас… Молоко кислое, пресное, творог… А картошки сколь… А свеклы, моркови. Себе, скотине…
Мы опускались в глубины погреба, в глухие низы.
– Петрович, – внушал мне Алеша, – сам знаешь, рыбой заниматься без погреба – пустой номер. При нашей жаре погубишь или за так отдашь… Такие труды, ночьми не спишь, хоронишься, а проку… С погребом – уже моя воля. Цену не дают! Я засолю по-хорошему. Она в тузлуке все лето пролежит. Нужно, отмочил да повялил – и все в дело.
На воле полыхало жаркое лето. В подземной глубине было холодно. Поднявшись наверх, я с удовольствием подставлял озябшую спину солнышку, согреваясь. И вдруг иной холодок меня пронизал. Хозяин стоял возле: вовсе не богатырь, кожа да кости, жилистые плети рук, узкие плечи, втянутый живот, про таких говорят у нас: на балык ли, в дощеку высох. А рядом – это каменное подземелье, колодезная глубина его, в два этажа, просторные своды…
– Алеша, – спросил я, – ты как его сделал?
Это был пустой вопрос, потому что знал я: никаких экскаваторов, бульдозеров, никакой техники и никакой помощи, кроме сыновьей, а они – ребятишки… не было ничего.
Но ведь сделано. Я только что вылез оттуда, из холодного подземелья. Такую страсть лишь выкопать, столько земли выбросить, да еще с такой глубины ее тягать надо ведрами, да заготовить камень, привезти, опустить вниз, выложить стены, дважды перекрыть… Он стоит, светлыми глазами хлопает, вздыхает, повторяя свое:
– Петрович, сколь работы… Сколь работы, Петрович… А куда денешься… без погреба, сам понимаешь… Жизнь хуторская – это не город. Тем более рыбой заниматься…
Что тут скажешь… лишь повторишь, Алеше вослед: «Сколь работы…»
И только ли погреб? А скотьи сараи, базы, птичник, два артезианских колодца – во дворе и на плантации, цистерны для воды, железные трубы по всему огороду и саду.
– Петрович, – внушал он мне, – при нашей жаре день и ночь надо лить. Что капусту, что помидоры… А уж молодые садины, особенно яблоньки, груши… Дед Астах – люди и ныне помнят – ночи напролет, бывало, возит из речки и поливает. Батаков сад, ты слыхал, наверное, по-над речкой. И мельница там была, Батакова… За что и пропал. А без воды у нас ни в чем росту не будет, нечего и затевать.
В первую зиму он ставил забор. Из займища на санках – тогда у него и трактора не было – возит и возит жерди. На пиле под навесом «распускает» их вдоль, снимает кору. Только и видишь его: тянет сани, согнувшись. Только и слышишь: визжит пила, даже ночью, когда выходишь из дома. Зимняя ночная хмарь, снег по земле. Хутора во тьме не видать, лишь редкие огни. И голос пилы-циркулярки.
Встретишь его, в займище ли, на пути, он объясняет:
– Петрович, это же скотина… Тем более у чеченов, они вовсе не пасут. Трудись все лето на огороде, вырасти, а они зараз снесут, а свиньи если залезут… Дикие приходят… Забор надо настоящий, Петрович… Сколь работы. Но куда деваться…
Закурит – и потянул немалый, крепко увязанный воз. Добро, что зима была снежная. Дорогу накатал. Деревянные полозья идут легко.
Ставил он забор с сыновьями. И теперь, когда мимо иду, не удержусь: подойду и потрогаю. Ровные струганые плашки. У каждого гвоздя под шляпкой – еще и шайба. А сверху – краской закрыто. Тут никакая ржа не возьмет. Плашка за плашкой, пролет за пролетом… Тянется и тянется. Конца нет. Охват – километра два, не меньше. «Сколь работы, Петрович…»
Но это все – прошлое. Нынче Алешу, как на хуторе говорят, «рукой не достанешь». Коровы, быки, телята – табун немалый. Лошади есть, их татары берут. Свиноматки племенные. Поросята свои, это уже полдела. Десятка два, наверное, всегда на откорме. Конечно, птица: куры, гуси хорошие, белые. Огород, сад. Колесный трактор, хоть и старенький. Машина с прицепом, «уазик». Для наших дорог – лучше не надо. Алеша занимается рыбой. Цены теперь неплохие. Перекупщиков – море. Лишь свистни. Но рыба – дело нелегкое. Весна, на воде – холод; тем более потаясь, ночью. Сладкого мало. Но где оно, сладкое?
Иногда Алеша спросит меня:
– Петрович, ты все же повыше… Когда же наладится? Заводы стоят… Я заезжаю иногда, кое-какие железки нужны. Погляжу – аж страшно… Но ведь без этого не обойтись, без техники?