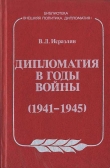Текст книги "Тайны русской дипломатии"
Автор книги: Борис Сопельняк
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«МЫ ИДЕМ СКВОЗЬ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ЛАЙ…»
Эту бессмертную строчку Владимир Маяковский посвятил не герою-кавалеристу, разведчику или летчику-испытателю, а дипкурьеру, хотя дипкурьер, по большому счету, не дипломат, а всего лишь «должностное лицо ведомства иностранных дел, доставляющее дипломатическую почту». Проще говоря, дипкурьер – это почтальон. Но работа посольств без этих почтальонов просто немыслима. А если учесть, что так называемые вализы, которые возят дипкурьеры, содержат как государственные, так и военные тайны, нетрудно представить, какой желанной добычей для спецслужб тех или иных государств являются и вализы, и сами дипкурьеры.
Правда, дипкурьеры интересуют этих грабителей лишь как помеха для овладения вализами, поэтому помеху стараются как можно быстрее устранить – и стреляют не для острастки, а с целью физического уничтожения. Первый такой выстрел прозвучал 5 февраля 1926 года в поезде Москва – Рига.
В купе их было двое – Теодор Нетге и Иоганн Махмасталь. Дипкурьер Нетге – на верхней полке, Махмасталь – на нижней. Полшестого утра. За окном кромешная темень. Вот-вот Рига. Проводник объявил, что проехали станцию Икскюль, следующая – столица Латвии. И вдруг шум, гам, крики, удары! Купе, в котором ехал представитель «Льноторга» Печерский, нараспашку. Какие-то люди в масках выволокли Печерского в коридор, а за ним и проводника, который пытался вступиться за пассажира.
– Курьеры! Где дипкурьеры? – орали бандиты, приставив пистолеты к голове проводника.
– Все ясно. Они перепутали купе и ворвались к Печерско-му, – доставая револьвер, крикнул Махмасталь. – Теодор, сейчас они будут здесь.
– Очень хорошо. Мы их встретим! Попробуй закрыть дверь.
– Не получается. Мешают мешки, – кряхтел Махмасталь. – Но я сейчас, погоди…
В этот миг к двери подскочил один из бандитов и завопил на весь вагон:
– Они здесь! Я их нашел!
Тут же подбежал второй. Отшвырнув проводника, с криком «Руки вверх!» он выстрелил в сидевшего на нижней полке Махмасталя. Пуля попала в живот, но он остался жив. В тот же миг лежавший на верхней полке Нетте всадил этому бандиту свою пулю. Падая, тот снова выстрелил в Махмасталя и ранил его в руку. Иоганн перехватил револьвер в левую и бабахнул во второго бандита. Попал! Но тот устоял на ногах и выстрелил в Нетте. Теодор замертво рухнул с полки, прикрыв своим телом Махмасталя.
Ослабевшие от ран бандиты попытались вытащить мешки с диппочтой, но на них лежали трупы, поднять которые налетчики не могли. Поняв, что остались ни с чем, они поплелись в купе проводника, где рассчитывали получить помощь от третьего соучастника нападения.
Между тем на выстрелы сбежались пассажиры из соседних вагонов. На счастье, среди них оказался сотрудник постпредства во Франции Зелинский, который из-под трупа Нетте вытащил обливавшегося кровью Махмасталя.
– Встань у нашего купе и никого к нему не подпускай, – придя в себя, попросил Махмасталь. – Если что, кричи: «Я буду стрелять».
В этот миг из купе проводника раздались два выстрела. Потом оттуда выскочил какой-то тип, бросился в тамбур и выпрыгнул из вагона. Когда заглянули в купе, там валялись два трупа с простреленными головами: такую своеобразную помощь оказал своим коллегам отсиживавшийся в купе бандит.
Тем временем поезд подошел к перрону. Диппочту встречал сотрудник нашего постпредства, которого, на беду, Махмасталь не знал в лицо и потому, размахивая револьвером, кричал:
– Кто ты такой? Я тебя не знаю… К почте не подходи. Убью!
Пришлось вызывать человека, которого Махмасталь знал в лицо. Сдав почту, он тут же потерял сознание… Не один час бились врачи за его жизнь, и героический дипкурьер был все же спасен.
Тем временем было проведено расследование, и оказалось, что нападавшими были братья Габриловичи – граждане Литвы, поляки по национальности. Латвийское правительство принесло официальные извинения – и на этом инцидент был исчерпан.
А Москва между тем бурлила. Похороны Нетте сопровождались невиданно массовыми демонстрациями протеста. И Теодор Нетте (посмертно), и Иоганн Махмасталь были награждены высшими на тот период боевыми орденами – орденами Красного Знамени. Но наибольшее удовлетворение у народа вызвало решение правительства назвать именем Нетте только что спущенный на воду пароход. Тогда-то и родилось широко известное стихотворение Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»:
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
Чтобы, умирая,
воплотиться
В пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
ЗАЛОЖНИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Как ни трудно в это поверить, но на слово «война» в посольстве Советского Союза в Германии было наложено своеобразное табу. Говорили о возможном конфликте, разладе, раздоре, но никак не о войне. И вдруг поступило указание: всем, у кого жены и дети были в Берлине, немедленно отправить их в Москву «Та-а-к, – зашептались по углам супруги дипломатов, – нехороший признак, можно сказать, первый звонок. Не сегодня завтра начнется война».
Были, конечно, и более продвинутые, в основном это супруги первых лиц, которые говорили, что немцы, мол, не дураки, им еще Бисмарк запретил воевать на два фронта. Но и они примолкли, когда прозвучал второй звонок: директор школы объявил, что из Москвы пришел приказ закончить учебный год не позднее начала мая и детей немедленно отправить в Союз. А когда в Берлин стали возвращаться отпускники, и все как один без жен – их было велено оставить дома, все стало яснее ясного: вот-вот грянет война.
– Какая война? – убеждали их мужья. – А как же заявление ТАСС? Ведь в нем же черным по белому написано, что Германия неуклонно соблюдает условия пакта о ненападении.
– Плевали они на ваше заявление! – пытались раскрыть им глаза жены. – Вы лучше скажите, почему Светку с Нинкой не пустили в Берлин. Мужья приехали, а они остались дома. А детей почему в спешном порядке отправляют в Союз? А нас, баб горемычных? Мы-то уедем, а вот вас возьмут в заложники, чтобы обменять на немцев, которые сидят в Москве.
Откуда им это стало известно, до сих пор является одной из величайших тайн того времени, но случилось именно так, как предрекали эти мудрые женщины.
Между тем в Москве, несмотря на тревожные сигналы из всех европейских резидентур внешней разведки, царила ничем не объяснимая обстановка благодушия. Вот как рассказывал об этих днях в своих воспоминаниях начальник внешней разведки Павел Фитин:
«16 июня 1941 года из нашей берлинской резидентуры пришло срочное сообщение о том, что Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР 22 июня 1941 года. Эти данные тотчас были доложены Сталину. Поздно ночью меня вызвал нарком госбезопасности Меркулов и сказал, что нас приглашает к себе Сталин. Поздоровался он с нами кивком головы, но сесть не предложил, да и сам все время разговора прохаживался по кабинету. Взяв в руки наш документ, он сказал:
– Прочитал ваше донесение… Выходит, Германия собирается напасть на Советский Союз? Что за человек сообщил эти сведения?
– Это очень надежный источник. Он немец, работает в министерстве воздушного флота и очень осведомлен. У нас нет оснований сомневаться в правдоподобности его информации, – ответил я.
После этих слов в кабинете повисла тяжелая тишина. Потом Сталин подошел к своему столу и, повернувшись к нам, жестко произнес:
– Дезинформация! Я в этом уверен. Можете быть свободны. Мы понимали, что может за этим последовать, поэтому тут же отправили шифровку в берлинскую резидентуру с просьбой немедленно проверить сообщение агента, а им был не кто иной, как один из руководителей “Красной капеллы” Харро Шульце-Бойзен, он же “Старшина”. Резидентуре на это понадобилось несколько дней. Ответ мы получили 22 июня, причем и из Берлина, и от пограничников, которые уже отражали первые удары фашистских войск».
В тот же день, в три часа утра, в берлинской резиденции посла Советского Союза раздался звонок из германского министерства иностранных дел: секретарь Риббентропа просил посла немедленно приехать в министерство. Владимир Деканозов, который занимал эту должность чуть более полугода, был хорошо известен не столько в дипломатических, сколько в чекистских кругах. За глаза его называли чрезвычайным и полномочным послом Лубянки. Этот человек с пятиклассным образованием был не только земляком, но и особо доверенным лицом Лаврентия Берии, не зря же он его тянул как по чекистской, так и по партийной линии. В 30-х годах Деканозов был и секретарем ЦК Компартии Грузии, и председателем Госплана Грузинской ССР, а позже, когда Берия перебрался в Москву, он перетащил в столицу и Деканозова, назначив его заместителем начальника Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Но вот как ему удалось сделать Деканозова заместителем наркома иностранных дел и одновременно послом в Германии, одному богу известно!
Забегая вперед, не могу не сказать, что Деканозов оставался верным своему шефу и покровителю до самого конца и даже разделил его участь: в июне 1953-го, почти что в один день с шефом, он был арестован, а в декабре расстрелян.
Но это будет не скоро… А пока что всесильный получекист-полудипломат спешил на встречу с Риббентропом. Вернулся он через час. На вопрос встревоженных сотрудников: «Что случилось?» – Деканозов бросил короткое и страшное слово, которое давно витало в воздухе и, наконец, было произнесено вслух: «Война».
Как это ни покажется странным, больше всех это сообщение потрясло руководителя легальной берлинской резидентуры Амаяка Кобулова. В нижнем белье и тапочках на босу ногу, он выскочил из квартиры, порывался куда-то бежать, но, потеряв тапочки, сел на крыльцо, обхватил голову руками и горестно запричитал: «Вэй, вэй! Ой, вэй! Что же теперь будет?»
А будет то же, что с Деканозовым и старшим братом Амаяка Богданом Кобуловым. Все они были ставленниками Берии, всех он перетащил из Грузии в Москву, все они были повязаны кровью. Богдан дослужится до должности первого заместителя министра внутренних дел СССР – и в декабре 1953-го будет расстрелян. Амаяк доберется до такого же поста, но только на Украине, затем, под крышей советника посольства СССР в Берлине, станет руководить легальной резидентурой внешней разведки, войну проведет в Ташкенте, затем будет проходить по бериевскому делу и – расстрелян.
Но тогда, в июне 1941-го, такой ход событий, конечно же, никому не мог и в голову прийти. Вспомнив, зачем они в Берлине, Деканозов и Кобулов бросились к телефонам, чтобы сообщить в Москву о начале войны. Но сколько они ни бились, сколько ни кричали в трубку, дозвониться до Москвы так и не смогли: все телефоны были отключены. А еще через пять минут посольство было окружено полицией и подразделениями СС.
– Что же делать, что же делать? – обессиленно хрипел посол. – Нам же за это молчание голову снимут! Ведь немецкие танки уже на нашей земле, их самолеты на подлете к советским городам, а в Кремле, наверное, думают, что это провокация, что пакт о ненападении свято соблюдается, и не решаются отдать приказ о вооруженном отражении агрессии.
– А что, если дать телеграмму? – предложил кто-то. – Простую телеграмму из ближайшего почтового отделения?
– Отличная идея! – вскочил посол. – Дежурный, марш в машину! Текст будет простой: «Москва. Наркоминдел. Молотову. Был у Риббентропа. Германия объявила нам войну». Подпись моя.
Но ничего путного из этого не получилось. Как только машина вырулила из ворот посольства, ее тут же задержали, а водителя и сотрудника посольства бросили в гестапо. После этого стало ясно, что с дипломатическим иммунитетом покончено и в любой момент может начаться штурм посольства. Тут же поступил приказ разводить костры и жечь архивы, шифры, всевозможные досье и другие важные документы
Если в здании посольства все действовали более или менее организованно, то никто не знал, что творится в многочисленных советских учреждениях, разбросанных по городу, – торгпредстве, отделении ТАСС, филиале Госбанка и что с работающими там людьми.
Как это ни печально, но худшие опасения вскоре подтвердились. Уже ранним утром эсэсовцы совершили налет на торгпредство. Переломав мебель, они стали ломиться в шифровальную комнату, где закрылся шифровальщик Николай Логачев. Пока выламывали дверь, Николай сумел сжечь и шифры, и важные документы. Разъяренные эсэсовцы избили его до полусмерти и бросили в тюрьму.
В тот день досталось всем – и представителям «Интуриста», и журналистам ТАСС, и сотрудникам филиала Госбанка: их били, морили голодом, шантажировали, склоняли к измене, но никто не дрогнул, никто не согласился обменять советский паспорт на германский. Тяжелее всех пришлось сотруднику военного атташата Аркадию Баранову. Его арестовали, бросили в тюрьму и предложили подписать заявление о предоставлении политического убежища в обмен на признание в том, что работники военного атташата СССР занимались шпионской и подрывной деятельностью. Баранов отказался! Тогда его начали пытать. Не помогло! Заковали в кандалы и бросили в концлагерь. Снова не помогло! Угрожали «снять перчатки», то есть содрать с рук кожу.
– Валяйте, – плюнул им в лицо Баранов. – Я и без кожи буду вас давить на каждом углу.
Тогда его бросили в карцер, надеясь, что упрямый большевик загнется от холода и крыс. Но Аркадий Баранов выжил! И не только выжил, но и добился того, что его вернули на Родину.
Тем временем в посольстве разворачивалась детективно-приключенская история, достойная пера Александра Дюма, Артура Конан Дойла и Агаты Кристи, вместе взятых. Дело в том, что работу глубоко законспирированной антифашистской группы «Красная капелла» курировал заместитель весьма недалекого Кобулова, талантливейший разведчик Александр Короткое.
Как ни трудно в это поверить, но на Лубянку 19-летний Саша Коротков попал, если так можно выразиться, с черного хода. Однажды у чекистов перегорели все лампочки разом, а так как Саша работал электромонтером, его прислали починить проводку. Оказалось, что работы там не на один день, и пока Саша возился с проводами и предохранителями, на спортивного, не лезущего за словом в карман парня положили глаз вербовщики ОГПУ. После соответствующей проверки ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться.
Само собой разумеется, для начала его отправили на учебу – и через несколько лет в Иностранном отделе ОГПУ появился сотрудник, который настолько хорошо владел немецким и французским, так блестяще входил в образ европейского бонвивана, что его тут же направили на нелегальную работу сперва во Францию, а потом в Германию. Был в его жизни и настолько мрачный эпизод, что он просто чудом остался жив. Трудно сказать, кто и что наплел на Александра, но взъелся на него сам всесильный Берия.
– Раз ты был за границей, значит, тебя там завербовали, – заявил он Короткову 1 января 1939 года и тут же из органов госбезопасности выгнал.
Это был период кошмарной чистки, это было время, когда не десятки и не сотни, а тысячи чекистов были расстреляны своими же коллегами. Попал под этот топор и Коротков. Но за него заступились товарищи, которые написали наркому письмо, в котором заявили, что ручаются за Короткова и полностью ему доверяют. Видимо, в тот день у Берии было хорошее настроение, и он свое решение отменил – так что топор на голову Александра не опустился.
Как показало время, таким образом Лубянка сохранила ценнейшего сотрудника, который сделал для блага страны много полезного, дорос до генерала и стал одним из руководителей внешней разведки. Все это будет позже, а тогда, в июне 1941-го, Коротков не находил себе места, ломая голову над тем, как вырваться из окруженного эсэсовцами посольства. Ведь с Корсиканцем и Старшиной встречался только он, и вот теперь, с началом войны, самые важные агенты останутся без связи. Значит, информацию им придется передавать по рации, а ее-то у них нет, она стоит в кабинете Короткова и ждет, когда он передаст ее Старшине.
Однажды вечером Коротков поделился своей проблемой с первым секретарем посольства Валентином Бережковым, впоследствии личным переводчиком Сталина. Зная немцев как облупленных, особенно их прижимистость и склонность к накопительству, Бережков предложил сыграть на этом. От этого плана Коротков пришел в восторг, и они начали действовать.
Дело в том, что как раз в эти дни начались переговоры по поводу обмена сотрудников советского и германского посольств. В связи с этим право выезда из здания посольства – но только по строго определенному маршруту и в сопровождении начальника охраны Хейнемана – имел Валентин Бережков. По дороге они болтали о разных пустяках, о новых фильмах, о сортах пива, о погоде. Но рано или поздно в их беседах возникала тема войны. И тогда Хейнеман начинал сокрушаться по поводу судьбы единственного сына, который оканчивал военное училище, а у него, офицера СС Хейнемана, такое скудное жалованье, что нет денег даже на то, чтобы, как это положено по немецким законам, приобрести сыну сапоги, мундир, шинель и другие предметы экипировки.
– А у нас это выдают бесплатно, – вскользь бросал Бережков. – Не говоря уже о валенках, шапке, теплом белье и даже овчинном полушубке.
– Это вам не поможет, – косясь на шофера и громче, чем это нужно, замечал Хейнеман. – До зимы вы не продержитесь.
– Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь! – ронял Бережков.
– Что-что?
– Не дели шкуру неубитого медведя! – добавлял Бережков.
– Какой медведь? Какой гоп? Я ничего не понял.
– Это русские поговорки. В переводе они звучат не столь ярко, но суть их в том, что, пока дело не сделано, не надо трубить о блистательной победе.
– Мудрые, очень мудрые поговорки, – после паузы вздыхал Хейнеман. – Завтра же расскажу о них врачу. Обязательно расскажу!
– Врачу? – вскидывался Бережков. – Вы больны?
– Я-то здоров. А вот жена… Доктор говорит, что кризис позади, что она вот-вот пойдет на поправку, а этого «вот-вот», или, как вы говорите, «гоп», нет и в помине. Правда, он намекал на какое-то дорогое лекарство, но мне оно не по карману.
– Знаете, что, Хейнеман, давайте-ка вечерком соберемся в моем кабинете. У русских такие разговоры насухую не ведутся, – выразительно щелкнул он по горлу. – Договорились?
– Натюрлих, – согласно кивнул Хейнеман.
Чтобы не подвести Хейнемана, Бережков накрыл стол не в своем кабинете, а в комнате, смежной с вестибюлем. Дело в том, что в соответствии с установленным немцами порядком солдаты несли наружную охрану, а в вестибюле посольства – их начальник Хейнеман. Но если вдруг кто-то из солдат по какой-то необходимости мог направиться в здание посольства, Хейнемана могли вовремя предупредить, и он встретил бы подчиненного на своем посту.
Первая вечеринка прошла успешно. Потом была вторая, третья… И вот однажды, когда Хейнеман снова заговорил о дорогом лекарстве, Бережков как бы вскользь заметил:
– А у меня проблема с точностью до наоборот. Как вы наверняка знаете, в Берлине я работаю довольно долго и скопил кое-какие деньги. Дело в том, что у меня была мечта – купить хорошую, большую радиолу, настоящий, знаете ли, «Телефункен», от одного вида которого мои московские друзья зашлись бы от зависти. Но теперь – какой «Телефункен»? Через неделю-другую нас отправят домой, и уже сейчас объявили, что не разрешат ничего вывозить, кроме одного чемодана с личными вещами. Так что мои сбережения пропадут… Я очень надеюсь, что вы поймете меня правильно: вместо того, чтобы выбрасывать деньги в клозет, я мог бы предложить их вам. У меня есть тысяча марок, – протянул он конверт с деньгами. – Считайте, что они ваши. Я буду рад, зная, что вы их потратите на такое благое дело, как здоровье вашей супруги. Колебался Хейнеман недолго…
– Спасибо, – сказал он, пряча конверт. – Я вам очень благодарен и… обязан. Если смогу быть вам чем-нибудь полезным, то можете на меня рассчитывать.
– Ну что вы, оберштурмфюрер, о какой благодарности речь?! Хотя… Лично мне ничего не нужно, а вот у одного моего друга довольно странная проблема. У него роман. С немецкой девушкой. Одному богу ведомо, когда они теперь увидятся. Он очень переживает, да и девушка, наверное, тоже. Не исключено, что она… ну, вы сами понимаете, что случается с девушками после интимных встреч. Короче говоря, он хотел бы с ней встретиться хотя бы на часок. Но как? – развел руками Бережков. – Кроме меня, из здания никого не выпускают.
– Как жаль, – вздохнул изрядно захмелевший Хейнеман. – Любовь – это святое. Любовь – это… это… Когда я познакомился с моей бедной Мартой, то ездил к ней на велосипеде. Тридцать километров в одну сторону. Три раза в неделю… Вашему другу надо помочь! Как? Пока что не знаю. Надо подумать. Дайте мне денек-другой…
Ровно через сутки Хейнеман изложил подробный план поездки в город Бережкова и его влюбленного друга.
Как вы понимаете, влюбленным другом был Александр Коротков. Выезд назначили на раннее утро, когда непроспавшиеся эсэсовцы были не очень внимательны. За руль неприметной «опель-олимпии» сел Бережков. Рядом – Хейнеман. Сзади – Коротков с небольшим, но очень модным чемоданом. По версии Бережкова, там были дамские вещи, предназначенные для девушки его влюбленного друга, а на самом деле новейший радиопередатчик, который во что бы то ни стало надо было передать Корсиканцу – таким был псевдоним руководителя подпольной антифашистской группы Сопротивления Арвида Харнака. Несколько позже Корсиканец, а также Старшина, он же Харро Шульце-Бойзен, возглавили широко известную «Красную капеллу», которая несколько лет передавала в Москву сверхважные сведения и была самой большой головной болью гитлеровской контрразведки. А курировал работу этой группы Александр Коротков, и встречался с Корсиканцем и Старшиной он, и только он.
И вот теперь, с началом войны, самые полезные и самые важные агенты остались без связи. Значит, информацию им придется передавать не через кого-то, а по рации, которой у них нет, но которую им должен передать Коротков. Именно ради этого была затеяна вся эта история с Хейнеманом и несуществующей немецкой девушкой.
Как бы то ни было, «опель» беспрепятственно выехал за ворота и остановился у ближайшей станции метро. Сменив несколько маршрутов и убедившись, что хвоста за ним нет, на одной из станций он встретился с членом подпольной группы Элизабет Шумахер. Вручив ей чемодан, Коротков торопливо заметил:
– Времени у нас мало, поэтому буду предельно краток. В чемодане – рация. Исходная цифра для шифровки – 19405. Запомнила? Очень хорошо. И еще. В этом конверте двадцать тысяч марок. Передай их Харнаку, скажи, что это для нужд организации. Скажи так же и то, что теперь, когда началась война, каждое слово, пришедшее в Москву из Берлина, будет на вес золота. При первой же возможности я лично постараюсь выйти на связь.
Не думал тогда Александр Коротков и не гадал, что эта встреча последняя, что век «Красной капеллы» будет недолог, а судьба ее членов трагической. Летом 1942-го гестапо выйдет на след подпольной организации, а осенью арестует более ста ее членов. Потом будет суд – и изуверские приговоры, которые утвердит Гитлер: тридцать одного мужчину отправят на виселицу, восемнадцать женщин казнят на гильотине, несколько человек расстреляют, а остальных бросят в концлагеря.
Но это будет позже, гораздо позже… А тогда, в июне 1941-го, довольный удачно проведенной операций, Александр Коротков, как и было условлено, вышел к универмагу и сел в поджидавший его «опель».
– Ну что, как прошла встреча? Как вела себя ваша Гретхен? – поинтересовался Хейнеман.
– Встреча прошла на высоком уровне, – отшутился Коротков. – А Гретхен, конечно же, расстроена… Когда-то мы теперь увидимся, – с неподдельной грустью вздохнул он.
– Ничего не поделаешь, война, – сочувственно огорчился Хейнеман.
– Вы не возражаете, если я приторможу около газетного киоска? – вмешался в разговор Бережков.
– Пожалуйста, – кивнул Хейнеман.
Вернувшись с пачкой газет, Бережков протянул их Короткову и попросил прочитать их хотя бы по диагонали.
– Если верить газетам, то наши дела плохи, – недовольно ворчал Коротков. – Они уверяют, что путь на Москву открыт… Ого, а вот это признание дорогого стоит! – неожиданно оживился он. – Послушайте-ка, что пишут в «Фолькишер беобахтер», причем на первой полосе: «Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке».
– Да-а, судя по всему, война с Россией обойдется нам недешево, – вздохнул Хейнеман. – Боюсь я за своего сына, ох боюсь…
Бережков и Коротков многозначительно переглянулись: они поняли, что Хейнемана нужно обихаживать и дальше – он им еще может пригодиться.
Вернувшись в посольство, они тут же начали планировать новую поездку, но выбраться на волю им больше не удалось: количество охранников было удвоено, и за ворота никого ни под каким видом больше не выпускали. А в ночь на 2 июля пришел приказ приготовиться к погрузке в железнодорожные эшелоны. На сборы – ровно час. Вскоре подошли крытые грузовики, в которые затолкали сотрудников посольства и членов их семей, причем работников торгпредства и других советских учреждений по какой-то, чисто немецкой логике, загоняли в отдельные грузовики, а впоследствии и в особые вагоны. Таким образом было составлено два эшелона, которые на рассвете двинулись в долгий, двухнедельный, путь.
Издевательства над людьми продолжались и по дороге – многочасовые переклички под палящим солнцем, сто граммов хлеба и похлебка из брюквы на целый день, ужасающая теснота, невозможность помыться и постоянные намеки на то, что немецкие дивизии войдут в Москву раньше, нежели туда прибудет посольский поезд. Но люди держались и, как могли, подбадривали друг друга. 18 июля составы прибыли на болгаро-турецкую границу. В районе города Свиленграда их встретили представители советского посольства в Турции и переправили на теплоход «Сванетия», где измученные и истерзанные дипломаты смогли наконец привести себя в порядок и, самое главное, получить советские паспорта. Потом их переправили в окрестности Карса, и только 2 августа они пересекли советско-турецкую границу. Второй эшелон мурыжили до 30 августа: видимо, немцы не теряли надежды, что кто-нибудь да сломается и попросит политического убежища у победоносной Германии. Не вышло, в Германии не остался ни один работник посольства, торгпредства или какого-либо иного советского учреждения.
В не менее сложном положении оказалась немногочисленная советская колония в Дании, которая еще в 1940-м была оккупирована германскими войсками. Там тоже были задержания, аресты, всякого рода издевательства, настойчивые предложения политического убежища и неприкрытые угрозы, пока наконец не было принято решение об обмене датских дипломатов на советских. Потом – мучительная поездка в товарняках: Свиленград, Стамбул и только через три недели Ленинакан.
Еще более нагло и вызывающе вели себя власти Румынии. Напомню, что фашистская диктатура во главе с генералом Антонеску там была установлена еще в августе 1940-го, а в ноябре Бухарест официально присоединился к оси Рим – Берлин. С этого момента начались постоянные провокации на советско-румынской границе, а за сотрудниками посольства установлена непрерывная слежка. А тут еще наш плохо обученный летчик перепутал Одессу с Констанцей и, потеряв ориентировку, приземлился на территории Румынии. Газеты подняли такой крик, что казалось, Румыния вот-вот пойдет на Москву, а летчика отправят на эшафот. С великим трудом летчика отбили, а конфликт кое-как замяли.
Не успел стихнуть этот скандал, как грянул новый. Сотрудников посольства Шутова и Еремина, которые сопровождали до болгарской границы нашего дипкурьера, ни с того ни с сего арестовал начальник сигуранцы небольшого городка Меджидия. И не просто арестовал, а сильно избил, требуя, чтобы они рассказали о содержании вализ диппочты. Тут уже шум подняли наши! Информация попала в газеты. И только после этого румынские власти принесли официальные извинения, а излишне ретивого чиновника отдали по суд.
Правда, агенты сигуранцы тут же нашли вариант неприкрыто иезуитской мести: они запретили появляться в посольстве врачам, учителям, шоферам, уборщицам, телефонистам, водопроводчикам и даже почтальонам. Вначале наши лишь посмеивались, но когда у посла Лаврентьева серьезно заболела жена, а потом и ребенок, и, как он ни бился, к нему не приехал ни один врач, все поняли, что дело обстоит более чем серьезно.
А 22 июня Лаврентьева срочно вызвали в МИД и сообщили, что «военные действия между Германией и Советским Союзом уже начались и что Румыния, как союзница Германии, выступила на стороне последней». А это значит, что сотрудники советской миссии должны немедленно покинуть здание и отправиться на пригородную станцию Китила, где их разместят в железнодорожных вагонах. Коварство было не только в том, что в вагонах стояла жуткая жара и на перрон никого не выпускали, но и в том, что время от времени станцию бомбили советские самолеты. Как только начинался налет, охрана разбегалась, а запертые в вагонах люди могли погибнуть под бомбами своих же летчиков.
От нестерпимой жары, недостатка воды и отвратительного питания многие, особенно женщины и дети, начали болеть. Лаврентьев попросил шведского посла сообщить о сложившейся ситуации румынским властям. В ответ – молчок. Тогда весь мужской состав посольства объявил голодовку! Как ни странно, это помогло, и через двое суток румыны прислали детского врача. А еще через сутки поезд наконец-то тронулся… Но на этом злоключения наших дипломатов не закончились: уже на болгарской территории их поезд чуть было не сорвался в пропасть, По дороге были и голод, и холод, и издевательства полицейских, но, сжав зубы, советские люди терпели. В Москве последние заложники Третьего рейха оказались 4 августа. В Наркомате иностранных дел наконец-то облегченно вздохнули: никто не погиб, не сбежал, не потерялся в пути. Война еще только начиналась, и каждый толковый специалист был на вес золота…
Но, даже прекрасно понимая, как важна во время войны работа внешнеполитического ведомства, многие дипломаты сменили авторучку на автомат. На передовую отправилось около 250 сотрудников МИДа, 67 из них пали на полях сражений.