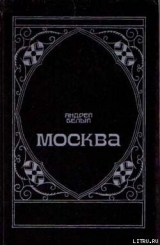
Текст книги "Московский чудак"
Автор книги: Борис Бугаев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
16
– Кушать подано!
Тут фон-Мандро приподнялся, несладко взглянул.
– Кушать, кушать идемте.
И фиксатуарные бакенбарды прошлись между ними
почти что сквозь них.
Проходили в столовую, где прожелтели дубовые стены; с накладкой фасета: везде – желобки, поперечно-продольные; великолепный буфет; стол, покрытый снеговою скатертью, ясно блистал хрусталем и стеклом; у прибора, у каждого – по три фужера: зеленый, златистый и розовый; ваза; и в ней – краснобокие фрукты; и – вина; и – сбоку на маленьком столике яснился: облесками холодильник серебряный.
– Суп с фрикадельками, – смачно сказал фон-Мандрр
Он засунул салфетку за ворот: умял; и взглянул на Лизашу – с заботливой и с неожиданной лаской:
– Не хочется кушать?
– Ах, нет.
– Вы б, Аленушка, хлоралгидрату приняли.
Лакею дал знак: и лакей, обернувши салфеткой бутылку, ее опустил: в холодильник.
– Да, да, молодой человек: фрикаделька… Что я говорю… познается по вкусу, – и пальцами снял он помаду губную, – а святость – по искусу
Пальцы помазались.
И завлажнил он глазами – такой долгозубый, такой долгорукий, к Лизаше приблизился клейкой губой. Перекинулся станом к мадам Вулеву:
– Как с летучей мышкой, мадам Вулеву?
– Наконец, догадалася я, Эдуард Эдуардович, – сунулась быстро она, – это Федька кухаркин поймал под Москвою: и – выпустил: в комнаты… Я же давно замечала: попахивает!
– Попахивает?
И с особенным пошибом молодо голову встряхивал он, заправляя салфетку.
– Что же вы, молодой человек, – не хотите тетерьки; вкусите ее… Мы вкушали от всяких плодов, когда были мы молоды.
И обернулся к тетерьке.
Лизаша ударила кончиком белой салфетки его.
– Вот же вам!
Он – подставился.
С явным вкушал наслажденьем тетерьку: тянулся к серебряному холодильнику он: за бутылкой вина; и Митюше фужер наливал – до краев: золотистой струею.
Тянулся с фужером: обдал согревательным взглядом: но взгляд – ледянил; и вставало, что этот – возьмет: соком выжмет:
– Так чокнемся!
Он развивал откровенность.
Так было не раз уже: будто меж ними условлено что-то: а если и нет, то – условится; это – зависит от Мити; Лизаша – ручательство; впрочем, – условий не надо: понятно и так.
Они чмокнулись.
В жестах отметилось все же – насилие: стиск, слом и сдвиг.
В то же время кровавые губы улыбочкою выражали Лизаше покорность: казалось, – глазами они говорили друг другу:
– Теперь – драма кончена.
– Что это?
– Как, – мне еще?
– Ну же, – чокнемся!
– Я, Эдуард Эдуардович, – я: голова моя слабая!
– Не опьянеете!
Видел, пьянея, – в движеньях Лизаши – какое-то: что-то; во всей атмосфере стояло – какое-то: что-то… душерастлительное и преступное.
Дом с атмосферой!
Лизаша сидела с невинным лицом:
– Митя, – вы что-то выпили много: не пейте!
– Оставь, – снисходительным жестом руки останавливал Эдуард Эдуардович.
Митя бессмыслил всем видом своим
– Так ваш батюшка – что?
– Говорите: бумаги свои держит дома?
– Так письменный стол, говорите?
– Что?
– Все вычисляет?
– Когда его можно застать?
– Поправляется?
– Эдакий случай несчастный!
Хладел изощренной рукою (с поджогом рубина), которою он протянулся за грушей.
«Лизаша, Лизаша», – кипело в сознании Мити. И видел: мадам Вулеву и Лизаша – исчезли.
– Лизаша!
Мандро развивал откровенность – так было не раз уже: будто меж ними условлено что-то: а если и нет, то – условится; это – зависит от Мити; Лизаша – ручательство; впрочем – условий не надо. Понятно и так.
17
Голова закружилась: и чувствовал – вкрап в подсознанье. Вина? Или – взгляда Мандро? Он – не помнил: в ушах громко ухало; помнил – одно, что условий не надо: понятно и так; очутился в гостиной; наверно, в сознании был перерыв, от которого он вдруг очнулся: пред зеркалом.
Кто это?
Красный, клокастый, с руками висляями, – кто-то качнулся у кресел, кругливших свои золоченые львиные лапочки; Митя склонился на кресло: пылало лицо; и в мозгах копошилось какое-то все толокно, из которого прорастало желанье: Лизашу увидеть, сказать про свое окаянство; за этим пришел.
Точно сон, появилась Лизаша.
Она, как водою, его заливала глазами: стояла в коричневом платьице, с черным передником – на изумрудном экране, разрезывая златокрылую птицу.
– Вы, Митенька, пьяны.
– Нет, знаете, – дело не в этом, а в том, что мне очень, – вы знаете.
Тут он качнулся, схватившись за кресло.
– Ну да: говорили вы это уже.
– Нет, Лизаша, – послушайте; я – ничего не сказал: я пришел говорить; и вы знаете сами, что я ничего не сказал.
– Что такое?
– Подделал, Лизаша!
Она посмотрела вполне изумленно:
– Подделали! Вы? Что такое подделали?
Руку взяла и погладила:
– Подпись отца я подделал…
– Да нет!
И Лизаша погладила щеку, рукою холодной, как лед, поднимая в пространство какие-то неморожденные взоры:
– Несчастненький.
Он за нее ухватился: она – отстранялась.
– Нет, – тише… Вы, бог знает… Пьяны…
Лицом подурнела: и – дернулась, видя, что Митя идет на нее: отступала к портьере.
– Нельзя!…
Он схватился рукою: рвалась; не пускал.
– Ах, жалкий вы жалкехонек, Митенька.
И унырнула за складки портьеры, оставивши ручку свою в его цепких ладонях; он к ручке припал головой, покрывая ее поцелуями; ручка рвалась – за портьеру:
– Пустите же, – раздавался обиженный голосок, как звоночек, за складкой портьеры.
И тут же на голос пошел быстрый шаг.
Ручка выдернулася.
Между складок портьеры наткнулся на… крепкий кулак, его больно отбросивший; тут, растопыривши пальцы, скользнул: и – откинулся: складки портьеры разрезались; ясно блеснули – манжетка, рубин и линейка: линейка рас-свистнула воздух, врезаяся гранью в два пальца.
И пальцы – куснуло расшлепнутым звуком: они – окровавились.
Точно раздельные злые хлопочки, отчетливо так раздалось за портьерой:
– Ха-ха!
Перекошенною гримасой оттуда просунулася седорогая голова и две иссиня-черные бакенбарды.
Тут Митенька бросился в бегство: за звуком шагов раздавалась пришлепка.
С разбегу наткнулся на лысого господинчика он.
Господин Безицов разлетелся к порогу гостиной.
Там встретил его фон-Мандро, оборудовав рот белой блеснью зубов и втыкаясь глазами бобрового цвета; сжал руку, затянутый позою, найденной в зеркале.
Ацетиленовый свет, ртутно-синий; и там розовенье: реклама играла: фонарные светы казались зелеными: окна вторых этажей утухали; а выше, в багровую тьму уходя, ослабели карнизов едва постижимые линии; шлепало снегом холодным в ресницы: бессмыслилось, рожилось, перебегало дорогу, отбитые пальцы горели; душа изошла красноедами; щеки пылали; и ухали пульсы.
Бежал, заметаемый снегом, сметаемый вихрем: все пырскало – крыши, заборы, углы: порошицей, блистающей ясенью крылья снегов зализали круги фонарей; и все – взревывало; пробегали, шли – по двое, по трое: шли – в одиночку; шли слева и справа – туда, где разъяла себя расслепительность; шли перекутанные мехами мужчины; шла барышня в беличьей кофточке; дама, поднявшая юбку, с «дессу» бледно-кремовым, – выбежала из блеска; за нею с серебряным кантом военный, в шинели ив – розово-рдяных рейтузах.
Там шуба из куньего, пышного и черно-белого меха садилась в авто – точно в злого, рычащего мопса, метнувшего носом прожектор, в котором на миг зароилась веселость окаченных светом, оскаленных лиц, – с золотыми зубами.
Бежал мужичок.
– Эка студь!
И морозец гулял по носам лилодером.
***
Лизаша была у себя: ей представился Митя; его стало жалко: того, что случилось в гостиной, она не видела: видела мадам Булеву.
От мадам Булеву же ничто не могло укрываться.
19
Форсисто стоял Битербарм; ферлакурничал [37]37
от ферлакур – ухажер, донжуан.
[Закрыть] перед мадам Эвихкайтен: форсисто вилял и локтями, и задом:
– «Энтведер» – не «одер»!
Мадам Эвихкайтен плескалася платьем в тени тонконогой козеточки, приподымавшей зеленое ложе, как юбочку нежная барышня; в книксене:
– Великолепно: «энтведер» не «одер»!
Энтведер, затянутый в новенький, сине-зеленый мундир (с белым кантом), – вмешался:
– На этот раз вы, Битербарм, оплошали: ведь предки мои проживали на Одере.
Вот так судьба!
Битербарм – поле прыщиков; зубы и десны; и – что еще? Род же занятия – спорт: но не теннис, – футбол: про себя говорил он: «Я – истый гипполог».
– Послушайте, – вдруг обратился он к Зайну, – скандал с Кувердяевым? Правда, что в классе ему закатили пощечину?
Зайн, тонконогий воспитанник частной гимназии Креймана, очень витлявенький щеголь, с перетонченным лицом, отозвался:
– Ну да, – что-то вышло!
– Как что? – удивился Энтведер. – Вполне оплеуха.
– В чем дело?
– История грязная!
Зайн отошел; уже с Вассочкой Пузиковой разводил фигли-мигли; ведь все говорили, что он – содержанец.
А бог его ведает!
– Что, мадемуазель Бобинетт?
Почему-то здесь, в доме Мандро, называли все Вассочку – так. Приходили все новые гости.
Лизаша в атласно-сиреневом платье, отделанном кружевом, с грудкой открытою, вся голорукая, дергала голеньким плечиком; мило шутила с гостями: ее развлекал разговором Аркадий Иванович Грай-Переперзенко, сын коммерсанта, художник, писавший этюд «Золотистую осень разлук», член кружка «Дмагага» (почему «Дмагага»?); член кружка «Берендеев», искусный весьма исполнитель романса Вертинского, друг Балтрушайтиса, «Сандро» (опять-таки «Сандро» при чем?); он себя называл Боттичелли Иванычем: ну – и его называли они Боттичелли Иванычем; был он пробритый, дородный: в очках; носил длинные волосы; шелковый шарфик, повязанный пышно, носил.
Окружили мадам Эвихкайтен; над ними из выщербленной потолочной гирлянды, сбежавшейся кругом, спускался зеленый китайский фонарик; мадам Эвихкайтен, склоняясь на козеточку, скромно оправила пену из кружева; всхлипывал веер мадам Эвихкайтен; и к ней Безицов ревновал.
Эдуард Эдуардович, очень стараясь гостей улюбезить, брал под руку то Безицова, то Мердицевича, – вел в уголочек, к накрытому столику с ясным ликером, сластями, вареньями; и пригласительным жестом руки им указывал:
– Это и есть «достархан», угощенье персидское.
Глупо шутил Мердицевич:
– Меня называет жена тараканом; и я называю себя тараканом; и – все это знают, и – так и называют.
Он был жуковатым мужчиной: был крупный делец: про него говорили:
– Фигляр форсированный!
Тут же, оставив его, Эдуард Эдуардович быстро прошелся в гостиную, где расстоянились трио, дуэты, квартеты людей среди трио, дуэтов, квартетов, искусно составленных и переставленных кресел, и бросил свой блещущий, свой фосфорический, детоубийственный взгляд через голову Зайа: от этого взгляда Лизашино сердце забилось.
Лизаша, смеясь неестественно, странно мерцала глазами, вдруг стала живулькою: дернувши узкими и оголенными плечиками, подбежала она к Битербарму: ему принялась объяснять она:
– Ах, эти звуки ведь вам, как гиппологу, трудно постигнуть…
Лизаша махалась развернутым веером. Фиксатуарные бакенбарды прошлись между ними, – почти что сквозь них; улыбнулись Лизаше ласкательным взглядом:
– Вам весело?
Вздрогнула, будто хотела сказать:
– Я боюсь вас.
Ответило личико – заревом глаз.
На мгновенье глаза их слились: отвернулась Лизаша: стояла с открывшимся ротиком (омут открылся, в котором тонула она). Эдуард Эдуардович, в зале увидев мадам Миндалянскую, быстро пошел ней навстречу; тут плечи Лизаши задергались; быстро бледнела она: Боттичелли Иваныч с тревогою к ней обратился:
– Вам дурно?
– Нет. Впрочем, – нет воздуха.
– Вы побледнели: дрожите.
Лизаша смеялась: все громче, все громче смеялась; все громче, пока из растерянных глазок не брызнули слезки: она – убежала.
Мадам Миндалянская в белом, сияющем платье неслась по паркетам и пенилась кружевом; профиль – божественность! Там Мердицевич, обмазанный салом, – рассказывал сало; перед кем-то форсисто вилял и локтями, и задом своим Битербарм.
И сплетали в гирлянды свои известковые руки двенадцать прищуренных старцев: над ними.
***
Одна, сев на корточки и сотрясаясь голеньким плечиком – там, в уголочке, Лизаша смеялась и плакала, не понимая, что с нею.
19
Под зеркалом стал Эдуард Эдуардович в ценном халате из шкур леопардов, в червленой мурмолке (по алому полю струя золотая), – с гаванской сигарой в руке.
Он другою рукою мастичил свою бакенбарду.
Сигару оставил: лениво поднял обе руки, отчего распахнулся халат: очертание тела вполне обозначилось в зеркале; он без одежд показался таким черно-белым; свои рукава засучил; на руках – мох: чернешенек; был он покрыт волосами: чернистее прочих мужчин: про него говорила, бывало, жена:
– Посмотришь на вас так, как вас вижу я… Волосаты же вы, как животное.
Слухи ходили: жену он бивал.
Вот рукою с сигарою сделал движение, чтобы очертание тела из зеркала лучше разглядывать: и многостворчатый шкафчик под руку подставился; он создавал меблировку для всех своих жестов: откинется, – в фонах лиловых обой (была спальня – лиловой) отчетливей вспыхнет халат – леопардовой шкурою.
Меблировал свои жесты.
Себе самому улыбнулся и пленочку снял двумя пальцами с клейкой губы.
И склонился в постель.
Но не спал; и не час, и не два он вертелся: возился в постели; откинувши стеганое одеяло (лилового цвета), он сел на постели, разглядывал белые и черномохие ноги свои, освещенные светом седой живортутной луны; свои туфли нащупал; облекся в халат леопардовый; вышел в пустой коридор, – в живортутные лунные светы.
***
В упругой и мягкой постели сидела Лизаша; в колени склонила головку с распущенной черной косою; ей стих затвердился: все тот же: твердилось и ночью, и днем:
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Порой раздавалися шорохи (мыши ль, скребунчики, кошка ли?): было ей жутко – чуть-чуть: по ночам не могла она спать: засыпала под утро: с собой брала кошку, сибирскую, пышную: кошка курнявкала ей; иногда же курнявкало, так себе, в воздухе; множество раз, поднимаясь с постели, босыми ножонками перебегала по коврику, к двери она, чтобы выпустить кошечку.
Кошечки – не было.
Раз показалось, что кто-то закрякал у двери; открыв ее, высунулась за порог да как вскрикнет: стоял перед дверью, представьте же, – «богушка», тяжко дыша и себе самому улыбаяся в темень тяжелой улыбкою.
Растерялась, – да так, что осталась стоять перед ним в рубашонке, с открывшимся ртом: растерялся и он; и досадливо бросил, на двери соседние озираяся (там обитала мадам Вулеву):
– Да потише же!
Двери в соседнюю комнату, где обитала мадам Вулеву, – отворились; просунулася со свечкой в руке голова в папильотках, с подпудренным белым лицом, точно клоунским.
– Кто это, – взвизгнула громко мадам Вулеву, – не узнала я: вы?
– Мне не спится, вот я и брожу…
– Не одета я, – вскрикнула громко мадам Вулеву.
Дверь в соседнюю комнату быстро закрылась: и тут лишь Лизаша заметила, что не одета: под взором отца, пронизавшим насквозь: и – захлопнулась: и из-за двери сказала:
– Вы, богушка, право, какой-то такой: черногор-черноватик! Меня напугали.
Об этом и думала: тут – постучали:
– Кто?
Дверь отворилась: стояла фигура в седом, живортутном луче: электричество вспыхнуло: «богушка» в ценном халате из шкур леопардов, с распахнутой грудью в червленой мурмолке вошел неуверенно:
– Можно?
Присел у постели, немного взволнованный, одновременно и хмурый, и робкий, стараяся позой владеть: сохранить интервал меж собой и Лизашею; видимо, к ней он пришел: объясниться; быть может, пришел успокоить ее и себя; или, может быть, – мучить: ее и себя; даже вовсе не знал, для чего он явился; дрожали чуть-чуть его губы; на грудку свою подтянув одеяло, сидела Лизаша; она удивлялась; головку сложила в колени: и мягкие волосы ей осыпали дрожавшее плечико; робко ждала, что ей скажут; и голую ручку тянула: схватить папироску – со столика; вдруг показалось ей – страшно, что – так он молчит; потянулась к нему папиросочкой:
– Дайте-ка мне – прикурить. Протянул ей сигару:
– Курни.
И пахнуло угаром из глаз; но глаза он взнуздал:
– Я пришел объясниться: сказать.
И, подумав, прибавил:
– Дочурка моя, у нас этой неделей не ладилось что-то с тобой.
Поднесла папироску: закрыв с наслаждением глазки, пустила кудрявый дымочек.
– Быть может, с тобой неласков я был: но сознание наше – сложнейшая лаборатория; всякое в нем копошилось.
И в ней копошилось: слова копошились:
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Ему протянула ручонки: их взял, облизнулся; и стал – вы представьте – ладонку ее о ладонку похлопывать:
– Ладушки, ладушки! Где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Бражку.
Но что-то фальшивое было в игре сорокапятилетнего мужа, к игре не способного, с взрослою дочерью; он это понял, откинулся, бросил ладони; сморщинились брови углами не вниз, а наверх, содвигаясь над носом в мимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх; между ними слились три морщины, как некий трезубец, подъятый и режущий лоб.
Точно пением «Miserere» звучал этот лоб. Ей подумалось: «Странно: зачем объясняться теперь, поздней ночью, когда можно было бы завтра?» И стало неловко: чуть скрипнула дверь – от мадам Вулеву: и сказала она с передергом:
– Меня лихорадит.
Увидев, что он захмурел, улыбнулася, и с материнскою нежностью лоб его тихо погладила ласковой ручкою.
– Лобушка мой!
– Ах, сестрица Аленушка.
– Можно, – поймала глазами глаза его, ставшие черными яшмами, – можно сестрице Аленушке?…
– Что? – испугался он.
– Вас… назвать… братцем?
– Иванушкой?
– Да!
Неожиданно сжав на груди волосатой головку, спалил ее лобик дыханием, как кислотой купоросной.
– Нет, лучше не надо.
Отбросился: алый, как лал, – удалился.
Представьте же: желчь у него разлилась в эту ночь; утром встал – черно-желтый: с лимонно-зеленым лицом.
20
Продувал ветерец.
Отовсюду к Пречистенке двигались мальчики, – к желтому дому о трех этажах; надоконные морды его украшали; над ними – балкон; отступя от него у стены, между окон круглели колонны: под строгим фронтоном: железная черная вывеска золотом букв прояснялась: «Гимназия Льва Веденяпина». Полный швейцар, при часах, в черном, с медными пуговицами топтался у двери: в передней.
Сюда приходили.
И здесь раздевались, отсюда уже поднимаясь по каменной лестнице, скрытой зеленой дорожкой ковра, – к балюстраде, где десять блистающих, белых колонн изукрасили лепкой себя над квадратом перил, открывавшим провал: вниз, в переднюю: вкруг балюстрады – тишело; хрустальною ручкою дверь открывала квартиру директора; сам Веденяпин за этой белою дверью таился; отсюда – выскакивал он; и сюда – пролетал; здесь устраивал головоломы.
– Э… э… а… а… о…
То – визжало; то – плакало; то – заливалось: слоновьими ревами.
Дверь же вторая, перед лестницею, уводила в двухсветный колончатый зал с тяжелеющим образом (посередине, под резаным, темным киотом мигала лампадка малиновым светом отсюда): ступенился ряд гимназических лестниц; и – бары стояли; «вава-вавава» – ватаганили мальчики, отроки, юноши в черненьких курточках, с черными поясами и в черненьких панталонах навыпуск; слонялись и шаркали взад и вперед: в одиночку иль парами, тройками, даже четверками, переплетаясь руками; стоял топотень: громко двестиголовое горло вавакало; – «ва», наливаяся силой, став «в в ооо», заострялось порою до «ввууу».
– У-у-у…
Седо-бурый старик надзиратель с морщинистой шеей, бродивший среди гаков и шерков, пускал:
– Тсс… Смотри у меня!
Заводился ехиднейший тип: подвывателя; он вызывал неприятный феномен: всеобщего взвоя.
Средь гокавших, праздно басящих, бродящих, толпящихся тыкался Митя Коробкин, волнуясь и дергая свой перевязанный палец: явился в гимназию он: отстрадать; ожидала расплата за то, что подделывал подпись; расплата – ужасная; жизнь от сегодня сломается: надвое; он – гимназист: до сегодня; и завтра он – кто?
Двороброд.
Его сердце кидалось строптивством и страхом; за что он страдал? Лишь за то, что терпение лопнуло, что перестал выносить приставанья товарищей он:
– Эй, Коробкин, Коробкин! Скажи-ка, Коробкин! – Толстого читал?
– Не читал.
– Просто чорт знает что, а еще – сын профессора. Вот отчего он подделывал подпись!
Раз кто-то сказал:
– Этот, знаете ли, прогрессирует: параличом рассуждающих центров.
Читать: что прикажете?
Дома – нет книг по словесности: по философии, по математике – сколько угодно… Толстого нет, Пушкина: ну-ка, – попробуй-ка…
– Литературное чтение, Митенька, знаешь ли, – да-с: в корне взять, – от наук отвлекает: еще начитаешься…
Знал, что предложена будет «История физики» или «История» там… индуктивных наук.
– Вот Уэвеля томик прочти: преполезно!
– Да мне бы Толстого.
– Толстой, знаешь ли, говоря рационально, – болтун… Так сбежал на Сенную: в читальню Островского; вовсе
забросил уроки; носил сочиненные им же записочки для объяснения исчезновений из классов: подделывал подпись отца; эта ложь длилась год; раза два надзиратель весьма подозрительно подпись ощупал глазами: раз пристально он посмотрел, покачал головой: но – смолчал, недоверчиво сунул записку в карман; Митя вспыхнул; с неделю назад подозвал надзиратель Коробкина: мрачно заметил:
– А вы бы уж лучше признались во всем: про записочки,
Митя божился: и – нет: не поверил.
– Пойду, покажу-ка: как выскажется Лев наш Петрович.
А Митя исчез – с перепугу: в гимназии не был неделю; он знал – буря ждет; будет изгнан с позором: да, да, – Лев Петрович внушал ему ужас: сутулый, высокий, худой, с серой, жесткой зачесанной гривой, с подстриженною бородою, в очках золотых, в синей куртке кургузой, директор казался Атиллой; под серой щетиной колечком слагал свои губы, способные вдруг до ушей разорваться слоновьими ревами, черный язык показать; быстро дергались уши; бывало, он несся по залу, желтея янтарным своим мундштуком, развевая за спину дымочки: пред ним расступались и кланялись: щеки худые всосались под скулами; очень красивый и правильно загнутый нос подпирал два очка, над которыми прыгали глазки в щетинища бровные; и костенел препокатый и в гриву влетающий лоб; очень длинные руки (длиннее, чем следует) явно являли вид помеси: льва, лошадиного (или ослиного) остова с… малым тушканчиком.
Все-то казалося, что Веденяпин прыжком через головы впрыгнет из двери в наполненный зал («цап-царап» – кто-то пойман, как мышка: отсиживать будет за шалость свою лишний час); Веденяпин умел замирать и казаться недвижимым трупом; но труп закипал ураганом движений и языком, являющим гамму от рева до… детского плача; да: вихри и бури! Потом – мертвый штиль; средних ветров не знал:, и лицо было странною помесью: явной мартышки, осла и… Зевеса (бог-зверь).
Внушал ужас.
Внушал поклонение.
В частной гимназии был установлен единственный культ: Веденяпина; перед уроком его в младших классах крестили свои животы.






