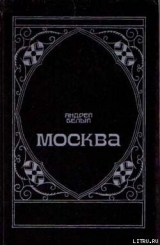
Текст книги "Московский чудак"
Автор книги: Борис Бугаев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
6
Хозяйка сдаваемой комнаты ухо свое приложила к две-рям и – услышала: – Да…
– У Кареева сказано ведь – уф-уф-уф, – и диван затрещал, – что идеи прогресса сияют звездой путеводной, как я выражаюсь, векам и народам…
– Вы это же выразили в «Идеалах гуманности», – вяло сказал женский голос.
– Но я утверждаю…
– Скажу а про по, – перебил женский голос, – когда Милюков [65]65
Милюков Павел Николаевич (1859 – 1943) -историк, глава буржуазной партии кадетов.
[Закрыть] вам писал из Болгарии…
– То я ответил, как Павел Владимирович, указав на заметку Чупрова [66]66
Чупров Александр Иванович (1842 – 1908) – русский буржуазный экономист, статистик и публицист.
[Закрыть]…
– Которую Гольцев завез…
– К Стороженкам…
– И я говорю то же самое, – что; когда вам написал Мил юков…
Тут закракал корсет.
Тут хозяйка сдаваемой комнаты глаз приложила к прощелку замочному и – увидела: ай-ай-ай-ай!
Ай!
Дама лет сорока пяти, или пятидесяти, с заплеснелым лицом, но с подкрасом губы свою грудь заголила, сидела с невкусицей этой перед зеркалом; вовсе без платья, в корсетике с серо-голубенькою оторочкой, в юбчонке короткой и шелковой, цвета «фейль-морт»; платье цвета тайфуна с волной было сброшено на канапе серо-красное, с прожелтью; на канапе же Никита Васильевич – только представьте!
Никита Васильевич сел, раскорячившись, – без сюртука, верхних брюк, без ботинок; и стаскивал с кряхтом кальсонину белую с очень невкусного цвета ноги перед дамой, деляся с ней фразой, написанной только что дома:
– Приходится – уф – chère amie, претерпеть все тяготы обставшей нас прозы…
Стащил – и стал перед ней: голоногий.
Почтенная дама, сконфузившись, пересекала рыжеющий коврик, спеша за постельную ширмочку, – в юбочке, из-под которой торчали две палочки (ножки без ляжек) в сквозных темно-синих чулках; из-за ширмочки встал драматический голос ее, перебивши некстати весьма излиянья прискорбного старца:
– Здесь запах…
– Какой?
– Не скажу, чтобы благоуханный.
Пошлепав губами, отрезал: броском:
– Пахнет штями.
– Весьма…
И действительно: промозглой капустой несло. Шлепал пятками к ширмочке; вздохи теперь раздавались оттуда и – брыки:
– Миляшенька…
– Сильфочка…
– Ах, да ах, – нет…
Наступило молчание: скрипнула громко пружина.
***
В проходе двора на бульвар прижималась к воротам дородная дама в пушащейся шапке, подвязанной черным платком, опираясь рукою о трость; и глядели на лепень сне-жиночек два черно-синих очка безо всякого смысла.
Что было под ними?
***
Никита Васильевич был рыцарь чести; и тайны своей он не выдал: молчал четверть века; и мы соблюдем ее: имя и отчество дамы – секрет; а тем паче фамилия; словом – прекрасная, честная, светлая личность!
Она появилась опять, расправляя морщулю лица:
– Скажу я, – надоело мне…
Вышел, пропузясь, почтеннейший старчище:
– В автократическом – уф – государстве жить трудно…
– Да – нет: я о муже…
– Среда вас заела…
– Отсутствие ярких, общественных импульсов… И приласкалась, схватясь за мизинец:
– Уедемте…
И – помочилась: глазами.
Он – руку отдернул с испугом, подумав, что палец ему лобызнет: помычал, побурчал животом; и покрыл этот урч завиваемой фразой:
– Увы, – как сказал я сегодня, – поднимем же головы выше и с гордо воздетым челом понесем…
Перебила:
– Подайте бандо.
– Понесем, говорю…
– Пудры…
– Скорбь…
Перебила:
– Бежимте!…
Но – вылупил око:
– Жена – не башмак ведь: наденешь – не скинешь… Вскочил.
И кальсоны свои натянуть торопился, как будто его не видала она без кальсон; с кряхтом ногу просунул в сюртучную брюку; она ж, достав зеркальце из полосатого сака, припудрилась; слышалось снова:
– Кареев!…
– Чупров!…
– Милюков…
Гарцевали парадом своих убеждений; вставали свалянные годы, – почти что годов размазня; размазней его мысли питалась она, лишь читая труды Задопятова; третий, второй и четвертый.
Том первый пропал.
– Ну – пора…
– Вы куда же?
– На вечер «Свободной Эстетики».
***
Толстая дама взлив крови к виску ощутила, когда со двора, чуть ее не задев, Задопятов прошел; и за ним сорокапятилетняя дама.
Ах, вот она, – «Сильфочка»!
Юбка отцвечивала желто-рыжим тайфуном с волной; под густою вуалью, усеянной смурыми мушками, виделись все же: черничного цвета глаза и подкрашенный ротик брусничного цвета; ей в спину – ведь ужас – глядели: очки, – не глаза.
Два громадных, почти черно-синих очка стеклянело без всякого там выражения.
7
Вечер «Свободной Эстетики»! Кто-то заметил:
– Пришел Задопятов.
– Где, где?
Задопятов, исполненный взорами, так белоглаво рыхлея и морща свой лобик, прекнижисто выглядел: видность показывая еле заметным взмаханьем пенсне; на усах оставалася взмока от сырости; перетянувшись и выдавившись толстением зада, тащился, ведомый Рачинским, к огромному креслу почетному, чтоб протянуть свою руку Гедвиге Сергевне Зеланкиной, корреспондентке «Журналь Паризьен».
– Укушу вас за локоть, – призвизгнула громко девица-кривляка поэту-кривляке, прибавив, что ищет она великана, которого нет, но который блуждает меж облак в «Симфонии» Белого.
И Задопятов подумал:
– Куда я попал?
Но заметивши, что Доброносов, казанский профессор словесности, – здесь, успокоился быстро.
Никита Васильевич очень готовился сделать в «Эстетике» некий докладик о драмочке «Смерть Тента-жиля» (ведь вот на какие теперь переходил темы); должен с «Эстетикой», что ни поделайте, был он поддерживать связь: не то «Русская Мысль» станет явно теснить его, – «Русская Мысль», где царил он при Гольцеве.
Ах, – этот Брюсов, и, ах, – этот Струве [67]67
Струве Петр Бернгардович (1870 – 1944) – русский буржуазный экономист, публицист и философ, представитель так называемого «легального марксизма».
[Закрыть]!
Взнесенье пенсне на обиженный нос показало, что силится он отбарахтаться мыслью от этих назойливых ассоциаций о Брюсове; Брюсова крепко продергивал он в «Русской Мысли»; но Брюсов теперь редактировал «Русскую Мысль».
И подумалось:
«Надо бы – да: постараться бы, – как-нибудь… Надо бы с Брюсовым…»
Щурил рассеянно глаз свой на даму: прическа с прони-зами бусинок, пепелоцветные волосы, родинка, очи с расщу-рами; платье – гри-перль; возраст – тоже: г р и-перль; говорила она, – ей не нравится все то, что есть; и ей нравится то, чего нет; да и то – не совсем; говорила она кавалерику; и – прерассеянно тыкался он моргощурым, дерглявым лицом, собирая на лбу драматический морщень и вновь распуская: он ерзал и задом и мыслями: ни одного прямолетного слова! Слова износились на нем; предлагал многогранники мысли своей; перегранивал гранник в без-гранники; не удивлялась; своим переборчивым взглядом смотрела она беззадорно и кисло на юношу с высмехом (этот пришел позлоумить), бойчившего взглядом.
Поляк русопятствовал там с полякующим русским; и кто-то прошел с каменистым и твердым лицом; стал с улыбкою в каменной позе, оправивши дымчато-голубованные волосы с просизью.
– Это – Июличев!
Брюсов!
Ему Задопятов присахарил взглядом (но взгляд вышел с прокислом) и протянул толстопалую руку; в душе же гнездился еще подсознательный страх, что его могут выгнать отсюда за некий давнишний «эссе» под заглавьем: «Убогий ломака».
Но Брюсов спросил о трудах.
– Я пишу популярную книгу.
И око – какое – блеснуло.
И, важно пропятясь подвздошьем и задом, прошелся с великим поэтом пред всеми купчихами; кисти же рук, грациозно приподнятых четким расставом локтей, расщемили пенсне и взнесли на отвислину носа.
– Вы, что же, директорствуете? – пыталось сострить волоокое око его, сделав быстрый прищур безреснитчатым веком.
– Я – нет, – Брюсов мило скосился, – в «Кружке» я скорее заведую кухней.
В ответ Задопятов лишь выбрюшил урч.
Тут вторично Рачинский с подскоком, с подсосом, под-фыркнул дымком папиросины в нос, Задопятова стал проводить на почетное место; навстречу уже поднимались: писатель, давно не читаемый, Фантыш-Заленский, и автор романа «Растерзанный фурией» Петр Алексеич Во-данов.
– Позвольте представить, – сказала какая-то дама, – вот это – поэт Балк…
– Мозгопятов, – запнулась она, указуя лорнетиком на Задопятова.
Понял: она – не читала его; и – надулся; и – бросило в пот; тяжко крякая, сел он; и око – какое – блеснуло.
Волчок из людей расступился; и вот из него Трояновский таким гогель-могелем выскочил прытко: открыть заседание; купчихи, развеяв парчовые трены, прошли в первый ряд; и поэтик загибистым станом поднялся: пропеть свои строчки; слепить свои жесты; движением нервным и женственным быстро поправил изысканно взвислый махор; и прочем – с покусительством; тотчас же критик Сафтеев, вполне завиральный, вполне либеральный, мужчина с крепчайшей заваркою слов и причмоком в губах говорил, модулируя мысли (мужчина полончивый): вымозаичивал реплику.
Слово – словесная взмутка!
Сидел Задопятов, надменно зажав свои губы, такой кривопузой, такой кривозадой развалиной, чувствуя сверб в геморроидном месте; он мучился, ерзая.
Вдруг он – поднялся, чтоб выразить что-то: стояло само прорицалище истин, зажавши курсивом ресницы:
– Позвольте мне, – вымедлил, – милостивые – гм-гм -. государыни и…
– …государи, – пустил он фонтанисто, – высказать в сем уважаемом месте – гм-гм… свою мысль…
И споткнулся, вперившися в даму: не слушает!
– …мысль…
Кто-то встал и пошел прочь, оправивши волосы…
– …высказанную в собраньи моих сочинений; а именно: И – ай – девица-кривляка поэта-кривляку схватила зубами – за локоть!…
– …а именно…
Тут Задопятов взбурчал животом; покрывая бурчание вновь завиваемой фразой, отметил, что «именно».
– …именно: произведенья изящной словесности складываются под явным влияньем идеи прогресса, которая…
Тут оснастил свое слово метафорой:
– …светит звездой путеводной векам и народам.
И – далее, далее; долго слюнявил; и кончил словами:
– Позвольте ж замкнуть в поэтическом образе мысль мою.
Лопнувши оком, прочел он:
Приветствует пресса
Могучим «ура» –
Идеи прогресса
Идеи добра!
Дослепил!
И, себя оборвавши, оглядывал молча собрание, алча похвал; и – закид головы выражал самолюбие: все его бросили; только доцент Роденталов почтительно жал ему руку, пока композитор Июличев что-то играл; встал; подавши два пальца, пошел из «Эстетики», где не почтили прискорбного старца, с таким озабоченным видом, как будто под лобиком производил перманентное книготиснение (попросту там дребеденилось что-то).
Так он, – отставной генерал, отставной либерал, – все таскался в идейные пастбища.
Как он до этой жизни дошел!
Перерыв: и – волчок из людей завертелся.
Какая-то вот сверкунцовка сплошная; показывая волосы розоватые – в прожелтень, глядя серьгой искрогранной, прошла с кавалером в визитке грибискр, просветленным, надменным лицом; и крупой бриллиантовой пырснула, всем состояньем играя из облачка брюссельских кружев; колец переискры плеснулись и в зелень, и в желчь с явным отсверком – в красень, в пурпурово-розовость, зажидневающую розоватой лиловостью с синеньким просверком; ей кавалер мадригалил; она – не ответила; но поглядели в глаза ему выблески крупной серьги.
И, играя локтями, – прошел балансером за нею: приятный, опрятный, приветливый, вежливый: Онченко-Дронченко, центрифугист.
И за ними прошел бальзамический запах.
8
Когда меж Никитой Васильевичем и супругою, Анною Павловною, бывали разгласья, Никита Васильевич кушал один, в кабинете, похакивая в кулачок над пуком расцарапочек; даже за пищей потел он трудом многотомным своим; вообще – неудобства; любил, например, род варенья без косточек, – смокву; и – не было смоквы; и чай подавала прислуга, Таташа, холодным, а хлеб – прочерствелым.
Недавно еще он откушал ягнечью котлетку один; а «она» – затворилась: с чего? Вообще как-то стала коситься очком; и хотелось бы высказать.
– Глаз у вас лих!
А ведь глаза-то не было вовсе: косились очки: и – страдал от очков, потому что невидимый глаз его мучил; вставали подстрочные смыслы: без всякого смысла; потом – объяснялось: она – затворялась; своей тишиной изводила, за дверью присев; а в сознанье стояла – сплошным несмолкаемым гамом.
Невнятица!
Так вот сидел он в своем кабинете недавно еще, вспоминая с тоской, как ему она бросила:
– Были – модисточки!
– Жили с Агашею!…
Вот и сегодня, когда собирался он ехать, в переднюю высунулась, и он понял: «Агаша» бродила по всем направленьям в извилинах этого мозга.
Боялся ее лютой ревности он.
И не раз, перестроивши лицеочертанье свое в относительно сносное, с помощью зеркала, к ней коридором со свечкой ходил: и у двери, ее вопрошая, пытался с ней смолвиться; но отвечала она только всхрапами (ноздри со всхрапами); после того за стеной становилось – и тише, и лише.
Со свечкой обратно бежал.
Да, себя, – откровенно сказать, – преужасно он чувствовал: этот провал с выступленьем в «Свободной Эстетике» был лишь удар, довершающий, бьющий его по карману; его самолюбие было уж бито не раз; тут же било, что «Русская Мысль», то есть десять печатных листов, – уплывала.
Две тысячи!
***
Уж не мало.
Он – качался в сон носом – с извозчика; время – жерёлок из черных шарищ, друг от друга отставленных белыми днями, шарами; они – уменьшалися; в шарике белом слагалась Телячья Площадка, – уж многое множество раз; он сидел в центре шарика – многое множество раз; и потом шарик лопался – многое множество раз.
В черном шаре – как есть ничего: день за днем – уменьшался; день – тмился; день – тень. Тереньтенькала вывеска с ветром. Подбросило.
День ото дня – увеличивалось море ночи; раскачивалась неизвестными мраками старая шлюпка, в которой он плыл (и которую он называл своим «Арго») за солнцем; а солнце, «Руно Золотое», закатывалось неизвестными мраками, чтоб, раскачав его, выбросить. Снова подбросился. – Тише, извозчик! Очнулся.
Фонарь, – и стена белобокого дома, разрезанная черной шляпой и черной раскосминой, наискось; кто-то, огромный и темный, бросался под небо с земли. Кто? С чего?
Понял: сам бросил тень, – от себя, от себя самого улетал по стене белобокого дома; скосяся, расширясь, серея; опять пророждал под ногами себя самого, теневого, – кидаться под небо космою клокастою.
Многое множество раз: отставной либерал, тщетно силится броситься в двери редакций, где юность царит, но сплошное ничто, это черное, Брюсов, бросает обратно; и – да: многозубое время – изгрызло: всю душу; и – грызло лицо; многозубое время грызет даже камни.
Дом – каменный ком – проступил угрожающим, серо-ореховым боком с Телячьей Площадки: и дверью, как трещиной, скалился:
– Стой!
Он старался, как видно, минуя подъезда, лизнувши по боку ореховому черным контуром, вспрыгнуть на крышу, чтоб там, тарарахнув пятой теневой по железному желобу (над головой Анны Павловны), – фукнуть в ничто; дом, сугливши, углом срезал голову тени; огромное что-то тишайше на боке ореховом в землю обрушилось.
Съел его дом черноротый – подъездом: а, может быть, съел – Анной Павловной?
9
– Барыня – что?
– Затворилась…
Снял шубу; пошел коридором – к себе в кабинет; и бросал двуразличные взгляды: одним глазом – в стены; другим – себе под ноги: в пол; впереди – серо-синие стены, из мглы протупевшие зло; коридор был коленчатый, с переворотом, где на часах, наготове расхлопнуться – дверь; и хотя Анна Павловна, собственно говоря, начиналась за дверью, – казалось, что чем-то впечаталась в дверь; была дверью, следившей за ходом людей в коридоре, – за дверью, в переднюю; и – за его кабинетною дверью; а эта последняя передавала не этой, а той, за которой засела «она», – все, что делать изволил Никита Васильевич – даже когда запирался; противная дверь; и за нею – такая весьма неприятная женщина: с явным уменьем сочиться в замочную щель.
Ядовитая женщина!
Но, проходя мимо двери, как мимо звериного логова, медоточиво состроил одними губами улыбку в то время, как глаз испугался; и так с междометьем, совсем не с лицом, он на цыпочках крался к себе коридором коленчатым, взявшись за ручку дверную (не «эту», а ту, кабинетную); в спину зияла дыра коридора, как яма.
И – дверь с напечатанным ликом глядела: внимательно.
Если б не это, зажались бы пальцы в кулак; все же дрогнули, чтобы… зажаться; как будто бы знали, как будто бы знал он и сам, что его ожидает в годах лишь утонченность пытки: и пилы, и сверла; что будет вот так он, кряхтя, пробираться; и – знать: в глубине коридора присела толстуха, чтоб гнаться -
– в двенадцать часов по ночам -
– коридорами лет!
***
Он вошел в кабинетище.
Выдохнул воздух, покрылся морщиною, свечку зажег: и просунулся: слышал: «она» проходила.
«Она» проходила со свечкой в руке из весьма неотложного места; за ней семенил с мелизной во всех жестиках: маленький, быстренький, дрябленький.
– Аннушка!
– Аннушка!
– Аннушка!
Сторожевая же дверь, с напечатанным ликом, у самого носа с размаху – «б а б а ц» ему в лоб; «щелк», – и звуком ключа по подвздошью как дернет!
– Да, значит, сериозно: с чего бы?
Рот стал восклицательный знак; око – знак вопросительный; жест – двоеточие; пламя свечи – запятая; и все же у двери он медлил; стучался под дверью; и – перевернулся: обратно пошел; и пришел, и зарылся руками в свои мелкоструйные кудри; работа не шла; соструивши от носа пенснейную ленту, нагнулся, дымя сединами, прожелчиной уса к «векам и к народам» (он это прочел у себя самого); стало как-то прохладно и пагубно. Будто в квартире открылся падеж.
Он вперился все в те же дантиклы столбов за окном; их фонарь освещал; уходили их контуры в тлительной сини: смешались со тьмою.
– Да, это моральный давеж на меня… Над маракушками завозился; и руки с подпухом больных склеротических жил заходили на кресельных ручках, когда его взгляд пал на ящик, всегда запертой; он не слышал, как кто-то пошел, припадая на ногу, пустым коридором, – стучал каблуком и стучал наконечником трости; вниманье связалося ящиком, чуть недодвинутым: стало быть, – отперт?
И лику не стало:
– Так вот оно что? Каблуки и трость – щелкали.
Выдвинул ящик, а ящик был пуст: письма «Сильфочки» – вынуты!
Толстая лапа просунулась из-за плеча: над плечом:
– Хо!
– Хо!
– Ищете?
– Хо!
За окошками слышался ход рысака: дальне-звонкое цоканье.
Он же не смел повернуться: захакала б! Хокала басом, трясясь животом и грудями; глядела – очками; и – капнула шпилькой.
– Читала я, как меледите вы с «нею»!
Косма ее желто-седая упала, виясь, ей на плечи.
– Я… я…
Зализала свой взросток губы:
– Я читала, как ваши мизинчики лижут, как лезлой головкою роются в старом мотальнике…
– Друг мой!
Но желто-седая, вторая, змея – развилась:
– Вам еще сладостей, старый лизало!
И ливнями оборвалася на груди, тугие шары.
– Да, – слизнул мою жизнь… Да, – на что она?…
Вы вот – «выжми лимон да брось вон»? Для того вы женились? Теперь вот вонючую вы лобызаете вашу лимонницу… – краем распахнутой кофты рванулася – медикаментом пропахла она… Рот полощет «Одолями»… Рот пахнет рыбой.
Он стал оправляться:
– Мой друг, что бы ни было, – и потянулся рукою.
– Оставьте меня: не лисите.
– Но давность! – пытался он выдержать шквал.
– Я, медичка бывалая, – знаю «ее» подоплеку: гнилая.
С небесною кротостью эпос разыгрывал:
– Я повторяю, что давность…
– Хо!
– Давность – не малый свидетель, мой вспыльчивый друг: как-никак – тридцать лет нашей жизни.
Блеснул он ей оком – каким!
– Давность!… Двадцать пять лет изменяете!
«Что за докапа»… – подумал он и ухватился за нос; и – пропучился оком: себе в межколенье.
– А! А!… Для чего же вы женились?… Для прозы, – что музу себе завели?… Хо! Мегера она, ваша муза!… Смотрите-ка, – нет, до чего вы дошли?… Нахватались с ней звезд Станислава и Анны: служака, двадцатник!
Под градом, хлеставшим в него, поворачивался то на правую сторону он, то – на левую: с видом беспомощным.
– Я же…
– Молчать!…
– Я…
– Будируете – хо-хо – под своей золотою обшивкой мундира, с протестом в груди, прикрываемым анненской лентой!
Действительно, он на торжественном акте читал «О сонетах Шекспира» – в мундире, при шпаге; и – в ленте.
– Вы весь избренчались… На лире играете?… Просто гвоздем по жестяночке… Набородатил идеечек, насеребрил седины, фраз начавкал, себе юбилеев насахарил, – хо! Уважаемый деятель: видом лилея… Душа-то Гамзея!… А что Петрункевичи – что говорят? Говорят, что вы – старый капустный кочан, весь проросший листом, а не мыслью: обстричь – кочерыжка; и та – с червоточинкой… Мелодикон!… Просто – дудка.
Стерпеть, – нет-с: позвольте-с!
Поднялся с достоинством, ставши в мелодраматической позе, но – мелкокалиберно вышло: и он поскользнулся о синие стекла очков и расшлепался оками под ноги; сплюнула, туфлей размазавши:
– Ждите: повесят медаль вам на шею: да только не лавры, а розги на ней будут выбиты.
Смирно смигнул и себе на плечо посмотрел, будто сам убедиться хотел он, какой такой «Фока»; и тут, невнарок, – у себя на плече рассмотрел женский волос, не желто-зеленый, а – черный; поспешно смахнул себе под ноги: прядочку этих волос он держал под ключом, если только «она» не стащила: тащила бы все, – лишь в покое оставила б! Но не оставит в покое: промстится в годах; отольется не пулей, а дулей свинцовой; невольничий быт ожидает его; будет отдан он в рабство.
Представьте же: съерзнул он с кресла – коленом в ковер, головой ей в колени: облапить ей ноги и «старым мотальником» пол шаркать над толстой ногою; она замахнулась тяжелой ладошищей, грудь распахнув; и два шара тугих болтыхнулися:
– Соли на хвост вам насыпать, синица несчастная! Так и присел, уронивши в ладони свой нос, и старался выдавить всхлипы, – несчастный, невзглядный, накрытый с поличным старик!
***
В кабинетище долго еще замирал он под креслом; в окно же глядели дантиклы [68]68
Дантиклы – зубцы в украшении главы столпа.
[Закрыть] столбов розоватого дома напротив: дом каменный ком; дом за домом – ком комом; фасад за фасадом – ад адом; а двери, – как трещины: выйдут из трешин уроды. Как страшно! Так старым составом -
– раздавом -
– свисает фасад за фасадом,
над пламенным Тартаром!
***
Встал он и…
Понял, что – скрылась за дверь, что оттуда раскинула сети, что в центре их жирною паучихой засела (едят пау-чихи своих пауков); задрожал; и – забегал: весь маленький, дряхленький; что, – если выскочит да как нагайкой захлещется?
– Взять – да прихлопнуть ее молотком!
Испугавшися мысли такой, второй раз побежал к ней под двери: повалится вниз головою в глубокую падину.
Двери – молчали.
Да, – невповороть повернулась к нему королевой из драмочки «Смерть Тентажиля»; затащит в свои невы-дирные чащи: душить.
Она – толстая!
***
В злой, снеговой завертяй, поднимающий жути и муть, с пересвистами, с завизгом – выступили: угол дома, литая решетка, железные пики, подъезд, дерева раскаракульки; снежная гривина, воздух чеснув, отнеслась, – и ореховый дом в этом месте сложился: себя повторявшим квадратом; и – выступили очертанья: плоды известковых гирлянд; и за стеклами окон мельтешила свечка, чтоб вышвырнуть тень (бородой и космой), оторвать от за стеклами там столбеневшего тела, которое око пропучило в ночь; и – увидело: выстрелило черным конусом тени окно; черный конус, – безруко, безвласо, безглаво взлетая в космических мраках своим основаньем, взорвался в космический мрак, оторвавшись от точки вершины своей: от пяты Задопятова.
Эта пята оставалась без тени: поэтому свечка потухла; за окнами в месте взорвавшейся тени мельтешила снежина.
И из нее было видно, как таяли в белые мути: подъезд, дерева, крыша, трубы; ореховый дом, точно рушась про-тмевшими окнами в жуть, – чуть показывал угол стены еле видною линией, став серо-белым, став белым, – пропав; измельтешилось все это.






