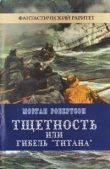Текст книги "Кто стрелял в шерифа (рассказы)"
Автор книги: Борис Стрельников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– В России.
– Почему именно портрет Дитриха вы избрали для своего кабинета?
– О, у него нам, молодым, есть чему поучиться.
– Чему поучиться? Ведь в России его здорово побили.
Доктор Пирс делает вид, что не расслышал. Он усаживается за стол и начинает лекцию. У него явно профессорские интонации. Еще несколько лет тому назад он читал лекции по физике студентам Орегонского университета.
Я прошу разрешения включить мой магнитофон.
– Пожалуйста,–неожиданно по-русски, хотя и с акцентом, говорит Пирс. И, заметив мое удивление, добавляет: – Простите, но я еще плохо говорю на русский язык.
Мне кажется, что теперь я окончательно понял, почему в его кабинете висит портрет Дитриха, сделанный на русском фронте.
– Мы прямые наследники Гитлера,– говорит Пирс,– хотя у нас есть свои, чисто американские, национальные цели. В фундаменте нашей философии и практики–философия и практика Адольфа Гитлера.
Все это мне известно, но я терпеливо слушаю. И терпение мое вознаграждается.
– Несколько лет тому назад,– рассказывает Пирс,– на съезде в английском городе Котсуолде было создано всемирное объединение национал-социалистов. На учредительном съезде присутствовали нацисты из США, Англии, ФРГ, Австрии, Франции, Ирландии и Бельгии. Сейчас эта организация объединяет партии и группы фашистов уже из 25 стран. Штаб-квартира объединения – здесь, в штате Вирджиния, в Соединенных Штатах Америки. А доктор Пирс, ваш покорный слуга,– генеральный секретарь этой всемирной организации.
Он показывает мне деловую переписку с неофашистами из ФРГ. Письма на типографских бланках, сверху на бланках два светлых круга.
– Это места для свастики,– объясняет Пирс.– Наши партийные коллеги из Западной Германии в отличие от нас, американцев, пока еще не рискуют официально употреблять свастику в качестве своего символа.
Он дает мне листовку-программу, принятую на съезде в Котсуолде. В третьем параграфе раздела "Цели" записано: "Защищать частную собственность и частное предпринимательство от коммунистической классовой борьбы". В девятнадцатом параграфе раздела "Идеи" сказано: "Идеи классовой борьбы и равноправия наций должны быть уничтожены".
Он достает с полки журнал "Мир национал-социалиста", который издается здесь же, в этом вот домике-бункере. Тычет пальцем в статью "Документы большевистской революции". Торопясь, читает мне фотокопии донесений американских дипломатов и агентов американской разведки из России, охваченной пролетарской революцией. Пирс сам, лично разыскал эти документы в архивах государственного департамента США и снабдил соответствующими комментариями.
Вот 5 июля 1918 года некто Гаррис пишет в государственный департамент США из Иркутска, занятого белыми: "Я рекомендую интервенцию против большевиков. Я предлагаю тщательно разработанную союзную интервенцию американских, французских, английских, китайских и, может быть, даже японских войск".
А вот некий дипломат сообщает в октябре 1918 года из Петрограда: "Я считаю, что немедленное подавление большевизма является сейчас самой главной задачей... Если большевизм не будет немедленно задушен в колыбели, он распространится в той или иной форме по всей Европе и даже, возможно, по всему миру".
А вот донесение представителя "Нэйншэл сити бэнк оф Нью-Йорк" Стивенса, побывавшего в России в 1918 году: "Единственное решение русской проблемы – международная интервенция военной силой". Вот она, идеологическая и политическая платформа, на которой объединились банкир из Нью-Йорка, бесноватый "фюрер" из Мюнхена и бывший преподаватель физики из Орегонского университета,
– То, что не удалось сделать Гитлеру,– торжественно говорит Пирс,-должны сделать мы.
По мнению Пирса, Гитлер не до конца решил в числе прочих и еврейскую проблему. Не дошли у него руки до негритянской проблемы. Как собираются решать эти проблемы современные нацисты? Разумеется, теми же методами, что и Гитлер. Пусть на этот счет ни у кого не будет сомнения, кипятится Пирс. Еще строже будет поступлено с коммунистами и всякими там либералами.
– Мы создаем и тренируем ударные отряды штурмовиков, которым надлежит спасти белую арийскую расу,– еще торжественнее говорит Пирс, и за стеклами его очков зажигаются хищные огоньки.
Партия издает свею газету "Белая сила". В пяти городах США по телефону можно прослушать пропагандистские лекции, записанные на пленку. В Вашингтоне –по телефону 528-43-61. Пирс утверждает, что такие телефонные лекции слушают до 15 тысяч человек в неделю.
...Интервью окончено. Я возвращаюсь в комнату, где за столом сидит белокурый эсэсовец с пистолетом на боку. Только теперь замечаю, что пистолет у него не на солдатском ремне, а на широком ковбойском поясе. Эдакая дань американизму, что ли?
На диване корчится парень в разорванной рубашке. Грустно глядит на меня одним глазом – другой скрыт под повязкой.
– Где это тебя так? – спрашиваю.
– В школе имени Вашингтона,– стонет парень.
– За что?
– За Гитлера, нашего любимого фюрера...
– Дурачок ты,– говорю я ему как можно ласковее.– Жалко мне тебя.
Парень взвывает по-волчьи и елозит по полу ногами в белых кедах.
Между прочим, на днях в столичной газете "Пост" была опубликована заметка, которую я приведу здесь полностью:
"Арестованы семь антинацистов.
Из полиции нам сообщили, что семь человек, в том числе двое подростков, были арестованы вчера за то, что они пытались помешать группе людей, одетых в форму нацистов, распространять литературу по Висконсин-авеню. Эти семеро не подчинились приказу полиции разойтись и продолжали выкрикивать грубости в адрес дюжих мужчин в коричневых рубашках и с нацистской свастикой на рукавах".
Так что этому дурачку, побитому сверстниками в школе имени Вашингтона, просто не повезло. Будь рядом полицейские, они бы схватили за шиворот тех, кто не хотел слушать о "нашем любимом фюрере".
И вот еще что. В те дни, когда я беседовал с доктором Пирсом, я был как бы под "домашним арестом": американские власти "на неопределенное время" запретили корреспонденту "Правды" выезжать из Вашингтона дальше 25 миль. Во избежание недоразумения мне пришлось довести до сведения государственного департамента и Федерального бюро расследований, что штаб-квартира "всемирного объединения национал-социалистов" расположена в 15 минутах езды от центра Вашингтона. Я начал отсчет от здания министерства юстиции, и спидометр в моей машине показал всего лишь четыре мили с небольшим, Так что запрета я не нарушил.
ИЩИТЕ МЕНЯ В МИССИСИПИ
Дом на западной стороне Нью-Йорка. Двенадцать этажей. Тридцать квартир. Еще одна – в подвале, где гремит мусорными чанами Сидней -огромный негр, истопник и уборщик, единственный негр, постоянно живущий в нашем доме. Он молчалив, задумчив, порой угрюм. Иногда он играет на флейте негритянские блюзы, но мало кто в доме слышит одинокую тоскующую флейту из подвала.
Когда рыжая дама с третьего этажа выводит на улицу свою собаку, Сидней печально и укоризненно покачивает им вслед головой. Собака приведет хозяйку назад под вечер. Собака потащит даму на поводке через дверь и, тихонько повизгивая, сядет у лифта. Собака не умеет вызывать лифт. Хозяйка тоже, потому что она пьяна. Она будет долго шарить по стенке рукой в поисках кнопки и на что-то жаловаться собаке своим вечно простуженным голосом, пока кто-нибудь не придет на помощь. Собака благодарно и сконфуженно завиляет хвостом, как бы говоря: "Не судите ее строго. У нее погиб сын в автомобильной катастрофе. Добрый шестнадцатилетний мальчик. Мой друг. С тех пор она... Сами видите..."
Мужу этой женщины, худому высокому инженеру с седым ежиком, тоже нелегко. Однажды в лифте я слышал, как он произнес по-русски:
– Ничего! – И, заметив мое удивление, пояснил уже по-английски: -Во время войны я две недели работал на сборке американских самолетов под Мурманском. Однажды сломался кран, и мы сказали русским механикам: "Придется подождать, когда привезут новый кран, без него – капут". Русские потоптались, посовещались, бросили в снег окурки и сказали: "Ничего!" Соорудили из бревен треногу, навесили цепи – и пошла работа!
Когда самолеты были собраны и настало время попробовать их в воздухе, выдалась пресквернейшая погода. Американские инструкторы сказали: "В воздух нельзя. Опасно. Нужно ждать погоды". Русские летчики поглядели на небо, почесали в затылках, сказали: "Ничего",–и полезли в самолеты. Летали, как боги! Волшебное слово это ваше русское "ничего".
По утрам на ступеньках у почтовых ящиков, обхватив коленки руками, сидит маленькая, как подросток, женщина с узлом каштановых волос на затылке. Она ждет писем. Из Голливуда. От мужа. Говорят, что он актер. Иногда рядом с ней сидит девочка лет семи, дочка, очень похожая на маму. Девочка разглаживает на коленях вырезанный из журнала портрет Мерилин Монро и певуче говорит:
– Когда мы будем жить в Голливуде...
– Ни-ко-гда! Я сказала: ни-ко-гда! – прерывает ее мать. И сердито подталкивает в спину.– Иди учи уроки!
Из лифта выходит старая располневшая армянка с большими восточными глазами.
– Почтальон еще не был? – спрашивает она.– Я подожду здесь.
Она плохо говорит по-английски и еще хуже понимает. Но сегодня она начинает сама:
– Что сказали по телевизору?.. Я не поняла... Что-то о войне... Вы ничего не слышали о войне?
Ее сын служит в армии; сейчас он в Западной Германии, и она у каждого знакомого спрашивает: будет ли война?
Утром лифт все время в движении. Вот спускается вниз русский, мальчиком увезенный из России в Маньчжурию, живший в Австралии, в Аргентине, в Канаде. Сейчас он работает страховым агентом, стар, болен.
– Почты еще нет? Что за порядки в этой стране! – сердится он, хватаясь за сердце.– И опять мерзкая погода!.. Жду письма от Алисы,-успокоившись и отдышавшись, говорит он.– От дочери. Она сейчас переводчицей в молодежной туристской группе. Парни и девушки из России. Понравилась она им. Знаете, что они ей сказали. "Ты,–говорят,–не американка, ты наша, русская. И никакая ты,– говорят,– не Алиса, а наша Лиза, Лизонька..." Понимаете? Лиза...
Он снова хватается за сердце и отворачивается.
– Они сказали – ты наша? – переспрашивает армянка. Она что-то говорит по-армянски, как будто поет скороговоркой, и вытирает слезы концом черного платка.
Лифт все время в движении. Приходит длинноногая красавица, всегда веселая певичка с восьмого этажа, толкая перед собой коляску с двухлетней Джин. Неизменно учтивый профессор задерживается на секунду, чтобы снять шляпу и пожелать всем доброго утра.
Седая сухонькая женщина в роговых очках подходит к стеклянной двери на улицу, смотрит на прохожих, слушает, как дождь стучит по крышам автомобилей, стоящих у тротуара. Женщина вздыхает и мизинцем правой руки рассеянно пишет на запотевшем стекле: "Миссиси... Мисси... Мис..."
Снова опускается лифт, и из него выходят сразу двое: двадцатилетняя Мэри с пятого этажа и пятнадцатилетний оболтус Джонни с двенадцатого. Джонни, как всегда, шмыгает носом и катает во рту резиновую жвачку.
– Вытри нос! – презрительно бросает ему Мэри.
– Не твое дело! – огрызается Джонни.
– Миссис Смит, что слышно о Джоэн? – обращается Мэри к женщине у двери. Женщина вздрагивает и оборачивается.
– Спасибо, милая! – отвечает она.– Последнее письмо было из Саммервилла. Это где-то в штате Теннесси. Пишет, что, если долго не будет писем и звонков, "ищите меня в Миссисипи".
Саммервилл... Саммервилл в штате Теннесси. А ведь я там бывал, миссис Смит. Это в двадцати пяти милях от Миссисипи. Летом там может закружиться голова от чуть горьковатого запаха нагретой солнцем сосны. Небо там такое голубое, что больно глазам. И жаворонки, сменяя друг друга, вьют там свои бесконечные серебряные нитки-трели над хлопковыми плантациями.
Там на пустынной городской площади около чугунного солдата армии южан сидит древний, выживший из ума старик со слезящимися глазами. Он не вытирает слез, и они текут по его пергаментным щекам к подбородку, заросшему седой щетиной. В руках у старика какие-то сыромятные ремешки, связанные в узел. Нужно знать, за какой конец потянуть, чтобы узел развязался. Старик торгует этими самодельными игрушками-головоломками, но я не знаю, кто их покупает. От нечего делать старик сам развязывает и завязывает узелки и беззвучно смеется, обнажая темные десны без единого зуба.
Мы приехали туда в жаркий полдень, хлопнули дверками автомобиля, и этот звук захлопнувшихся дверей был единственным в сонной одури Саммервилла. Потом где-то лениво взбрехнула собака. Печально прокуковала кукушка. Шаркая по асфальту ногами, подошел улыбающийся старик с сыромятными ремешками.
– Где здесь здание суда, дедушка? – спросил Станислав.
Старик закивал головой и радостно засмеялся.
– Здание суда! – повторил Станислав.
Старик засмеялся еще радостнее и закивал головой еще пуще. Мы поняли, что он глух.
– Здание суда-а-а! – тоскливо надрывался Станислав, подставив ладонь к волосатому уху старца: тот трясся от хохота, и слезы катились по морщинам-канавкам в черный провал рта.
Здание суда там монументальное, сделанное на века. Внутри прохладно и темно. Огромный волкодав спит на каменном полу. Шериф там тоже монументальный. Дверь в его кабинет была распахнута. В широкополой ковбойской шляпе, в узконосых техасских ботинках на высоких острых каблуках, с серебряной шерифской звездой на груди он сидел под звездно-полосатым флагом, положив ноги на стол, и брился электрической бритвой.
Шериф скользнул по нашим лицам колючими, настороженными глазами и положил жужжащую бритву на стол рядом с пистолетом. Мы вежливо кивнули ему и направились к выходу, обходя на почтительном расстоянии вздрагивавшего во сне волкодава. Делать нам больше было нечего.
Шериф нас не интересовал, а Джеймса, местного журналиста, назначившего нам свидание в здании суда, там не оказалось.
Потом, изнывая от жары, мы брели по какой-то зеленой улочке, и она привела нас к лесу. Две сколоченные из досок хижины стояли под соснами. На веревке висело белье. Куры купались в пыли. Две негритянские девочки, увидев нас, бросили автомобильное колесо, которым играли, и, вспугнув кур, шмыгнули в кусты. Голопузый малыш, косолапя рахитичными ножками, побежал за ними, упал и заревел.
На ступеньках одной из хижин сидел старик негр в полинявшем комбинезоне. Он перестал набивать табаком свою трубочку и с тревогой смотрел на нас.
– Добрый день! – поздоровались мы.
– Да, сэр! – гортанно выкрикнул старик, вскакивая на ноги и рассыпая табак. Белки его круглых глаз сверкали, как перламутровые.– То есть я хотел сказать: добрый день, джентльмены!
– Жарко сегодня!
– Да, сэр! – выдохнул негр.– Вы правы, сэр. Очень жарко сегодня.
Мы пошли назад, а он все стоял, с удивлением и испугом смотрел нам вслед, зажав в кулаке холодную трубку. Три черные головки выглядывали из кустов.
Потом мы встретили нашего друга Джеймса и вернулись к машине, чтобы поехать к границе штата Миссисипи. Побритый шериф стоял с волкодавом на ступеньках здания суда и, запрокинув голову, пил кока-колу прямо из горлышка.
Вот и все. Может быть, я никогда больше и не вспомнил бы об этом крошечном городе, о глухом старце на площади, о бравом шерифе с волкодавом и о негре, который рассыпал табак, если бы вы, миссис Смит, не упомянули, что Джоэн сейчас там, в Саммервилле.
Я ведь знаю, миссис Смит, зачем там Джоэн. Она солдат, и война для нее и для вас началась весной этого года. Ваша Джоэн – одна из тысяч белых студентов, отправившихся в Миссисипи, чтобы помочь неграм. Двое из них, Майкл Швернер и Эндрю Гудман, уже погибли вместе со своим другом негром Джеймсом Чейни. Их убили шериф и помощник шерифа. Их убили, чтобы испугать других. Но Джоэн все еще там, на передовой линии фронта.
Я влюблен в вашу Джоэн, миссис Смит! Это она познакомила меня с мыслями замечательного американского писателя Томаса Вульфа. "Думается мне,– говорил Вульф,– что мы, американцы, заблудились. Но я убежден, что нас найдут... Я считаю, что уклад жизни, который был создан нами в Америке и создал нас, выработанные нами общественные формы, соты, что мы построили, и улей, образовавшийся из них, по своей природе обречен на самоуничтожение и посему должен быть разрушен. Но я также знаю, что Америка и ее народ бессмертны. Они не могут погибнуть и должны жить. Я думаю, что подлинное открытие Америки ждет нас еще впереди..."
Мы живем в одном доме, но я долго не догадывался, что в этой хрупкой девятнадцатилетней девочке с нежным румянцем на щеках столько мужества и самоотверженности, что их хватило бы на троих. Однажды я встретил ее у подъезда нашего дома. Помните, она ненадолго приезжала из Миссисипи? Одна ее рука была в гипсе, другая – в бинтах.
– Мы сидели у стойки кафе с негритянской девушкой,– рассказывала она.– Было уже довольно поздно. В кафе, кроме нас, сидели несколько белых. Они орали и улюлюкали, но не трогали нас. Одна дама все время кричала мне: "Расскажи, красоточка, как ты спишь с черномазыми! Давай, давай выкладывай, не стесняйся!"
А вокруг гоготали мужчины и сопляки-мальчишки. У меня все клокотало внутри. Фреда, моя подруга, негритянка, молча погладила меня по руке, и этого было достаточно, чтобы я сдержала себя.
Потом, видимо, им наскучило гоготать, захотелось чего-нибудь поострее. Надо полагать, что они изрыгнули из себя весь запас грязи и непристойностей, который накопился в их мутных душах, и на дне этих душ осталась только ненависть, которая не давала им ни минуты покоя.
Дама подошла к нам, взяла со стойки банку с горчицей и вылила ее на голову Фреды.
"Тебе нравится, детка, эта помада? – кривлялась дама.– Она так идет к твоим курчавым черным волосам. Еще подлить?"
Фреда не пошевелилась. Это окончательно вывело из себя негодяев.
"Ах, они не желают разговаривать с нами!– орал какой-то тип с лошадиным лицом.– Тогда мы поговорим иначе. Официант, принеси-ка мне, пожалуйста, чайник, да погорячее. Я хочу угостить девочек чаем".
Официант поставил перед ним алюминиевый чайник, из которого шел пар. Я заметила, как сжалась Фреда. Тип с лошадиным лицом поднял чайник и приказал нам: "А ну, уберите руки со стойки!"
Мы не пошевелились. Я почувствовала, как дрожат мои руки. Только бы он не заметил, как мне страшно, как мне хочется вскочить и убежать! Только бы он не заметил...
"Уберите руки, или я превращу их в вареные макароны!"
...Только бы он не заметил, как дрожат мои руки!..
"Я ведь не шучу, девочки!"
...Как тихо в кафе! За спиной сопят мальчишки-молокососы. Наверное, и им стало страшно... А может быть, просто ждут не дождутся... Носик чайника наклоняется все ниже, ниже.
"Последний раз говорю!" – рявкает "лошадиная морда".
"Оставь их, Джо! – Делает шаг вперед бледный хозяин кафе.– Оставь их, парень! Они почти дети..."
Страшная боль впивается в мою правую руку. Кипяток льется из носика чайника непрерывной струей. Дико кричит Фреда. Я успеваю увидеть, как хозяин бросается на "лошадиную морду", пытается вырвать у него чайник, кипяток хлещет им на ноги. Темень застилает мне глаза...
А вот как правая рука оказалась сломанной, не помню,– закончила свой рассказ Джоэн.– Может быть, я сломала ее, когда падала со стула. Вы ведь знаете, мистер Стрельников, какие высоченные стулья у стоек...
Замер, успокоился лифт. Женщины дождались почтальона и разошлись по квартирам, каждая со своими печалями, .радостями и тревогами. Дождь стучит по крышам автомашин, оставленных у тротуара. На стеклянной двери тают, расплываются буквы: "Миссиси... Мисси... Мис..."
Туман поднимается с Гудзона, и кажется, что наш дом куда-то плывет. Обыкновенный дом на западной стороне Нью-Йорка. Двенадцать этажей. Тридцать квартир. Еще одна – в подвале. Там плачет, тоскует, поет одинокая флейта Сиднея:
О старая река, добрая река!
Я пою о твоей красоте.
Слезы матерей в твоих волнах,
Старая река!..
ГОРЬКАЯ СЛАВА
Когда приехала полиция, Дуайт Джонсон был уже мертв. Он лежал лицом вниз на полу у продуктовой кассы, неловко подвернув под себя руку и накрыв своим телом пистолет, из которого так ни разу и не выстрелил. Хозяин лавочки рассказывал:
– Я уже собирался закрывать, когда он вошел. Я сразу почувствовал: что-то с этим негром неладно. "Вы не узнаете меня? – спросил он.– Я Джонсон. Тот самый. Вы меня, конечно, знаете". Я пожал плечами, он все твердил: "Я же Джонсон! Должны же вы знать Джонсона!" Потом сказал, что хотел бы одолжить у меня немного денег. "Джонсону-то вы можете дать в долг?" Тут я испугался и выхватил пистолет. Он выхватил свой, но я успел всадить в него пять пуль... С ума можно сойти: я в него стреляю, а он не падает, не падает. Только шатается и твердит: "Я же Джонсон... Вы же должны знать меня..." Не понимаю, почему он не стрелял?
– А у него пистолет был без патронов,– равнодушно отозвался полицейский. Он уже перевернул убитого на спину и теперь кончиками пальцев, боясь запачкаться кровью, за уголок тащил из кармана пиджака потрепанный бумажник.
Денег в бумажнике не было. Зато там была небольшая белая карточка. На плотной глянцевой бумаге – золотое тиснение букв. Полицейский пробежал глазами по буквам и свистнул От удивления.
– Этого-то Джонсона вы должны были знать,– пробормотал он, показывая карточку владельцу лавочки. На карточке золотом было оттиснуто: "Соединенные Штаты Америки. Настоящим удостоверяется, что Дуайт Джонсон является кавалером ордена Славы конгресса США".
Орден Славы – высший орден Америки. Награждают им от имени конгресса. Вручают его в Белом доме, и делает это сам президент.
В тот ноябрьский вечер 1968 года перед президентом Линдоном Джонсоном стоял его однофамилец Дуайт Джонсон. Оба высокие, одинакового роста, только президент был белый, а сержант черный. Сияли "юпитеры", стрекотали кинокамеры, и на экранах цветных телевизоров миллионы американцев видели, как белый президент повесил голубую ленту с золотой медалью на шею черного сержанта.
– Наши сердца обращены к миру,– торжественно сказал президент,– но в этом зале мы снова слышим грохот отдаленной битвы...
В тот же вечер сержант Джонсон вылетел в свой родной Детройт. Грохот отдаленной битвы звучал в его ушах. Перед его глазами пылали хижины вьетнамских крестьян, в предсмертном крике захлебывались дети, рыдали женщины. Сержант пытался отогнать эти картины, вспоминал зал в Белом доме, президента, который так торжественно говорил о мире, но Вьетнам не отпускал его от себя. Пройдет всего лишь три года после этого вечера в Белом доме, и психиатр военного госпиталя напишет в учетной карточке сержанта: "После возвращения из Вьетнама Джонсона мучили кошмарные сновидения. Он не признавался в этом ни жене, ни матери. Тайно от всех он безжалостно судил себя за все, что произошло... Он даже задавал себе вопрос: "Имею ли я право жить?" Он вернулся из Вьетнама молчаливым и каким-то отрешенным. Это заметили все его родственники и друзья. Кармен Бэрри, подруга его будущей жены, рассказывала:
– Они все оттуда возвращаются молчаливыми. Ничего не хотят рассказывать.
Его двоюродный брат Томми вспоминал:
– Он вернулся непохожим на себя. Больше всего меня поразили фотокарточки, которые он привез оттуда. Ну вы догадываетесь, конечно... убитые вьетнамцы. Целая пачка цветных слайдов... Однажды он сказал мне, что сам он не застрелил ни одной женщины и ни одного ребенка.
Когда его призвали в армию, он был безработным. Он демобилизовался и снова стал безработным. Каждый день он обивал пороги контор по найму, но работы не было нигде. Таяли "заработанные" во Вьетнаме деньги. С витрин магазинов кричали плакаты, обращенные к бизнесменам: "Найми ветерана!" Но если и нанимали, то белых. До черного ни у кого дела не было.
В задумчивости он останавливался у плакатов, сулящих "интересную жизнь" в вооруженных силах. В армию – вот куда была гостеприимно распахнута дверь. Причем распахнута одинаково широко как для белых, так и для черных, В армию зазывали, заманивали, завлекали. Но он уже там был, и возвращаться туда ему не хотелось. Его пугала перспектива снова угодить во Вьетнам.
Однажды вечером в дверь его квартиры кто-то постучал. Стук был властным, требовательным. Мать открыла дверь и охнула, испугавшись. На пороге стояли трое военных полицейских в белых касках и с белыми ремнями через грудь.
– Ты чего-нибудь натворил, сынок? – спросила мать.
– Честное слово, мама, я не сделал ничего плохого,– поспешил он успокоить ее.
Полицейские, белые парни, сунув ладони за широкие белые пояса, угрюмо озирали убогое жилище негров. Офицер вынул блокнот и приступил к допросу. Не подвергался ли Джонсон арестам после демобилизации? Не участвовал ли в антивоенных демонстрациях? Не состоит ли членом партии "Черные пантеры"? Нет, не участвовал, не состою, отвечал Джонсон.
На следующий день он узнал, что награжден высшим орденом Соединенных Штатов Америки.
После церемонии в Белом доме жизнь Дуайта Джонсона потекла, покатилась, закружилась, как в самой фантастической, самой чудесной сказке. Все бизнесмены Детройта, еще вчера отказавшиеся взять на работу какого-то Д. Джонсона, наперебой стали приглашать на службу единственного в штате Мичиган кавалера ордена Славы Д. Джонсона. Каждому хотелось похвастаться тем, что у него работает герой. Но было уже поздно. Сержанта Джонсона вернули в армию. Он стал служить в управлении по вербовке молодых американцев в вооруженные силы.
Один из офицеров, служивших в том же управлении, говорит сейчас:
– Джонсона больше нет, и давайте больше не будем хитрить. Все было заранее продумано. Вся штука в том, что в Детройте много негров. Как заманить их в армию? Показав им живого негра с орденом Славы на шее. Вот, дескать, что вас ждет, ребята! Почет! Уважение! Обеспеченная жизнь! Не хуже, чем у белых. Короче говоря, из Джонсона сделали приманку...
Сам автомобильный король Генри Форд устроил банкет в честь негра-орденоносца. Джонсона посадили за стол между Фордом и генералом Уэстморлендом, который ради этого банкета оставил дела в Пентагоне и примчался в Детройт. Здесь же сам Форд вручил сержанту ключи от нового автомобиля. Сержант отчаянно смущался, ничего не ел, не знал, какую вилку взять, как держать руки. Пот лил с него ручьем. А тут еще телекамеры, блицы фоторепортеров, "юпитеры". Прямо с банкета Джонсона повезли в самый роскошный городской отель. Здесь отныне он будет жить. Сколько стоит номер? Бесплатно, разумеется. Не брать же с героя деньги, черт подери!
И снова телекамеры, блицы фоторепортеров, "юпитеры".
Узнав, что Джонсон собирается жениться, известный в городе ювелир сам привез в отель обручальные кольца и золотую цепочку для невесты. "У меня нет таких денег",– сказал Джонсон. "Что вы, что вы,– запротестовал ювелир.– Я же не тороплю вас. Когда-нибудь заплатите". А из-за спины ювелира стволы телекамер уже нацелились на Джонсона, на кольца, на золотую цепь...
Никто из бизнесменов не хотел брать деньги у Джонсона. Ни за дом, который он купил после рождения сына, ни за мебель, ни за бензин для дареной машины. "Когда-нибудь отдадите,– говорили ему.– Мы же вас знаем!"
Но его заставляли отрабатывать эти подарки. Он выступал в клубах, школах, на негритянских собраниях. Он звал негритянских юношей в армию.
А по ночам его мучили кошмары. Как и прежде, во сне к нему тянулись руки убитых вьетнамцев. Только теперь к нему тянулись руки и убитых американцев. Тех самых юношей, которых он завербовал в армию. В его ушах звучали презрительные голоса: "Ты, подсадная утка... электронный негр... робот Пентагона". Так говорили о нем наяву, за его спиной, и он уже не раз слышал это.
Однажды у матери заболел зуб, и он повез ее к врачу. В приемной дожидался своей очереди полицейский Рональд Торнер. Он узнал Джонсона. Коротая время, заговорил с ним, попросил рассказать, за что тот получил свой орден. И тут мать заметила, что с Дуайтом что-то произошло. Еле сдерживая себя, он сказал полицейскому:
– Не надо об этом, приятель. Если то, что я сделал во Вьетнаме, я сделал бы в Детройте, они схватили бы меня и посадили на электрический стул. Но там был Вьетнам, а не Детройт, и они дали мне орден. Они надели на меня золотую цепь и стали показывать людям, как ручного медведя...
На другое утро сержант не явился на службу. С тех пор он стал пропускать уже объявленные выступления в клубах и школах. Ему грозили разжалованием, арестом, трибуналом. На какое-то время он брал себя в руки, но потом снова запирался в своем доме и не отвечал на телефонные звонки. Один из офицеров-сослуживцев вспоминает:
– Дело доходило до того, что я приезжал к нему домой, вынимал из портфеля наручники, один браслет защелкивал на его руке, другой на своей, и так вез его выступать. Только перед самым входом в зал я расковывал его.
Через несколько месяцев Джонсона положили в госпиталь на военно-воздушной базе Сэлфридж. под Детройтом. Солдат Герман Авери вспоминает:
– Он приехал к нам в сопровождении майора. Мы сразу подумали -большая шишка. Ему выдали халат и поместили в отдельную палату. Но не прошло и нескольких часов, как сержанта снова одели в мундир, и тот же майор повез его куда-то выступать. Вернулся он вечером усталый и поникший.
Вот тогда-то и написал госпитальный психиатр в больничной карточке Джонсона слова о безжалостном суде над самим собой и о сомнении: имеет ли он право жить?
В день окончания суда над лейтенантом Колли он убежал из госпиталя и наотрез отказался являться на службу. Его хотели было судить, но в Пентагоне побоялись дурной огласки и приказали просто поставить на нем крест.
Дуайт Джонсон, кавалер ордена Славы, снова стал безработным негром. Бизнесмены Детройта, еще недавно позировавшие с ним перед телевизионными камерами, перестали его узнавать. Приехали люди от Форда и забрали машину. Потребовал уплаты за кольца и золотую цепь ювелир. Пришли счета и за дом, за мебель, за бензин и за сотни других покупок, которые Джонсон сделал в кредит. В семью Джонсона пришла беда.
Заболела его жена Катрин. Ей требовалась срочная операция. Он отвез ее в больницу. Она вспоминает, что он улыбался. И она силилась улыбаться, но оба они думали об одном и том же: чем они будут платить за койку в больнице, за операцию, за больничный уход?
– Поцелуй меня на прощание,– попросил он жену.
Катрин поцеловала его в щеку. Он, как маленькую, погладил ее по голове.
– Принеси мне завтра халат и гребенку,– напомнила она.
Он улыбнулся и помахал ей рукой.
Вернувшись домой, он позвонил своему приятелю Эдди Райту и попросил подвезти его на машине в одно место, где будто бы ему обещали дать в долг немного денег. Эдди заехал за ним вечером.
...Джонсон попросил остановить машину в белом районе. – Это здесь, за углом,– сказал он.– Я пойду, а ты подожди меня.