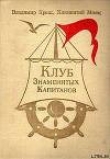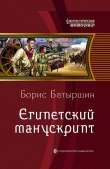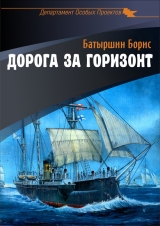
Текст книги "Дорога за горизонт"
Автор книги: Борис Батыршин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
– Я рассматривал разные версии о вашем происхождении. Признаюсь, теория о пришельцах из грядущего была в числе главных, а когда вы прислали ко мне герра Евсеина – сомнения окончательно отпали. Вы уж простите, коллега, – и немец слегка поклонился доценту. – но вы совершенно не умеете хранить секреты. Удивляюсь, как герр Семёнофф решился отпустить вас!
«Положительно, проклятый дед умеет читать мысли! – окончательно растерялся Семенов. – Да, Вильгельму Евграфычу остаётся лишь беспомощно улыбаться и виновато пожимать плечами. Хотя, его-то за что винить? Сами виноваты – пустили ягнёнка в волчье логово! Но Бурхард-то, Бурхардт! Кто бы мог подумать, что за внешностью кабинетного гномика скрывается острый ум разведчика? Кстати, о разведке…»
Нет, положительно, въедливый старикан видел его насквозь! Не успела эта мысль мелькнуть у Олега Ивановича в голове, а немец уже среагировал:
– И, кстати, герр Семёнофф, если вы полагаете, что ваш покорный слуга оказывает некие… м-м-м… услуги правительству кайзера, то спешу поздравить – вы весьма проницательны. Да, я состою в переписке с высокопоставленной особой в прусском Генеральном Штабе. Их, видите ли, крайне интересует то, чем занимаются наши – и ваши, если уж на то пошло! – заклятые друзья-британцы на Ближнем Востоке. Но, могу вас заверить, я ни слова не сообщил моему корреспонденту о наших обстоятельствах.
– А о библиотеке? – поинтересовался Олег Иванович. – О ней-то вы, разумеется, дали знать в Берлин?
Бурхардт ответил оскорблённым взглядом монахини, обвинённой в тайном посещении абортмахера.
– Разумеется, нет, герр Семёнофф! Это их совершенно не касается! Нашего кайзера и его канцлера занимают вопросы о броненосцах, железных дорогах, концессиях, и перемещениях капиталов. Археология, слава богу, лежит вне сферы их интересов.
Олег Иванович усмехнулся:
– Могу вас заверить, герр Бурхардт что внук кайзера скоро проявит интерес к античной культуре и всякого рода историческим исследованиям. Не пройдёт и десятка лет, как археология получит во Втором Рейхе поддержку на самом высоком уровне.
– Вы о принце Вильгельме? – археолог высокомерно задрал бородку.
– Пока, насколько мне известно, от проявляет интерес лишь к охоте и короткошёрстным таксам. Но даже если вы и правы – власть всё равно наследует его отец, кронпринц Фридрих!
Семёнов хмыкнул – про себя конечно. Сын нынешнего императора Германии Фридрих процарствует всего 99 дней и скончается от рака гортани. А вот поклонник охоты и будущий археолог-любитель принц Вильгельм[30]30
Будущий германский император и король Пруссии Вильгельм II-й.
[Закрыть]… но Бурхардту об этом знать не обязательно.
Старикан, к счастью не стал развивать опасную тему:
– Ладно, бог с ним, с наследником. Если не возражаете, герр Семёнофф, вернёмся к нашим делам. Когда я убедился, что имею дело с пришельцами из грядущих веков, то, признаться, заподозрил, что вы явились ко мне как раз из-за библиотеки. Возможно – рассудил я, – там, в вашем будущем, это бесценное собрание было утрачено, и вы намереваетесь вернуть его, позаимствовав в прошлом? Но когда мы с герром Евсеиным сделали первые переводы металлических листов, я понял – нет, дело отнюдь не в александрийском хранилище.
– Вы правы. – подтвердил Олег Иванович. – О нём мы вообще не подозревали, библиотека оказалась для меня сюрпризом.
Археолог недовольно дёрнулся.
– Я был бы признателен, если бы вы не перебивали. – недовольно заметил он. – поверьте, мне и так непросто собраться с мыслями!
Семёнов сделал примирительном жест – мол всё, молчу-молчу! – и старик продолжил:
– При всём уважении к вам, герр Евсеин, – он с едва заметной иронией поклонился доценту, – вы, хоть и сумели открыть секрет составления пластин, но вовсе не разобрались в их содержании. Мне было даже неловко дурачить вас – вы принимали на веру всё подряд, и даже не пытались проверять!
На Евсеина было жалко смотреть. Он беспомощно переводил взгляд с меня на старика-археолога, все видом демонстрируя то ли возмущение, то ли покорность судьбе.
– Когда герр Евсеин продемонстрировал мне первые ваши «сборки»
– как вы называете сросшиеся краями металлические листы, – продолжал меж тем Бурхардт, – я вспомнил, что уже видел нечто подобное. И как раз здесь, в библиотеке – на одном из свитков, датированных эллинистическим периодом Египетской истории. Та рукопись была сделана на пергаменте, а не на папирусе – потому я и обратил на неё внимание. Дело в том, что использование пергамента не характерно для Египта. Только когда во втором веке до рождества Христова, цари Египта запретили вывоз папирусов из Египта…
– Это весьма интересно, герр профессор, – мягко перебил немца Семёнов. – но если можно, ближе к делу. У нас крайне мало времени.
Как ни странно, Бурхардт не стал возмущаться:
– Что ж… я примерно помнил, в какой из залов находился пергамент. Но увы, поиски в одиночку продлились бы не один месяц, к тому же, герр Евсеин наверняка обратил бы внимание на моё отсутствие. А потому, я решился посвятить коллегу в свою тайну – и, как выяснилось, правильно поступил.
– Да, уж. – подал наконец голос доцент. – Поначалу я оторопел – как же, величайшее из книгохранилищ античного мира, считавшееся давно утраченным! – но потом сумел преодолеть растерянность и взялся за поиски. Вдвоём с профессором мы перелопатили огромное количество пергаментов – и нашли-таки то, что искали!
– Вот он. – и Бурхардт извлёк с полки рулон тёмно-коричневого пергамента, намотанный на потрескавшиёся от времени деревянный валик. – Это перерисовано с такого же металлического листа, как и тот, на котором мы обнаружили указания к поиску загадочного артефакта в Чёрной Африке.
– И, что интересно, – подхватил Евсеин, – пояснения к рисунку составлены на греческом. Вы понимаете? На греческом! А это значит, что как минимум один из обитателей Европы ещё тогда видел загадочные металлические пластины!
– И не только видел – но и сумел составить полную сборку. – медленно произнёс Семёнов. Хотя, конечно, это мог быть и не европеец, египетские учёные, случалось, писали и на греческом. Но вот чего я не понимаю – ведь мы, как ни старались, так и не сумели разъединить листы, после того, как они срослись краями?
– Я тоже об этом подумал. – мелко закивал профессор. – И, знаете что пришло мне в голову? Таких наборов могло быть больше чем один! Сами подумайте: больше половины пластин в нашем комплекте дублированы, а некоторые даже имеются в трёх экземплярах! А что, если в нашем распоряжении не полная «картотека», а смесь из нескольких комплектов?
– Любопытная версия, профессор… – кивнул Семёнов. – а вы не пробовали…
– Именно это и пришло мне в голову! – Бурхардт не дал собеседнику договорить. Я проверил, нет ли в моей «картотеке» дубликатов пластин, вошедших в готовые листы! И представьте – таковых нашлось лишь два. Все остальные, если и присутствуют, то в единственном экземпляре. Вернее присутствовали – поскольку теперь они, вероятно, необратимо трансформировались.
Два комплекта пластин… – задумчиво произнёс Семёнов. – А возможно, и три. Но это значит…
– …это значит, что нет никаких гарантий, что наш комплект содержит все возможные листы! – закончил Евсеин.
– А вот тут – не согласен. – покачал головой Олег Иванович. – Вспомните, когда мы с вами только-только обнаружили эффект «сращивания» карточек, то в первую очередь учинили инвентаризацию их копиям, которые нам любезно предоставил герр Бурхардт. Оказалось, что общее их число, за исключением повторов, кратно шестнадцати – именно из стольких пластин составляется сборка. Вряд ли это совпадение; я полагаю, что как раз мы и располагаем полным комплектом «картотеки» – с добавлением остатков двух других.
Учёный вытащил блокнот и принялся быстро черкать карандашом.
– Не берусь утверждать наверняка, но если вы правы, то выходит, что гипотетическим владельцам второго комплекта не удастся составить… так, секундочку… восемнадцать «сборок» из всех возможных. А владельцу третьего – как минимум четыре, поскольку именно в такое количество готовых листов входят карточки, повторенные у нас по три раза!
– Это ещё как сказать, – покачал головой Семёнов. Если исходить из того, что остальные пластины строго разделены по комплектам – то да, А вот если они перемешаны… возможно у хозяев других «картотек» вообще сложится не более двух-трёх головоломок.
– Господа, опять мы уходим в сторону! – подал голос Евсеин. – Давайте, наконец, о насущном!
– Да, простите, – поправился Олег Иванович. Бурхард же возмущённо хмыкнул и недовольно мотнул головой в сторону Евсеина. Тот испуганно вжал голову плечи и отступил назад, будто попытался спрятаться в тени.
«А здорово он запугал нашего доцента – мельком подумал Семёнов. – Впрочем, неудивительно – университетские традиции, мировая величина… да и харизма у старика, убойная, как у парового танка!»
– Что ж господа, – продолжил археолог прежним, надтреснутым голосом, – раз вы считаете всё сказанное выше несущественным – извольте! Изучив манускрипты на пергаменте мы с герром Евсеиным выяснили, что стоит за сочетанием символьных записей на пластинах и теми надписями, что появляются при составлении листов в эти, как вы называете, «сборки». Оказывается, пластины хранят историю загадочных существ, создавших порталы в иные миры. После того, как нам удалось разобрать несколько фрагментов, перевод стал делом рутинным – и мы прочли большую часть текстов. И очень нам пригодилась ваша чудесная криптографическая машина, – тут немец ехидно ухмыльнулся, – и мастерство, проявленное герром Евсеиным при обращении с оной.
Из тени послышался страдальческий вздох. Олег Иванович не успел сообщить, что информация с безнадёжно зависшего ноутбука не пропала, а может быть восстановлена, и доцент мучительно переживал свою несостоятельность в обращении с техникой потомков.
– Итак, мы ознакомились с содержимым большинства пластин, хотя бы и в общих чертах. Часть из них, как вы знаете, трансформировались в большие листы, и текст при этом был утерян окончательно. Но, к счастью, мы обладаем точными копиями всех символьных записей. И вот что удалось выяснить…
* * *
Из путевых записок О. И. Семёнова.
«…Да, Бурхадту есть чем похвастаться. История народа-странника, таинственной древней расы, открывшей способ путешествия между мирами и временами, и сделавшей это образом своего существования… да и расы ли? Возможно, речь шла о своего рода секте или философском течении, а может быть, и группе учёных, – или что там понималось у древних скитальцев под этим словом? – когда-то в незапамятные времена пустившихся в путь по «червоточинам». Да так и забывшими, а может быть, и намеренно выкинувшими из памяти, мир, с которого начались их странствия?
Хотя – почему у «древних»? Нет никакой гарантии, что родной мир Скитальцев – так назвал Бурхардт создателей загадочных пластин, – не лежал наоборот в будущем, причём столь отдалённом, что терялся смысл всякого упоминания о временны́х периодах? Перемещение между близкими, в сущности, временами, между «завтра» и «вчера» бесконечных линеек исторических последовательностей, было лишь малой долей подвластных Скитальцам возможностей. Похоже, для них не существовало границ между мирами, они могли пробить «порталы» в любое «где» и «когда» известной Вселенной… Вселенных?
Бурхардт полагает, что именно это бездонное богатство возможностей и привело к упадку расу, которая могла бы при иных обстоятельствах стать властителями миров. Пожалуй, я с ним соглашусь – когда доступным становится буквально всё, немудрено потерять интерес ко всему. Скитальцы споткнулись на собственной вездесущности. Стоило им осознать, что они могут попасть в любой из вообразимых миров или времен, это немедленно породило солипсическую – в масштабах своей расы, разумеется – мысль: а существуют ли эти цепочки миров и времён в реальности, или являются плодами воображения, фантомами, порождёнными могуществом порталов?
Мысль эта и погубила культуру Скитальцев: за одно-два поколения (если, конечно, имеет смысл говорить о поколениях, описывая подобный народ) они совершенно потеряли интерес к реальности. Часть их сгинула в лабиринте червоточин, часть, как мы сумели понять, избрали своеобразный способ покончить с собой, нырнув в порталы «без адреса», что вели в никуда, и не могли открыть обратного пути. А кое-кто превратился в своеобразных отшельников, обосновавшись в одном из найденных миров и закуклившись в грёзах о воображаемой Вселенной… Такой оказалась и группа, осевшая на этой Земле. Так что мы зря старались бы отыскать в нашем двадцать первом веке дубликаты артефактов – и коптских чёток и маалюльского манускрипта и, главное – «металлической картотеки». Эти предметы существовали только здесь, на этой мировой линии. Они принесены Скитальцами – и остались здесь, когда память об этой расе стёрлась отовсюду, кроме древнего египетского свитка.
Оставался вопрос – зачем Скитальцы, избравшие путь отчуждения, оставили жителям рядового мирка, одного из бесчисленного их множества, такую подсказку? Может быть, кому-то из добровольных затворников напоследок стало тесно в келье? Или это своего рода чёрная ирония – отравленный дар, наживка, которую должна заглотнуть молодая, полная сил и неуёмного любопытства раса, чтобы направиться вслед за Скитальцами, и потом, в невообразимой толще веков и мирозданий, тоже осесть в своеобразной «пещере отшельника», не забыв передать эстафету дальше?
От этих мыслей голова шла кругом, тем более, что Бурхардт честно предупредил, что большая часть изложенного – не более чем их с Евсеиным попытки истолковать туманные фразы переводов. Не для всего нашлись адекватные понятия на известных нам языках; не всё удалось осознать – не то, чтобы правильно а хоть как-то. Более двух третей текстов до сих пор не переведены; изрядная часть переведённого остаётся тёмными и загадочными. И кто знает, как изменится представление о создателях порталов после того, как мы сумеем разобрать всё?
Но, вернёмся к насущным проблемам, как предложил давеча господин доцент. Поездка в Конго становится теперь неизбежной. «Сборки» металлических пластин недвусмысленно указывают на некий артефакт, сущность которого пока неясна. Очевидно лишь, что хранится этот загадочный предмет в труднодоступном – и тщательно оберегаемом от посторонних – месте, в среднем течении реки Уэлле.
Которая, согласно трудам Владимира Владимировича Юнкера, впадает в реку Убанги и далее, в Конго, как и Арувими, протекающая южнее и восточнее. Очертания рек, проступившие на металлическом листе, явственно указывают как раз на эти забытые богом и людьми края – и нам надо было отправляться туда, в чёртову глушь, в междуречье Уэлле и Арувими, к юго-западу от озера Альберт. Одно хорошо – перед отъездом я получил от Юнкера кое-какие материалы, а кроме того, в нашем распоряжении палочка выручалочка – спутниковые карты. Конечно, в тропиках за 130 лет многое могло измениться до неузнаваемости, и уж тем более – русла рек; но хотя бы общая структура водной системы Конго должна была сохраниться в прежнем виде? Если это не так – нас ждут немалые трудности.
Увы, сам Юнкер не мог нам помочь – в интересующем нас месте он не был, хотя и немало слышал о тех краях. Я в очередной раз пожалел, что не смог толком пообщаться с путешественником – несомненно, его опыт чрезвычайно пригодился бы в экспедиции. Ведь, судя по грозным и загадочным событиям в Александрии, мы отправились в путь буквально в последний момент – и хорошо, если не опоздали.
Ни у кого из нас – ни у Бурхардта, ни у Евсеина, ни даже у меня, – не мелькнуло в тот момент и тени сомнения: а стоит ли открывать эту шкатулку Пандоры? Может, разумнее прямо сейчас уничтожить материалы и забыть и о Скитальцах и о подвластной им Паутине Миров? Это, кстати, еще одно понятие, введенное Бурхардтом – вот удивился и возмутился бы старик, узнай он, что его поэтический эвфемизм (как и пафосное «Скитальцы») повторяет банальнейшие литературные штампы двадцать первого века! Но тут уж ничего не поделать – самые скептические представители девятнадцатого века склонны к напыщенности и нескоро еще выработают в себе иммунитет к красивостям. А может, это я в очередной раз пытаюсь спрятаться в раковину напускного цинизма, который уже давно превратился в своего рода правило хорошего тона?
Назад, по бесконечному тоннелю мы шагали, навьюченные коробками и тубусами со свитками. Свитки, имевшие отношение к истории Скитальцев (их, кроме того, первого, отыскалось шесть штук) и пачки листов с переводами мы нагрузили на кондуктора. Тот дожидался нас у входа – тащить его собой, в «александрийские» фонды мы сочли рискованным. Кондрат Филимоныч возглавлял нашу маленькую процессию с охапкой тубусов в одной руке и керосиновой лампой в другой. Археолог семенил вслед за моряком; колонну замыкали мы с Евсеиным. Предстояло, добравшись до особняка, упаковать драгоценный груз и сдать его под охрану консулу. Тащить эти сокровища с собой через пол-Африки было бы безумием – но и оставлять их в подземельях тоже не стоило. Пока что тайна хранила Александрийскую библиотеку надёжнее любых запоров, но – надолго ли? Бурхардт, поддавшись нашим уговорам, собирался испросить у хедива отпуск на полгода для поездки в Берлин, в Королевский музей; оттуда путь его лежал в Россию. Картотека со свитками должны будут отправиться прямиком в Петербург, на борту русского военного клипера, которого ждали через две недели. К ценному грузу можно для верности приставить нашего кондуктора – с наказом не отходить от документов ни на шаг, пока не сдаст с рук на руки самому Корфу.
Вариант этот предложил я; немец не стал возражать. Похоже, старик был захвачен открывающимися перспективами, и, главное, не мыслил их реализации без нас. Что ж, оно и к лучшему – специалист он превосходный, а возни с расшифровкой «картотеки» ещё непочатый край. Да и где гарантия, что нелёгкая судьба исследователя не подкинет нам ещё что-нибудь по той же части?
«Одно хорошо, – подумал я, карабкаясь вверх по тайной лестнице. – кое у кого наконец-то утихнет неуёмный прогрессорский зуд. В самом деле – какие там преобразования истории одного, хоть и почти родного мира, когда впереди маячит бесконечная цепочка миров, эпох – и, возможно, все они станут доступны? А этот, поманивший своей привычностью, привязавший новыми друзьями – не более, чем первая ступенька бесконечной лестницы?
Да и Корф… я достаточно успел узнать барона, чтобы оценить неутолённый авантюрный огонёк, пылающий в душе бывшего кавалергарда. Не верю я, чтобы он сам, по своей воле отказался от такого приключения!
С такими мыслями я вступил в знакомые коридоры «верхнего подземелья». Оставалось выйти наверх и присоединиться к Садыкову с казачками, которые – никаких сомнений! – уже третий час дожидаются на площади.
И за первым же изгибом коридора навстречу нам, из темноты захлопали револьверы.
X
В темно-бурой воде канала почти ничего не отражается. Лишь кое-где, там, где деревья растут поближе к парапету набережной, их нежно-зелёная майская листва отсвечивает в глади воды. Это Никольский сквер, окружающий церковь Николы Морского.
Мы идем молча – совсем не так, как ходили недавно по Москве. Тогда мы не умолкали ни на минуту – то я расспрашивал о том, что видел вокруг, сравнивал городовых, лоточников, извозчиков, булыжные мостовые с реалиями московской жизни двадцать первого века; то мой спутник просил рассказать, какие перемены что ожидают Россию и Москву; то мы обсуждали насущные дела, оттеснявшие мысли о грядущем на задний план…
Здесь – не то. Здесь – Санкт-Петербург. Столица Империи Российской.
И мне и Николу уже случалось бывать здесь. Я ещё «в той жизни» ездил в Питер на праздник включения петергофских фонтанов; Никол побывал здесь с отцом, когда тот ездил в столицу из Севастополя по делам службы. Но всё равно – этот город был для нас чужим, незнакомым. За краткое время, до переселения в Морское Училище, мы почти ничего не успели увидеть. И вот теперь шагали по Питеру и наслаждались его чужой – и такой знакомой! – красотой: великолепием строгих проспектов, удивительной архитектурой, пронзительной прозрачностью весеннего неба.
Пересекаем Екатерингофский; заходим на покачивающийся под ногами Египетский мост. Вход на него – под высокими прямоугольными железными арками, через которые протянуты поддерживающие мост цепи[31]31
Египетский мост – мост через Фонтанку изначально был построен как цепной. После обрушения в 1905 году был заменён временным, деревянным; В нынешнем своём виде построен лишь в 50-х годах 20-го века.
[Закрыть]. Справа и слева от арок мост караулят привставшие на передних лапах темно-красные египетские сфинксы в шестиугольными фонарями на головах.
А по обеим сторонам волнуется широкая Фонтанка. Гладь реки покрыта барками и баржами; кое-где дымят мелкие пароходики и паровые катера – навигация началась в середине апреля.
Навстречу грохочут подводы. Бородатые ломовики перекрикиваются с толпящимся у открытых дверей лабазов людом. На углу – рыбные лотки: корюшка со снетками; усатый городовой провожает масленым взором фигуристых кухарок.
Утро воскресного дня. Кадетов, кому повезло не схлопотать за прошедшую неделю взыскания, отпустили «с ночёвкой к родне» – если таковая имеется, конечно, Петербурге. Мы с Николкой тоже в числе этих везунчиков – на время учёбы в Морском Училище нашим опекуном назначен Никонов. В его огромной квартире на углу Литейного мы обычно и ночевали.
Супруга Никольского, Ольга – та самая, что оставила когда-то ради него вожака леваков-анархистов Геннадия Войтюка, и вместе со своим братом переметнулась на нашу сторону, – всегда радовалась нам с Николом. Мы и на свадьбе побывали – молодые венчались здесь же, в соборе Николы Морского, как это и подобает офицеру флота.
Перебравшись в Петербург, молодая пара сразу задумалась о собственном гнёздышке – новоиспечённому капитану второго ранга не пристало жить на случайной квартире. К тому же, семейство ждало прибавления, и Сергей Алексеевич, в перерывах между заседаниями Минного комитета и работой в мастерских, где спешно заканчивали первую партию новых «рельсовых» мин, вдоволь побегал в поисках достойного жилья.
Для нас Никонов всегда находил время; вот и вчера мы допоздна засиделись у него в кабинете. Ольга, ставшая по случаю своего нового положения, не в пример мягче и спокойнее, не раз попрекала мужа:
«Серж, mon ami[32]32
Друг мой (фр).
[Закрыть], мальчикам надо соблюдать режим и ложиться спать вовремя!»
Разговор вертелся вокруг флотских дел; говорили о минах, потом перескочили на учёбу в корпусе, затем принимались обсуждать программу Особых офицерских классов. Благодаря занятиям которые Никонов вёл в Морском Училище, мы встречались с ним по два-три раза в неделю, не считая визитов по выходным.
Особые офицерские классы – это нечто типа «совсекретных» лекций для чинов флота, рангом не ниже кап-два. Смысл их в том, чтобы познакомить морских офицеров, чиновников Кораблестроительного комитета а так же инженеров с казенных Николаевского и Балтийского заводов с перспективами развития флота и судостроения на ближайшие полсотни лет.
Занятия Особых классов проводятся в шоковой манере. Курс длится две недели, всего пять занятий. Сначала «курсантам» под подписку рассказывают о «посылке из будущего», демонстрируя образцы технологий, ноутбуки и проекционные аппараты; потом все занятия проводятся на этой технике. Они заключаются в демонстрации видеоматериалов с комментариями Никонова, а после лекции проводится еще и двухчасовой семинар. На нём мы с Николом и Никонов отвечаем на вопросы и ищем для «курсантов» интересующие их сведения. Это ограничивает численность слушателей – при всём желании, не получается «обслужить» более дюжины сразу.
Забавно смотреть, как солидные капитаны первого ранга и сорокалетние инженеры-кораблестроители теснятся у экрана ноутбука и засыпают нас, мальчишек вопросами. Мы, конечно, мало что знаем, наша задача сводится, по большей части, к поиску информации в базах данных; но слушатели нередко расспрашивают не только о военно-морских делах, сколько о повседневной жизни в будущем, о событиях предстоящих ста тридцати лет.
Такие расспросы обычно не приветствуются, и дело не в том, что мы стремимся сохранить что-то в тайне. Начальство хочет полнее использовать ограниченное время занятий, не тратя его на сторонние темы. Тем не менее, полностью обойтись без посторонних разговоров не получается; я даже стал замечать, что наши «курсанты» договаривались кто и в какой день будет заниматься со мной и с Николом – нас проще «разговорить».
Этим наблюдением мы поделились с Сергеем Алексеевичем. Тот усмехнулся, покачал головой – и всё осталось по-прежнему.
За полтора месяца через курсы прошли уже два полных набора. Для них и оборудован «компьютерный зал», протянута локальная сетка; в планах стоят «усиленные курсы», на которых особо отобранной группе офицеров предстоит обучаться работе на компьютерах. Но это дело будущего; мы делаем лишь первые шаги, а Корфу и дяде Макару только предстоит осмыслить результаты.
После знакомства с очередной группой мы с Никоновым допоздна сидим, подбирая сведения о том, как сложилась судьба наших курсантов в той, оставленной нами реальности. Занятие это увлекательнейшее: каждый второй слушатель – статья «Военно-морской энциклопедии»; все вместе – эпоха в истории флота.
И – никаких имён на лекциях! Незачем этим молодым и не очень людям заглядывать в своё будущее, как и в будущее тех, что сидит с ними рядом на занятиях!
Порой становилось грустно – вот этот погибнет при Цусиме вместе со своим броненосцем; а этот, в почтенном возрасте, в Кронштадте будет поднят на штыки озверевшей от кокаина и вседозволенности матроснёй. Этот умрёт от голода в холодной петербургской квартире в феврале восемнадцатого, когда гордость не позволит обменять на базаре на хлеб адмиральский мундир.
Порой попадаются замечательные личности – то есть те, кому ещё предстоит стать такими. Так, в списках последней группы оказался мичман Алексей Николаевич Крылов. Поначалу мы с Николом удивились – даже лейтенанты считались на Особых курсах исключением. Но, прочтя биографическую справку, мы кое-что поняли. Закончив с отличием 3 года назад Морское училище, Крылов успел сделать себе имя работами по уничтожению девиации магнитных компасов[33]33
Девиация – ошибка показаний магнитного компаса из-за магнитных полей, создаваемых материалом корпуса судна.
[Закрыть] под руководством де Колонга, и теперь выслуживал годичный ценз на Франко-русском судостроительном заводе, где достраивается броненосец «Николай I». Ценз нужен ему для поступления в Морскую Академию, – мичман Крылов оказался весьма способным к наукам.
Он внесён в список группы «сверх отбора», лично Никоновым. Сергей Алексеевич выговорил себе право включать в состав слушателей тех, чья «грядущая» биография делала их особо ценными для российского флота. Заинтересовавшись, мы с Николом принялись искать в базах данных – и каково же было наше удивление, когда выяснилось, что мичман Крылов – будущее светило русской кораблестроительной науки, академик и Российской императорской, и советской Академии наук, лауреат Сталинской и иных премий, Герой Социалистического труда и прочая и прочая и прочая.
Против записи «А. Н. Крылов» в списке стоял значок, обозначающий «особое внимание». Что ж – ещё в училище гардемарин Крылов слыл непревзойдённым знатоком математики, так что и постараемся извлечь из этого обстоятельства пользу. А то Николке «царица наук» что-то не слишком даётся.
Мы засиделись за разговорами до трёх пополуночи. Встали поздно, в девять, чувствуя себя сибаритами – в Училище нас поднимали по рынде, в шесть тридцать утра. Завтракать дома не стали, и теперь, надев тёмно-синие фланельки поверх голландок, красуясь кадетскими нашивками, бескозырками и медалями на георгиевских ленточках, фланируем по улицам в поисках приличной кофейни. Вот уже и НовоПетергофский проспект; в конце его здание Николаевского кавалерийского училища. Попадающиеся навстречу кадеты-кавалеристы неодобрительно косятся на «моряков», но задираться не рискуют – правила хорошего тона не одобряют конфликты на улицах при свете дня. Вот вечером, после посещения увеселительного заведения, а так же во время оного…
Но сейчас – чудесное майское утро; петербуржское небо по-весеннему бездонно и солнечные зайчики играют на меди фонарей проезжающих пролёток, скачут по бледным листочкам, только-только проклюнувшимся на ветвях лип Никольского сквера.
Кончается Ново-Петергофский проспект. За Обводным каналом Уже виден Балтийский вокзал. Туда-то нам и надо – с вокзала ходит поезд в Красное село. Уже полстолетия это – грандиозный Военный лагерь, летняя воинская столица Российской Империи. разделённый речкой Лиговкой на авангардный (западный) и главный (восточный) берега, фронтом он развёрнут на Военное поле. Самые известные его места – Лабораторная роща, обнесённая рвом и знаменитый Царский валик. Начиная с первых чисел мая туда перебираются полки столичного гарнизона, и Военный лагерь оживает: солдаты селятся в палатках, а офицеры квартируют в деревянных благоустроенных домах, выкрашенных в цвета полков. В летних учениях участвуют десятки тысяч военных; в редкие же годы Больших Манёвров, – например, в 1853-м, как раз перед Крымской Войной – и вовсе до ста двадцати тысяч. Сейчас середина мая; полки размещаются в Военном лагере, а потом, до середины июня, пройдёт первый – строевой и стрелковый – этап сборов. После начинается то, что в наши времена назвали бы тактической подготовкой. Завершатся сборы только в августе, большими манёврами.