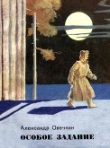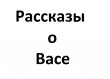Текст книги "Рассказы о смекалке"
Автор книги: Борис Привалов
Соавторы: Г. Балашов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Мой друг, Павел Шлыков, старший сержант сверхсрочной службы, показал мне одну фотографию. На ней запечатлён момент тройного рукопожатия: танкист, артиллерист и Шлыков спаяли три ладони в один мощный кулак, и, кажется, силы такой не найдёшь, что может разорвать этот узел из солдатских рук.
– Встреча старых знакомых? – рассматривая снимок, спросил я Шлыкова.
– Прежде мы знакомы не были, – уклончиво ответил старший сержант и замолчал, раскуривая трубку.
– Загадками говорите, Павел Григорьевич, – сказал я, дивясь неразговорчивости обычно столь словоохотливого друга.
После долгих расспросов я выяснил, что Шлыков имел какие-то основания не проявлять особого энтузиазма при воспоминании о данном событии. Оказалось, что старший сержант убеждён: в тот вечер он не только лично опозорился при всём честном народе, но и подразделение своё подвёл (да что там подразделение! Всю матушку-пехоту!).
– Попал я в безвыходное положение, – признался Павел Григорьевич, попыхивая трубкой. – Первый раз в жизни не выполнил задания!
– Странно от вас слышать слова типа «безвыходное положение», – удивился я. – Вы, старый фронтовик, солдатской смекалки старший сержант, как вас называет молодёжь…
– Ну, раз такой разговор пошёл, – прервал меня Шлыков, – то я всё по порядку изложу. Вы войдёте в моё положение и признаете, что оно было безвыходным… Случилось это в День танкистов. Как принято, пошли мы поздравлять «именинников»-танкистов из соседнего лагеря. А там – все рода войск собрались, как перед большим наступлением. И вот, под вечер уже кто-то предложил послушать старых фронтовиков, одним словом, вспомнить минувшие битвы и дни, где вместе рубились они.
Танкисты выделили одного старшину, весёлого парня из-под Чернигова. Артиллеристы – старшего сержанта, гвардейца из наводчиков. А пехота – меня.
Старшину из-под Чернигова мы уговорили выступить первым. Он поначалу отнекивался, но разве может кто устоять против совместных действий пехоты и артиллерии? Короче говоря, старшина взобрался на помост – а у них в лагере специальные такие мостки построены на поляне, вроде сцены, – и начал свой рассказ.
Мы с артиллеристом не стали слушать старшину, отошли от полянки на такое расстояние, чтобы даже голоса рассказчика слышно не было: хотелось нам с мыслями собраться. Сели мы на пеньки, закурили. Каждый в меру сил мозгами ворочает: о чём говорить? Мне, лично, например, никогда со сцены выступать не приходилось. Да ещё перед таким количеством слушателей… Одно дело – вспомнить к слову фронтовой случай среди друзей, на привале или в курительной комнате. А здесь ведь даже родная трубка и та не поможет – неудобно народу в глаза дым пускать…
– Волнуетесь? – спрашивает меня со своего пенька артиллерист.
– Волнуюсь, – отвечаю. – Я не народный артист, могу на сцене и растеряться.
И вот, сидим мы, молчим, каждый о своём мозгует. С полянки нет-нет да и долетит какое-нибудь слово: «залп», «ракета», «выстрел»…
Смотрю – артиллерист на земле что-то чертит. Нашёл, стало быть, подходящий эпизод. А мне, как назло, ничего в голову не идёт. Волнуюсь, как перед первой в жизни атакой.
Закурил. Вроде спокойнее стало. Про что же, всё-таки, рассказывать? Может, про то, как лейтенант Северцев помог танкам реку Сож форсировать? Или про то, как сержант Катюшин так замаскировал танки, что сам потом их найти не мог? А может, о наших разведчиках, которые в фашистском тылу все путевые знаки и указатели переставили и из-за этого гитлеровские танки в болоте застряли?..
С поляны – ни звука. Танкист так народ увлёк, что слушают его, затаив дыхание.
– Ну, да ничего, – подбадриваю я себя, – и пехота сумеет кое-что любопытное сообщить! Лицом в в грязь не ударим!
Выколотил я трубку о пенёк, набил табаком, раскурил. Артиллерист продолжает «колдовать» над своей схемой. На поляне зажгли свет, ночные бабочки с комарьём вокруг ламп хороводы водят. Прямо надо мной, меж ветвей, луна висит. И чем дольше я на неё смотрю, тем больше она осветительную ракету напоминает… Вот тут-то и вспомнился мне тот случай ночной, да так в глазах и встал, словно вчера всё произошло.
…Подбили фашисты наш тяжёлый танк. Застрял он на так называемой «ничейной» земле, совсем недалеко от вражеских окопов. Дым из него валил: видно, здорово его задело!
– Если там и остался кто живой, – говорили солдаты, – то у ребят безвыходное положение. Оттуда не выберешься: фашисты-то рядом; пристреляна, небось, каждая былинка…
А сержант Катюшин расправил свои усищи и возражает:
– Насчёт безвыходных положений – поосторожней! Можно попытаться ещё машину спасти!
Тут его вопросами завалили по самое горло: как да что надумал?
– Подробности я командиру доложу, – сказал Катюшин, – а вот пробраться мне к этому танку будет, действительно, трудновато. Придётся артиллеристов просить, чтобы огнём прикрыли.
И ушёл к командиру.
Без него спор ещё пуще. Что Катюшин придумал? Чинить танк нельзя: гитлеровцы каждый звук слышат. Если только подозрение будет, что в машине кто-нибудь живой остался, сейчас же танк добьют. Тем более, ясно, фашисты его считают своим трофеем. Наверное, и командованию сообщили: захвачен, мол, советский танк. Туда уже гитлеровцы ползали, по броне лазали, но внутрь попасть не могли, назад ушли. Вот-вот тягачи появятся, чтобы подбитую машину на буксир взять…
Пока споры у нас шли, Катюшин командиру свои мысли доложил, и лейтенант его план одобрил. Пополз сержант к танку. Мы его огнём прикрываем, артиллерия тоже прикурить фашистам даёт. Как дополз Катюшин до машины, мы видели, а потом исчез – темно всё-таки, ночь, хоть и висят плошки над полем. Гитлеровцы, пожалуй, тоже видели Катюшина. Но они ему не препятствовали к машине подобраться: очевидно, считали, что «трофей» их вроде мышеловки, туда-то залезешь, а как назад выберешься? «„Язык“, мол, сам пришёл, по доброй воле, повезло нам, дескать!» – думают.
…И только я до этого места своих воспоминаний дошёл, как где-то рядом – залп. Я даже на пеньке подскочил и трубку из рук выпустил. Артиллерист рядом стоит, смеётся.
– Это, – говорит, – танкист своё выступление кончил! Теперь я иду. Мне такого залпа аплодисментов не сорвать, но постараемся. Артиллерия от танков никогда не отставала!
И пошёл «бог войны» в звании старшего сержанта на сцену. А у меня волнения словно и не бывало. Закурил своё дымило – так мою трубку в отделении называют – и стал про тот «безвыходный» случай додумывать. Вспоминаю, как дело было.
…Ночь прошла тихо. Наша артиллерия, правда, фашистам спать не давала. Полез, было, один тягач к нашему танку, да его сразу на прикол поставили. И вот, под утро уже, вылезают два вражеских тягача. Артиллерия бьёт, но неточно: попаданий нет. Мы переживаем, даже в сердце колет. А фашисты тем временем сцепили два тягача, прикрепили трос от последнего к нашей машине и начинают её за собой тащить.
Тут как загрохочет мотор, да как рванёт наш танк, мы просто остолбенели! А машина идёт к нам и тащит за собой двух фашистских черепах! Артиллеристы заградительный огонь ставят между танком и гитлеровскими окопами. Фашисты пристреляться не успели, как все три машины уже на нашу сторону перебрались. Открывается люк, а оттуда Катюшин и танкисты вылезают.
Мы кричим «ура», поздравляем Катюшина, а он смеётся:
– Вот как, – говорит, – у нас положено: за одного подбитого двух неподбитых берут!
Сержант, оказывается, догадался, что в танке экипаж жив, когда дым увидел. Похоже это было на дымовую шашку. А у танкистов есть такой приём: когда у машины небольшая поломка или повреждение, она останавливается. Чтобы её противник не добил, зажигают шашку. Дым валит! Кажется, что танк горит, и артиллерия врага оставляет его в покое: мол, машина готова, можно её со счёта списать. Вот Катюшин-то и заметил, что дым вроде шашечный. Но уверенности у него не было, решил проверить. Пополз. Оказалось, что повреждение, действительно, небольшое, но починить нельзя – фашисты будут звук металла слышать. И Катюшин предложил танкистам маскироваться… Звуком!.. Подгадывать все шумы под артиллерийские залпы. Наши артиллеристы, предупреждённые командиром, и вели поэтому обстрел передовой линии фашистских укреплений. Самое страшное было, что тягачи подойдут прежде, чем всё будет исправлено. А на починку четыре часа надо. Тягач вражеский сунулся – подбили. И только через четыре часа наши артиллеристы позволили гитлеровским тягачам к машине подойти… Ну, а дальше всё шло, как по нотам: когда фашистов из машин вытащили, то они даже не сопротивлялись, до того ошарашены были: им-то показалось, что наш танк сам по себе пошёл! Ведь им сказали, что в нём весь экипаж сгорел!
…Взрыв аплодисментов на поляне вернул меня к пеньку, трубке, круглой луне, запутавшейся в ветках.
«Неужели артиллерист уже кончил свой рассказ?» – подумал я. Что-то очень быстро! Наверное, крохотный случай откопал, минуты на три всего… Ну, что ж, теперь очередь дошла и до «царицы полей».
Поправил я пилотку, одёрнул гимнастёрку, пошёл.
Выхожу на помост и вижу: артиллерист с танкистом целуются, хлопают друг друга по плечам, и разговора нет, только слышится:
– Помните?
– А вы помните?
– А как мы назад пришли, помните?
Короче говоря, типичная встреча соратников-однополчан.
– Эх, друг, – говорит мне танкист, не выпуская из рук ладони артиллериста. – Тут у нас такая встреча! Историческое совпадение. Понимаешь – в одном бою были! Я свой случай рассказал, а он выходит и начинает тот же случай с артиллерийской точки зрения докладывать! Вот встреча, так встреча! Ведь в одном бою! Всё помнится, как будто вчера это было: ночь под Харьковом, «ничейная земля».
– А как вы врага на буксире-то приволокли? – вставил артиллерист.
– Разрешите задать вопрос по существу дела, товарищ старшина, – говорю я, – сержанта Катюшина знаете? К вашему танку пробирался в ту ночь под Харьковом.
Танкист даже руку артиллериста выпустил – до того удивился.
– Катюшина? Да как же!.. Усатый такой сержант! Золотая голова! Он нас и надоумил бесшумный ремонт произвести!
– Ну, так вот, – говорю, – а я его друг. В ту ночь в специальной снайперской засаде просидел– подступы к вашей машине держали на мушке на тот случай, если фашисты захотят танк взорвать или заминировать его. Родня мы, значит!
Что тут началось! Ни пером описать, ни фотоаппаратом заснять. Николай Огоньков, фотограф наш, правда, старался всю плёнку до конца израсходовать, нащёлкал кадров двадцать… Вот и этот – где мы трое – в том числе. Ну, а звук нельзя было на пленку записать, жаль. Крику много было. И наше родное «ура», и просто неорганизованные восторги. Разве я мог после этого всего выступать? Подготовленный рассказ погиб, а другого эпизода сразу не вспомнишь… Последнее же слово – оно же, кстати сказать, и первое – осталось за танкистом… Вот как прошло, точнее, не прошло моё выступление со сцены, – вздохнул Шлыков и стал раскуривать трубку. – Положение было безвыходное: задание рассказать эпизод есть, а возможности его рассказать нет… Не хватило у меня смекалки! Надо было, знаете, какой случай сообщить? Про ветер над рощей! Неужели вы не знаете? Неужели я вам не рассказывал?!
И старший сержант, спрятав фотографию, начал рассказывать мне очередную историю о солдатской смекалке…
ПРИ РАЗВЕРНУТОМ ЗНАМЕНИ
Ксения Ивановна стоит на балконе.
Улица наполнена праздничным гулом и музыкой. Пурпурные ручьи флагов вливаются в прохладный солнечный воздух. Сверху улица кажется покрытой цветастым ковром: колонны демонстрантов, расцвеченные стягами, плакатами, знамёнами, двигаются к центру. Гремит радио, то там, то здесь слышатся взрывы смеха, ближайший оркестр трубит марш, другой – на перекрёстке – исполняет какую-то задорную пляску, третий – в конце улицы – поддерживает песню.
– Вот ты где! – выходя на балкон, говорит Огоньков жене. – Ну, а мы нынче с почётом: демонстрацию начинали! Парад кончился, и сразу наш завод пошёл. Знатно, мать, получилось!.. Писем от Николая нет?
– Нет, – вздыхает Ксения Ивановна.
– Только он один не прислал, – говорит Огоньков. – А ведь за ним весь завод смотрит, он в армии нашу заводскую честь поддерживает… Что ж я скажу людям: из армии, мол, писем нет?
К Огоньковым – старшим (раньше – в маленький бревенчатый домик на Базарной улице, а теперь – в новую квартиру заводского Дома Стахановцев) прилетали, приезжали, приплывали письма со всех концов страны, отовсюду, где жили и трудились шестеро сыновей и три дочери Фёдора Парфёновича и Ксении Ивановны.
На заводе, где начинали свой трудовой путь все Огоньковы, где полвека проработал Фёдор Парфёнович, рабочие часто спрашивали:
– Что твои «орлы» пишут, Парфёныч? Фамилии не позорят? Нашу честь заводскую поддерживают?
«Орлы», действительно, фамилии не позорили и честь заводскую поддерживали, Никита Огоньков командовал на Урале одним из передовых заводов; Евгений и Михаил – конструкторы, к празднику закончили модель нового станка; Семён – лучший стахановец завода, один из виднейших рационализаторов производства; Анатолий – токарь, лауреат Сталинской премии; Лиза на днях защитила дипломный проект и получила звание инженера; Зоя – чемпионка Республики по прыжкам – на последних соревнованиях улучшила свой рекорд; Маша на «отлично» учится в Московском Энергетическом институте. Николай Огоньков служит в рядах Советской Армии, получил недавно звание ефрейтора, имеет несколько благодарностей… Но ото всех Огоньковых к празднику пришли письма, а от Николая – ни слова.
Мысль об этом не покидала Фёдора Парфёновича даже в ту торжественную минуту, когда его бригаде вручали (вечер состоялся накануне праздника в заводском клубе) переходящее знамя. Была надежда, что письмо со штампом «воинское» придёт седьмого утром или днём, но почтальон прошёл мимо огоньковской квартиры…
– Может, письмо опаздывает? – успокаивающе произносит Ксения Ивановна.
– Твоими бы устами да мёд пить, – отмахивается Фёдор Парфёнович и уходит с балкона. Уже из столовой доносится его голос:
– А вот как мне быть, когда за праздничным столом люди о нём спросят? Эх, Николай, Николай!..
* * *
…Николай возвращался в расположение части. Он только что произвёл разведку и должен был по прибытии доложить свои соображения командиру, старшему сержанту Шлыкову.
Шёл мелкий осенний дождик, нудный, как комариное жужжание. Земля лоснилась от воды, словно была смазана жиром. Колючий кустарник скрёб по намокшей плащпалатке, пытался сорвать её с плеч.
Ефрейтору Николаю Огонькову и находящимся в его распоряжении разведчикам предстояло выйти в 10.00 к хутору Безымянный. Если идти напрямик, то на пути лежит болото. Можно двигаться в обход, но, во-первых, это значительно удлиняет путь, а, во-вторых, местность, по которой придётся пробираться, простреливается пулемётным и миномётным огнём «противника»…
Старший сержант Шлыков выслушал доклад ефрейтора Огонькова.
– Хотите идти топью?.. Правильно, – одобрил он. – Путь этот труднее и тяжелее, но сокращает расстояние на три с половиной километра… И противник меньше будет охранять подходы к хутору со стороны трясины… Срок – три часа. В десять ноль-ноль вы должны быть в Безымянном! Помните, что от вашего успеха зависит успех всей боевой задачи! Ясно? Сверьте часы…
Четверо разведчиков шли через кусты к болоту. Колючий дождик дробно стучал по плащпалаткам, и казалось, будто кто-то, над самым ухом, работает на морзянке… Кругом было столько воды, что солдаты не заметили, как началось болото.
– Стой! – приказал Огоньков. Он оглядел разведчиков. Маленький коренастый харьковчанин Крыж, длинный туляк Семёнов, быстрый черноглазый Серго Салтадзе. Николай знал, что эти солдаты за любое задание берутся с задором, с огоньком, памятуя – в учёбе, как в бою: чем труднее задача, тем больше чести тому, кто её выполнит.
– Выломать палки подлиннее, – сказал Николай. – Прежде чем шаг сделаете, прощупайте всё вокруг. Ясно? Глазу тут веры не должно быть. Как говорится: «разведчик глазам не верит». Всякое может случиться. Осторожно шагать, как по заминированному полю. Ясно? Поскользнёшься – провалишься. Вытащить-то вытащим, а задержка? Потеря времени… Палки выбирать покрепче!
Дождь усилился. Шлёпанье капель по плащпалаткам сливалось с бульканьем воды под ногами, с чавканьем вытаскиваемых из болотной жижи сапог. Первым провалился Семёнов. Куски травы плавали на уровне его груди, тут же на воде лежала палка, а в поднятой над головой руке он держал автомат.
– Болотное крещение! – сказал Салтадзе, ложась на трясину и протягивая другу палку. – Держись.
Через несколько минут Семёнов, облепленный грязью, шагал за Николаем.
Капли вдруг исчезли, и небо, как гигантский пульверизатор, начало сеять на солдат водяную пыль. Сержанту то и дело приходилось сверять направление по компасу; шагали зигзагами, лавируя среди кочек, видимых ориентиров не имелось, можно было легко сбиться с курса.
Кочки пружинили. Останавливаться на них было нельзя – они вдруг начали ползти, уходить куда-то вглубь: такое ощущение бывает, когда стоишь на крутом песчаном берегу и под тобой начинается оползень…
Разведчики прошли немного, а потрачено было времени час десять минут.
«Торопить ребят бессмысленно, – думал Николай, – быстрее двигаться невозможно, но, шагая с такой скоростью, мы не выполним задания. Надо что-то придумать… Хотя бы до островка поскорее добраться – до него ещё метров двести…»
Идти было очень тяжело. В километре около тысячи двухсот шагов. И каждый шаг складывается из движений: надо поднять ногу, на которой гирей висит болотная грязь, куски какой-то гнили, трава, перетащить ногу вперёд, затем поднять другую ногу… А глаза вслед за палкой прощупывают каждый сантиметр поверхности, пытаясь выяснить, что скрывается под серо-зелёным болотным покровом…
…Потом провалились почти в одно и то же мгновение Салтадзе и Крыж.
Николай и Семёнов сначала вытащили Крыжа, так как он был маленького роста и из трясины только торчала голова и рука с автоматом, затем выбрался Салтадзе.
Через несколько минут разведчики вышли на островок.
– Отдых! – скомандовал Николай и, взглянув на часы, добавил: – Десять минут!
Как приятно почувствовать под ногами твёрдую, надёжную землю! На островке, наверное, давно никто не бывал: мох и плесень почти совсем скрыли покосившуюся дощатую будку, построенную, видимо, какими-то охотниками, добывающими болотную птицу. Сквозь прогнившую крышу лил дождь, все стены сочились, но солдатам казалось, что в будке всё же суше, чем под открытым небом.
Салтадзе и Крыж перечиркали полкоробки спичек и, наконец, закурили. Семёнов принялся счищать грязь с плащпалатки. Николай поглядел на часы. Восемь тридцать. В Безымянном нужно быть в десять ноль-ноль. А по болоту идти ещё около двух километров.
– Если бы не дождь, куда спокойнее было бы! – сказал Семёнов. – А то воды в топь подбавилось…
– Это чепуха, – ответил Крыж. – Вот в Полесье болота, так это болота! Их теперь, правда, осушают, но были страшенные топи!.. Мы туда на экскурсию ездили, когда я по торфу работал.
– И не по таким болотам в Полесье, – сказал Николай, – наши во время войны проходили! Старший сержант Павел Григорьевич Шлыков рассказывал, как они под огнём противника провели через полесское болото всю часть, используя бурелом и разбитые снарядами стволы деревьев. Гвардейская работа!
– Это да! – восхищённо сказал Серго Салтадзе. – Это герои!
– Не забыли, что письма надо домой писать? – спросил вдруг Николай. – Поздравить с годовщиной Октября, рассказать о своих делах. Сегодня четвёртое число – через три дня праздник!
«Не хватало только, – подумал он тут же, – чтоб я сегодня сорвал выполнение боевого задания… Нечего сказать, сделаю подарок к празднику! А как пройти два километра по трясине за полтора часа? Да ещё в дождь! Хоть семимильные сапоги изобретай…»
«От вас зависит успех выполнения боевой задачи», – вспомнились слова командира.
Солдаты, увидя, что ефрейтор задумался, приумолкли.
– Надо использовать принцип лыж! – решил Огоньков, – Ведь при передвижении по труднопроходимому болоту давление на единицу площади из-за большой несущей поверхности у лыж (по сравнению с сапогом) сильно уменьшено! Не зря учили! Но что использовать как материал?
Николай выглянул из двери будки, огляделся.
Не было на мшистом, осклизлом от ливней островке ни жердей, ни ивняка, ни бурелома и щепы, как тогда у Шлыкова, в Полесье…
Что же делать? «Смекалка-выручалка», вспомнились слова Шлыкова. Действительно, не бывает же безвыходных положений…
Сняв пилотку, Огоньков взъерошил короткие волосы. Неожиданно крупная капля упала на лоб Николаю. Ефрейтор вздрогнул и вскинул глаза вверх. На расползающемся, бархатном от плесени потолке мерцали тысячи искрящихся точек – это в каплях отражались огоньки папирос…
– Нашёл! – вскочил Огоньков. – Отставить отдых! Ломать будку! Быстро!
В несколько секунд будка превратилась в груду досок.
– Делай, как я! – приказал ефрейтор. Он выломал из стены две доски потоньше и принялся прикручивать их шнуром к ногам, как лыжи.
– Теперь… мы… как по тротуару пойдём, – привязывая доски, говорил Салтадзе. – И как это я не догадался! У нас в Цихисдзири…
– Отставить разговоры! – приказал Николай. – Проверить: у всех крепко держатся доски?
Кочки болота лежали впереди, затушёванные дождём, похожие на ежей… Вода хлюпнула под «лыжами» Огонькова. Нога не ушла в трясину – доска хорошо держала ефрейтора. Шаг… ещё шаг… Насколько легче идти!
– Вперёд!.. – скомандовал Николай.

– Вперёд!.. – скомандовал Николай.
* * *
– Товарищ старший сержант, – доложил связист, – вас вызывают с хутора Безымянного!
Шлыков взглянул на часы. Стрелки показывали без двадцати десять. Старший сержант подошёл к аппарату, взял трубку…
– Поздравляю вас, товарищ ефрейтор, и ваших солдат с отличным выполнением задания!
– Служу Советскому Союзу! – услышал Павел Шлыков голос Николая Огонькова.
* * *
…Почтальон поднимается на площадку, подходит к двери, даёт длинный звонок.
– Кто там?
– Почта, Фёдор Парфёныч!
На площадку из раскрывшейся двери Огоньковых вырывается весёлый шум. Почтальон видит накрытый стол, гостей, рубиновый отблеск наполненных вином бокалов.
– Письмо? Воинское?! – взволнованно спрашивает Огоньков.
– Воинское, – улыбается почтальон.
– Может, зайдёте в дом? – говорит из-за плеча мужа Ксения Ивановна. – По случаю праздничка выпьете, закусите с нами.
– Спасибо, – строго отвечает почтальон, – но в данный момент мы на работе! Уж как-нибудь в другой раз. А то в других квартирах тоже, небось, писем ждут! Поздравляю вас с праздником, желаю успехов! До свиданья, – и он идёт вверх по лестнице.
– Ого! – произносит Фёдор Парфёнович, отрываясь, наконец, от письма. – Николай-то наш каков!
Он протягивает гостям фотографию. Со снимка глядит ефрейтор Огоньков в полной форме, строгий и подтянутый, а сзади него – развёрнутое Знамя части.
– При развёрнутом Знамени! – гордо говорит Фёдор Парфёнович, занимая своё место за столом и берясь за бокал. – Поднимаю тост за тех, кто при развёрнутом Знамени! Ведь мы, советские люди, стоим во главе всех честных людей, при развёрнутом Знамени коммунизма! И на Знамени нашем написано – СТАЛИН!