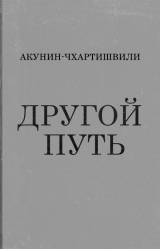
Текст книги "Другой путь"
Автор книги: Борис Акунин
Соавторы: Заместитель главы
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
я выводил формулу аристономии) много прекрасных рассуждений о любви к человечеству,
но в вопросах Любви это стройное учение оказывается не просто некомпетентным, а, кажется,
даже не считает сей предмет заслуживающим серьезного обсуждения. В китайском государстве,
правящее сословие которого на протяжении веков придерживалось конфуцианства, Любовь
считалась материей низменной и недостойной восхваления – в отличие от дружбы и семейной
привязанности.
Согласно конфуцианской доктрине, жену или мужа должны были выбирать родители, при этом
фактор Любви совершенно не учитывался. Нравственный долг и семейные ценности ценились
несравненно выше интимного чувства. Если супруги, пожив вместе, полюбят друг друга –
прекрасно; если этого не произойдет, ничего страшного. Состоятельный мужчина может дать волю
чувствам, взяв себе наложницу по вкусу, – эти отношения семье не угрожают и важности
не имеют.
Главная идея дальневосточного Пути состоит в стремлении души, пройдя цикл возвышающих
перерождений, в конце концов слиться с Буддой, когда «я» превратится во всемирное «не-я».
При таком взгляде на смысл существования идея Любви как соединения двух половинок
андрогина выглядит нелепой. Зачем соединяться душой с другим человеком, когда впереди –
воссоединение с самим Буддой?
Завершив свое краткое и, несомненно, поверхностное знакомство с индо-буддийской
философией, я был вынужден придти к выводу, что много полезного в этой цивилизации
для моего поиска я не обрету, и свет с Востока мне не воссияет.
Пришлось возвращаться на Запад.
(Фотоальбом)
* * *
После лабораторных занятий стояли вдвоем на крыльце Госпитальной клиники, дымили. Главврач,
формалист и старорежимная сволочь, не разрешал курить даже в уборной – гонял на улицу, мороз
не мороз.
Притоптывали ногами от холода, дымили одной папиросой на двоих: у Мирры на плечи накинута
ее заслуженная бекеша, у Лидки – элегантная мантошка на рыбьем меху.
Подруга рассказывала Мирре тихим, страшным голосом про свою новую любовь, совершенно
безумную и, конечно, безнадежную. У Лидки все любови были такие – совершенно безумные
и безнадежные. Мирра морщила нос, но слушала с интересом. Не выдержала только, когда Эйзен
совсем уж зарапортовалась, сказала, что, видно, такая у ней судьба – вечно обретаться в аду, Эвридикой, за которой никогда не спустится никакой Орфей. Еще и носом шмыгнула, со слезой.
– Дура ты, а не Эвридика. Вроде современная девушка, сверхпередовой областью медицины
занимаешься, а сама… Кто так вообще сейчас разговаривает? «Обретаться в аду», «Эвридика»!
Ты кто – рентгенолог или осколок римской империи?
– Во-первых, это не римская мифология, а греческая, – ответила Лидка, уязвившись.
Она не любила, когда ее попрекали несовременностью и в особенности старомодностью. – А во-
вторых, скажи-ка, Миррочка, чьи это стихи?
И, закатив свои томные глаза, продекламировала:
И вдруг, забыв слова стыдливости и гнева,Приникнет к юноше пылающая дева…Еще, о Гелиос,
о царственный Зенит!Благослови сады широкогрудой Гебы,Благослови шафран ее живых
ланит,На алтаре твоем дымящиеся хлебы,И пьяный виноград, и зреющие сливы,Где жертвенный
огонь свои прядет извивы.
– Тютчев какой-нибудь, – пожала плечами Мирра. – Или Анненский. Сейчас так никто не пишет.
– Нет, это стихотворение Ларисы Рейснер, прекрасной амазонки Революции! – торжествующе
объявила подруга. – И если Лариса Рейснер не современная, передовая женщина, то пусть и я
буду такая же!
Она обожала Ларису Рейснер, которая и для Мирры, конечно, являлась непререкаемым
авторитетом, женщиной новой эпохи, бесстрашной и свободной, дающей мужчинам сто очков
вперед.
Крыть было нечем.
– Ладно, срезала, – усмехнулась Мирра. – Видно, от любви и у товарища Рейснер гайки с болтов
слетают.
– От любви человек начинает думать и говорить языком любви, – убежденно сказала Лидка, –
а совсем не таким, каким обсуждают примусы или жилищный вопрос.
– Ладно, широкогрудая Геба, переходи от лирики к фактам. Давай, рассказывай.
– Первый раз я увидела его три дня назад, в театре Корша. Олимпиада Аркадьевна, билетерша,
я тебе про нее рассказывала, посадила меня на чудесное место в амфитеатре, под ложей. Он был
прямо надо мной.
– Кто, царственный Зенит?
Но Лидку было уже не сбить. Она придерживала тоненькой – каждую косточку видно – рукой
ворот пальтишки, длинные ресницы полуопущены, под глазами синие тени, – и мечтательно
тянула слова:
– Сначала я услышала го-олос… Потом увидела серый тви-идовый рукав, лежащий на лаковом
бордюре ло-ожи… Блеснули очки в стальной опра-аве… Потом, во мраке театрального зала –
зеркальный пробор… Как Теодор говорит, как держится!
– Теодор? Иностранец что ли?
– Латыш.
– Твидовый рукав, пробор на бриллиантине. Нэпман?
– Сама ты нэпман! Он герой Гражданской войны, состоит на какой-то секретной работе, часто
ездит за границу. Это настоящий европеец!
– А как же Кторов?
Последнее время Эйзен была влюблена в актера Кторова из того же коршевского театра.
Разумеется, безумно и безнадежно, потому что Кторов женат на актрисе Поповой и души в ней
не чает, а Попова на десять лет старше и вообще ужасная женщина.
Лидка только пальчиками плеснула – про Кторова ей было уже неинтересно.
– Ты хоть с этим Теодором познакомилась?
– Что ты! У него красавица-жена и маленькая дочь. Это препятствие, которое не преодолеешь…
Ты бы видела, как он прогуливается с коляской. Такой нежный отец! И совсем не стесняется быть
ласковым, не то что другие мужчины.
– А, вот ты где последние дни пропадаешь. Выследила? У подъезда караулишь? – Мирра
осуждающе покачала головой. – Гляди, Лидка. Холодище, а на тебе ботики фетр, платьишко
«шемиз», чулочки фильдеперсовые. Заработаешь пневмонию, да еще придатки застудишь.
Погляди на себя. Глиста зеленая. Тебя ветром шатает, месячные через раз.
Каждый день после занятий Эйзен подрабатывала в рентгеновском кабинете, ей еще и мать
из Ленинграда присылала, чтоб дочка хорошо питалась, но все деньги уходили на шмотки
и билеты в театр или кино, а есть Лидка вообще не ела. Говорила, аппетита нет.
– Ох и парочка мы с тобой, – сказала Мирра, случайно взглянув на отражение в окне: одна
длинная, тощая, вторая маленькая, плотная, в распахнутой бекеше. – Пат и Паташон. Дон Кихот
и Санчо Панса… Ладно, валяй дальше рассказывай.
– Потом. Андрогин идет, – шепнула Лидка, смотря ей через плечо.
Мирра обернулась.
Из дверей вышла Андронова, пятикурсница с военно-медицинской кафедры. Увидела – помахала
рукой. Лидка ее не любила, говорила, что это не женщина, а недоразумение. «Андрогин» – это
что-то из древней философии. Полумужик-полубаба, кажется.
Андронову действительно издали можно было принять за парня. Она стриглась под ноль, ходила
размашистой походкой и одета была в военное: шинель, буденовку, сапоги. Мирра уважала
Андронову за целеустремленность и волевые качества. Вот кто тоже имел все шансы стать первой
выдающейся женщиной-хирургом, но военно-полевая медицина так далека от той области,
которой собиралась заниматься Мирра, что соперничать им, слава богу, не придется.
– Здорово, Носик. – Андронова крепко пожала руку. Лидке небрежно бросила: – А, это ты, Эйзен.
Она была принципиальная. Рукопожатием обменивалась только с теми, кого уважала. Кого
не любила – игнорировала. С Лидкой это она еще любезность проявила – только потому что
Миррина подруга.
– Слушай, Носик, я с тобой должна про завтрашний актив поговорить. Чтоб выработать единую
позицию по снегоборьбе. Слыхала, вчера с крыши глыба свалилась, первокурсника с тяжелым
сотрясением мозга увезли? Надо поставить перед ректоратом вопрос ребром: или делайте сами,
или не мешайте ячейке выполнить за вас вашу работу…
Говорила она энергично, толково. Перечисляла аргументы – загибала сильные, белые
от дезинфекции пальцы. Но при этом успевала смотреть на входящих-выходящих. С кем-то
здоровалась по имени, кому-то просто кивала, на кого-то враждебно суживала глаза.
Вдруг, прервавшись на полуслове, подошла к человеку, появившемуся из-за двери, поздоровалась
за руку, вернулась.
Мирра с любопытством обернулась – кому это такая честь?
Оказался знакомый. Ну, то есть не то чтобы знакомый-знакомый, а виделись недели три назад,
разговаривали. Этот, как его, Клобуков. Неприятный.
Мирра не сразу его узнала, потому что он оброс светлой бородкой. За спиной у ассистента-
анестезиста висел все тот же мешок с карманчиками, на лямках; из-под мышки торчали какие-то
дощечки с маленькими колесиками, непонятного назначения.
– Кто это? – спросила Лидка. – Лицо интеллигентное.
– Хирурга Логинова знаешь? С козлиной бороденкой, рожа надутая. Буржуй, на авто с шофером
ездит. Это его ассистент, специалист по обезболиванию. Тоже фрукт, вроде своего профессора. –
И вернувшейся Андроновой: – Ты чего с ним за руку? Он же сволочь, недобитый беляк. У Врангеля
служил.
Та засмеялась:
– Кто, товарищ Клобуков? Ну ты сказанула! Он конармеец, фронтовик, с белополяками воевал.
Мне знакомый буденовец про него рассказывал – мировой, говорит, мужик. Свой на все сто,
даром что интеллигент.
Аспирант спустился с крыльца, повозился со своими дощечками, и они превратились в самокат.
Взялся за алюминиевые ручки и быстро, с удивительной мягкостью покатился вдоль
по Царицынской, отталкиваясь от заснеженного тротуара ногой в добротной нэпманской бурке
и блестящей галоше.
– Здорово шпарит! – сказала Андронова. – Он у нас в группе ведет курс по анестезии в военно-
полевых условиях. Жутко интересно!
Лидка вздохнула:
– Жалко, некрасивый. И рост маловат.
Мирра же молчала, глядя вслед шустрому самокатчику сощуренными от ярости глазами. Ах так?
Ты, значит, у барона Врангеля служил?
Хамства она не спускала никому. Особенно интеллигентского, которое не от пролетарской
простоты, а от издевательства.
Ну гляди, Клобуков. Выставил дурой перед Андроновой? Ладно. Узнаешь, как Мирре Носик голову
морочить.
* * *
Давать обидчику сдачи нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. Это правило Мирра соблюдала
железно.
Сразу же пошла в секретариат. Спросила у сморщенной мымры, сидевшей за «ундервудом», какое
завтра расписание у ассистента Клобукова.
Мымра ей:
– А вы, гражданка кто? Вам зачем? Вы по личному вопросу?
– По общественному, – мрачно ответила Мирра, уже чувствуя, что сушеная слива ничего ей
не скажет.
У них тут было гнездо старорежимной науки. На стенах портреты исключительно Пироговых-
Боткиных. Даже Ильича нет, хотя только что прошла траурная годовщина.
– Обратитесь к профессору Логинову. Это его ассистент, – отрезала секретарша. – А меня от работы
не отрывайте.
И демонстративно заколотила костлявыми пальцами по клавишам.
Мирра повернулась, но напоследок дала залп прямой наводкой, потому что не уходить же,
поджав хвост.
– Думаете, испугаюсь? Это вы все тут перед Логиновым стелитесь. Тоже еще богдыхан выискался.
И спрошу!
Тут случилось чудо. Секретарша улыбнулась.
– Постойте, барышня. Сейчас посмотрю…
От изумления Мирра даже спустила ей «барышню». Переписала расписание гнусного Клобукова
на завтра и, на всякий случай, на послезавтра.
23 января анестезист в двенадцать ассистировал у профессора Логинова (обыкновенная
апендэктомия – даже странно, что светило хирургии тратит время на ерунду) и в три часа
у профессора Бруно, восстановление челюстно-лицевого сустава, – на такой операции Мирра
и сама бы с удовольствием поассистировала или просто посмотрела бы, это была ее тема.
24 января в одиннадцать – опять Логинов. Проникающее огнестрельное ранение грудной клетки
с изолированным повреждением перикарда. Ого!
Ну всё, конармеец. Будет тебе «в схватке упоительной, лавиною стремительной». Не уйдешь
от расплаты.
Назавтра поймать Клобукова не получилось – Мирра застряла на ячейке, где развели канитель
по вопросу бибсовета: что делать с имеющейся в университетской библиотеке классово чуждой
литературой – уничтожить или запереть в спецхран. Мирра чуть не охрипла, продавливая свою
резолюцию, хотя ясное вроде бы дело. Всю немедицинскую дребедень – романчики,
литературные журнальчики – выкинуть к черту, пускай вузовцы не тратят время на ерунду. А всё
научное оставить, будь автором хоть доктор Дубровин, председатель черносотенного «Союза
русского народа».
В общем, проворонила анестезиста. Повезло очкастому 23 января.
Но зато уж на следующий день Мирра села в засаду почти сразу после начала операции. Ждать
пришлось больше трех часов. Времени даром она не теряла, штудировала фармакологию
Кравкова, скоро зачет сдавать. Ну и распалялась, конечно – чем дальше, тем больше. Поганый
Клобуков мало что тогда поиздевался, так еще и теперь заставлял вести себя глупо.
Вот он наконец вышел, направился в курилку. У них тут в клинике люди делились на два сорта: вузовцев, значит, гоняли дымить на мороз, а медперсоналу – комфорт и привилегии.
Ассистент нес свой мешок и дощечки, что-то немелодично насвистывал, назад не оборачивался.
Мирра шла тихонько, как кошка за мышью. Затевать ласковый разговор в коридоре не имело
смысла. Выглянет на шум какой-нибудь профессор, тот же Логинов, не дадут поговорить
по душам.
А в курилке – в самый раз. Не сбежит.
В маленькой голой комнате никого не было. Когда Мирра вошла, Клобуков сидел в кресле нога
на ногу, раскуривал трубку. Надо сказать, что с усами-бородкой, да с трубкой, он выглядел
не таким обмылком, как тогда, в новогоднюю ночь. У некрасивого мужнины волосяной покров
на лице выполняет ту же функцию, что косметика у женщины. Усы, хоть пока и коротенькие,
прикрыли прохейлию верхней губы, щетина компенсировала слаборазвитую подбородочную
мышцу. (Подобные вещи Мирра отмечала автоматически – выработала в себе эту полезную
для дела привычку.)
– Здра-асьте, – протянула она. Поскольку мещанской привычки здороваться у Мирры не имелось, если она говорила кому-то «здрасьте», это было не приветствием, а чем-то вроде артподготовки. –
Зачем же вы мне набрехали, гражданин Клобуков? Сам, значит, воевал у Буденного, а мне наплел
про Врангеля? По-вашему, это смешно?
Начала Мирра тихонечко, даже вкрадчиво. Берегла пока голос.
Вариантов было три. Или сейчас сделает вид, что ничего не помнит. Или скажет что-нибудь наглое.
Или, что вероятней всего, заблеет какие-нибудь оправдания. Интеллигенты трусят, когда чуют, что дело идет к крупному разговору.
Во всех трех случаях Мирра собиралась выдать сучьему ассистенту по первое число.
Следующий вопрос, тоном чуть повыше, предполагался следующий: а если бы она пошла в органы
просигнализировать о бывшем врангелевце, проверить – действительно ли про это знают те, кому
положено знать такие вещи? Вообще-то по-комсомольски она была даже обязана это сделать.
Кем бы она оказалась перед товарищами чекистами? Клеветницей? Идиоткой? Ничего себе
была бы шуточка!
Но ассистент не стал хамить и не заблеял, а улыбнулся – не нагло, скорее приязненно, будто был
рад Мирру видеть.
– А-а, пятикурсница Носик. Новогодняя снегурочка. – И только потом наморщил лоб, вдумавшись
в смысл вопроса. – Почему наплел? Я действительно побывал у Врангеля, а потом служил в армии
Буденного. Война была странная, всякое случалось… – И оживленно: – Знаете, я потом много
думал про ваши слова. Ну, помните, вы тогда сказали, что анестезиолог – женская профессия.
Делай, что хирург скажет. И я пришел к выводу, что вы, наверное, правы. Я недостаточно тверд –
или, по вашей терминологии, недостаточно мужественен, – чтобы быть хирургом. И вообще
в моей жизненной позиции безусловно есть нечто женское. Я не решаюсь подступиться
к коренному решению больных проблем, а ограничиваюсь лишь тем, что стараюсь облегчить
вызванные этими проблемами страдания. Уж это-то почти всегда возможно.
Он говорил так, будто они закадычные приятели и расстались совсем недавно. Никакой издевки
или высокомерия. Это сбило Мирру с атакующего настроения. Захотелось не ругаться, а возразить.
– Обезболивание – вроде обмана. Само по себе не лечит и не спасает. И потом, как быть, если кто-
то орет от боли, а под рукой нет ни хлороформа, ни прокаина? Ваша жизненная позиция и правда
хромает. На работе быть анестезистом можно, в жизни – нельзя.
– Вы опять очень интересную мысль высказали, – блеснул очками Клобуков. – Есть над чем
подумать. Но в одном я вам, пожалуй, возражу. Хороший анестезист должен уметь снимать
болевой синдром, даже когда под рукой нет нужных препаратов. Мне не раз приходилось это
делать, на войне ведь часто попадаешь в причудливые обстоятельства. Я, студент-недоучка,
побывал там и хирургом, и венерологом, и дантистом, один раз даже акушером. Получалось
неважно, но других врачей вокруг не было. Иногда инструменты вообще отсутствовали. А хуже
всего было с анестезией. Какой прокаин! Однако приходилось как-то выкручиваться, голь
на выдумки хитра. А война – дело травматическое. Попробуйте, скажем, ампутировать человеку
конечность, если он в сознании. Обычно выручала лошадиная доза спирта, но случалось, что и его
не было. Вот я вам расскажу одну смешную историю. То есть она довольно жуткая, но и смешная
тоже…
Ассистент, сегодня неожиданно разговорчивый, показал на свободное кресло, и Мирра села.
Она любила фронтовые медицинские рассказы.
– …Драпали мы от поляков, через леса, и угодили в жуткую топь. Чуть весь полк не погиб.
Эскадроны выбирались по отдельности. Наш и третий вышли к своим, а второй и четвертый так
и сгинули. Но я не про это хочу рассказать, а про необычную анестезию… Комэск у нас был
довольно страшный субъект. Знаете, из таких, у кого психика совершенно изуродована долгой
войной без правил. Любил сам «кончать» пленных, да сначала еще куражился. Стрелял либо
рубил не наповал, а чтоб человек помучился.
– Вот гад! – воскликнула Мирра. – А вы что все – молча смотрели?
– Говорю вам, это был очень страшный человек. Все его боялись. Я тоже, – спокойно признался
Клобуков. – Он запросто мог и своего убить. Неоднократно это проделывал. Вообще война – не то, что воображают себе люди, которые там не бывали. Это я безо всякого высокомерия говорю.
Какое высокомерие… Гордиться там нечем. Только стыдиться… – Он помрачнел. Махнул рукой,
отгоняя какие-то ненужные воспоминания. – Так вот. В болоте наш комэск поскользнулся на кочке, неудачно упал, пропорол себе бок острым суком. Рана, разумеется, грязная, полно щепок и всякой
дряни. Нужно срочно прочистить, продезинфицировать. Спирту нас, кстати, имелся в изобилии,
но в данном конкретном случае он бы не помог. У комэска организм и так был насквозь
проспиртован. А человек он, как большинство садистов, был чрезвычайно мнительный, с низким
болевым порогом. Пробую почистить рану – не дается, орет, грозится шлепнуть. Я поискал вокруг
каких-нибудь трав, годных для обезболивания – увы. Даже белладонны, которая по-народному
именуется «сонная дурь», не было. Что делать – непонятно. Ведь помрет, кретин, из-за пустяковой
травмы, от заражения. И тогда я вспомнил лекцию, некогда прослушанную в университете…
– В нашем?
– Нет, в Цюрихском.
Ого, подумала Мирра и поглядела на ассистента с почтением, но ничего не сказала.
– Профессор рассказывал про так называемую «плацебоанестезию». И я решил попробовать.
Все равно другого выхода нет.
– А что это такое?
– Сейчас поймете. – Клобуков с улыбкой покачал головой, будто сам не верил своей истории. –
Я приготовил из первых попавшихся трав смесь, развел ее в спирту. Проделал это на глазах
у пациента, с чрезвычайно сосредоточенным видом, сыпля научными терминами. Объяснил:
это декокт по швейцарскому рецепту, гарантирует полное обезболивание. Пациент, конечно,
не поверил в магические свойства «декокта», но я был к этому готов. У комэска был вестовой, такая же сволочь – насильник, вор, сифилитик. Но у этого, по крайней мере, было одно хорошее
качество. Он очень любил своего командира, был ему предан беззаветно, по-собачьи. С этим
Левкой я обо всем сговорился заранее… Дал попить бурды, сосредоточенно отсчитал
по хронометру ровно минуту. Взял самую толстую хирургическую иглу. Тычу прямо в руку – другой
раз, третий. Левка только зубы скалит. Шкура у него толстая, выдержка поразительная. А комэск
все-таки сомневается. Ты, говорит, Левка, с утра зенки залил, тебе всё нипочем. Пришлось мне, увы, демонстрировать эффект плацебо на себе. Уж как не хотелось, а надо. – Ассистент комически
наморщил нос. Показал на левый бок. – Выбрал вот здесь точку, где нет нервных узлов
и не повредишь никакой внутренний орган. Мысленно собрался. Ну и воткнул, глубоко… Знаете,
боль легче перетерпеть, если психологически подготовился. Но все равно, скажу я вам, улыбаться
было трудновато. Я нарочно зацепил капилляр, чтобы обильно закровило. И когда пациент
увидал, что кровь течет, а мне хоть бы что, он успокоился, расслабился. Поверил. И потом,
представьте себе, лежал не шелохнувшись на протяжении всей довольно долгой процедуры.
Еще и бахвалился перед бойцами, какой он герой. Вот что такое плацебоанестезия.
– Здорово! – воскликнула Мирра.
Она уже забыла, что собиралась задать обидчику хорошую взбучку. Тем более он, оказывается,
и не думал над ней издеваться.
Выпустив последний клуб дыма, Клобуков блаженно вытянул ноги.
– Устал… Вы меня извините за говорливость. После тяжелой, но успешной работы я делаюсь
болтлив. Сегодня была прелесть что за операция. Клавдий Петрович превзошел сам себя. Я знавал
только одного хирурга, который работает не хуже, да и тот не здесь, а в Швейцарии… Хотя
гениальных хирургов так же бессмысленно сравнивать, как гениальных пианистов. У тех кто-то
лучше исполняет Бетховена, а кто-то Рахманинова. То же самое у нас. Логинов, несомненно,
виртуоз по черепно-мозговым, а по гастроэнтеростомиям просто номер один в мире. За это
и получил в Парижском университете гонорис кауза. Ничего, что я на вас дымлю? – вдруг
спохватился он, разгоняя ладонью сизые клубы. – Я редко себе позволяю. Только в награду за что-
нибудь. Вместо шампанского. Папироса – ерунда, вынул да зажег, а с трубкой целый праздничный
ритуал.
– Чудной вы какой-то, – нахмурилась Мирра. – Вроде и обидеть не хотите, а все-таки обижаете.
Вот у мужчины вы спросили бы про дым? Так почему у меня спрашиваете? Ужасно не люблю эти
мужские игры в галантность.
– Готов спорить, что женские игры вы тоже не любите, – засмеялся ассистент. – А я люблю и всегда
любил. С детства. Можно я вам еще одну историю расскажу? Постоперационная болтливость пока
держится.
– Валяйте.
Слушать его, правда, было интересно. Он даже перестал казаться Мирре сильно некрасивым.
Глаза живые, опять же бородка скрашивает.
– Я еще и потому хочу про это рассказать, что не понимаю, отчего так вышло. Мне почему-то
кажется, что вы объясните загадку… В детстве я не любил играть в войну или в казаки-разбойники.
Мне нравились девчачьи игры – не участвовать, а наблюдать со стороны. Жили мы в Питере,
в таком довольно обычном доме, поделенном на две части – «белую» и «черную». В «белой»
жили господа – так себе, не особенно богатые, вроде нас. В «черной» – всякий простой люд,
обслуживающий «чистую публику».
– Знакомая анатомия, – кивнула Мирра. – Мы одно время тоже в таком доме жили. Только
на «черной» половине. В подвале.
– Тем лучше….То есть я не в том смысле, – смешался Клобуков. – Не потому лучше, что вы жили
в подвале, а потому что сможете объяснить загадку…
– Да я поняла. Вы продолжайте.
– Двор тоже делился напополам. С нашей стороны клумба, скамеечки, чахлый газон. А там,
за решеткой, конюшня, каретный и дровяной сарай, всякие подсобки. И голый, потрескавшийся
асфальт. Решетка, правда, никогда не запиралась, но дети с нашей стороны не заходили на ту
сторону, а те дети не бывали у нас. Играли тоже по отдельности. Мне очень нравилось
подглядывать, как на бревнах играют тамошние девочки: дочка дворника, дочка истопника, дочка
соседской кухарки. Как-то очень увлекательно, вкусно у них это получалось. При этом никаких
игрушек у них не было. Вместо куклы они заворачивали в тряпки полешко. Нянчили его, кормили
грудью, целовали. Я был мальчик сентиментальный, жалостливый. Любил читать всякие
трогательные книжки. И однажды мне пришла в голову совершенно ослепительная идея. У меня
как раз подходил день рождения. И я попросил маму купить мне не железный паровоз, о котором
я давно мечтал, а куклу. Мама удивилась, но купила – дорогую, затри рубля, с закрывающимися
глазками, с золотыми кудряшками. Назавтра я вышел на «нечистую» сторону, подошел
к девочкам. Вот, говорю, это вам. Играйте. Смущался, но в то же время был очень собою горд.
Они смотрят, ничего не говорят. Я подумал – стесняются. Или не верят. Сунул кухаркиной дочке
(она у них была заводилой) прямо в руки. Держи же, говорю… И тут вдруг она очень похабно,
ужасно выругалась – притом что между собой они матерных слов никогда не употребляли.
«Катись, такой-растакой барчук, туда-растуда-то». Я шарахнулся, а она в меня еще и плюнула.
Потом побежала к отхожему месту – на их половине не было канализации, только дощатый
нужник. Распахнула дверь и кинула мою прекрасную куклу в дыру… Я в ужасе, всхлипывая,
убрался восвояси.
– Молодец девчонка, – одобрила Мирра. – Я бы сделала то же самое.
– Ага, значит, я не ошибся! Вы объясните мне, почему она так поступила? А то я себе всю голову
сломал. Вы ведь пролетарского происхождения?
– Да уж не буржуйского.
Происхождение у Мирры было пролетарское в кубе: угнетенный класс, угнетенная нация, да еще
незаконнорожденная. Революция все перевернула. Или, выражаясь фотографически, проявила,
так что все негативы стали позитивами. И наоборот.
– Знаете, за что простой народ вас, интеллигенцию, больше, чем настоящих бар, не любил?
Потому что баре не врали, не прикидывались хорошими. А вы прикидывались. С барином было
просто: он прямо говорит, чего хочет, недоволен – бьет в морду. Вам же непременно надо
человеку в душу влезть, покрасоваться тем, какие вы чистые и возвышенные. А потом уйти к себе
назад, на чистую половину. Кухаркина дочка вам знаете отчего вмазала? От чувства собственного
достоинства, даром что и слов таких никогда не слышала. Не красуйся, не унижай меня своей
жалостью. Вот что значил плевок.
– Разве я красовался? – Клобуков подумал немного. – Пожалуй, не без того, хотя мне так
не казалось… Ладно, пускай. Но разве не в этом весь смысл развития человечества? Цивилизация
и есть стремление выглядеть лучше, приличнее, достойнее, чем ты есть на самом деле.
– А революция – это когда люди хотят не прикидываться лучше, а стать лучше! И всякое
притворство мы воспринимаем как двурушничество и ложь! Нужно быть ближе к природе,
естественней. Уметь отличать черное от белого. Верней, красное от белого!
Мирра сама была довольна, как здорово она это сказала.
– Какая чушь! – ответил Клобуков, очень ее удивив. Она думала, он умеет только поддакивать
и не способен биться за свою точку зрения. – Быть ближе к природе не нужно! Природа груба,
низменна и жестока, в ней действует закон шкурного выживания: дави слабых и виляй хвостом
перед сильными. Вся эволюция человека – это удаление от природы, возвышение над ней.
Не надо быть естественным, надо быть лучше естественности. Не надо быть простым, надо быть
сложным. И ни в коем случае не красить себя, а тем более мир в один цвет, неважно, белый
или красный. Кто так живет, сам себя обкрадывает. Вычеркивает из спектра все цвета кроме
одного. Мы с вами и так существуем внутри какого-то фотографического фонаря, заливающего
помещение исключительно красным светом. У нас всё красное! Красные знамена и транспаранты,
красные дни календаря, краскомы, красноармейцы, краснофлотцы, краснокурсанты…
Вот это был настоящий спор, не интеллигентские реверансы.
– А чего ж вы тогда ушли от белого Врангеля к красному Буденному? – врезала ассистенту
Мирра. – Или, того лучше, уехали бы, как другие, в многоцветную Европу. Или вы там не больно
кому нужны?
Но от лобовой сшибки Клобуков уклонился. Сказал со вздохом:
– Тут вы опять правы. Не больно. В этом всё и дело. Там не больно, а здесь больно. Моя же
профессия предписывает находиться там, где боль. И еще одно. Образованный человек нужнее
там, где образованных людей катастрофически не хватает. «Нет и не может быть такого скучного
и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек».
– А умный человек может говорить про себя, что он умный? – язвительно осведомилась Мирра.
Но стрела просвистела мимо. Клобуков удивился.
– Это я не про себя, это же цитата из «Трех сестер»… Вы не читали Чехова?
Она небрежно дернула плечом.
– И Чарскую тоже не читала. Зачем современному человеку этот нафталин?
Аспирант уныло смотрел на нее через очки, мигал.
– Разговоры с вами мне полезны, пятикурсница Носик. Есть в вас что-то такое… даже не знаю,
как сказать. Иногда вроде порете ерунду, но от этого какие-то вещи, в которые раньше свято
верил, открываются с другой стороны. И оказываются самообманом… Ведь это я себе всё
напридумывал – про то, что я здесь, потому что должен врачевать чужую боль. Красиво,
но неправда. Я только сейчас явственно это вижу. И никакой я не умный. Был бы умный,
остался бы в Цюрихе. Но вот я здесь. И по-видимому навсегда. – Он развел руками. Трубка давно
уже не дымила. – Какой у меня выбор? Можно, конечно, всю жизнь угрызаться: зачем вернулся.
Но если уж так случилось, в этом нужно найти смысл. И, мне кажется, я его нашел. Я здесь
действительно нужнее, чем там. А не в этом ли, собственно, и состоит ценность человеческой
жизни? Быть нужным. И чем ты нужнее, тем твое существование ценнее. В Европе сейчас уже
сотни профессиональных анестезистов, а у нас раз-два и обчелся. Тысячи умирают во время
простейших операций от неправильного наркоза. Если уж самого наркомвоенмора Фрунзе
угробили хлороформом на элементарной операции по поводу язвы диоденума, то что говорить
об обычных людях? Местная анестезия практически никогда не применяется. Пациенты страдают
от боли, и это считается нормальным. Я ненавижу боль!
Вот теперь он говорил по-человечески: горячо и откровенно. Бодаться с ним больше не хотелось.
И Мирра вдруг поняла, что хочет рассказать малознакомому, почти случайному собеседнику
про свою Главную Мечту, с которой еще ни с кем кроме Лидки не делилась. Боялась, засмеют.
– Ваш враг – боль, а мой враг – конечно, не в политическом, а в профессиональном смысле –
некрасота.
Выпалила – и сбилась. Главная Мечта у Мирры была такая, что могла показаться мелкой, если
как следует не объяснить. А объяснять – это не ругаться или спорить. У Мирры не всегда
получалось.
– Некрасота? – переспросил Клобуков, и так заинтересованно, что у Мирры прибавилось








