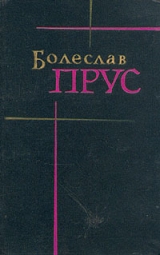
Текст книги "Форпост"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
– Да ты вовсе спятил! – крикнула Слимакова. – Ендрек, сбегай-ка посмотри, есть ли там на дороге немцы, а то отец что-то заговаривается.
Ендрек убежал и через несколько минут вернулся, сообщив, что за мостом по дороге в самом деле идут двое в долгополых синих кафтанах. Между тем Слимак молча уселся на лавку, опустив голову и упершись руками в колени. В хату вливался серый утренний свет и, смешиваясь с красными отблесками огня, падавшими из печки, придавал людям и предметам какой-то мертвенный зловещий вид.
Хозяйка вдруг взглянула на мужа.
– А ты чего побелел? – спросила она. – Ты чего осовел? Говори, что с тобой?
– Что со мной? – повторил мужик. – Еще спрашивает, тоже голова!.. Ты, что же, не понимаешь? Если пан продал имение, немцы отнимут у нас луг…
– Чего ради им отнимать? – неуверенно ответила хозяйка. – Ведь мы будем им платить за аренду так же, как и помещику.
– Вот уж язык болтает, а голова не знает. Известное дело, немцы жадны до лугов. Да еще как! Они держат помногу скота… И хоть ради того они отнимут у меня луг, – прибавил он, подумав, – чтобы мне досадить и выжить меня отсюда.
– Ну, это мы еще посмотрим, кто кого выживет! – сердито сказала Слимакова.
– Да уж не я их, – вздохнул Слимак.
Женщина уперлась руками в бока и начала, постепенно повышая голос:
– Ну, видали вы такого мужика!.. Только взглянул на немецкое отродье, у него и душа в пятки ушла. Да хоть и заберут у тебя луг, так что же? Будем к ним скотину гонять до тех пор, покуда они луг не продадут.
– И перестреляют у меня всю скотину.
– Перестреляют?.. – вскинулась хозяйка. – А суд? А острог?.. Господам нельзя бить мужицкий скот, а немцам можно?..
– Ну, не перестреляют, так захватят скотину, да и вытянут по суду больше, чем она съест. Немец, он – ох, какой хитрый! Одной охраной да тяжбами со свету сживет.
Хозяйка на минуту умолкла.
– Что ж, – сказала она, подумав, – будем покупать сено.
– У кого? Наши мужики и сейчас не продают, а у немца, когда он переберется в имение, былинки не выклянчишь.
В печке закипел горшок, но хозяйка даже не взглянула на него: гнев и беспокойство охватили ее. Сжимая кулаки, она подступила к мужу:
– Ты что это несешь, Юзек?.. Опомнись!.. И так, мол, худо и этак нехорошо, – как же быть?.. Какой ты мужик, какой ты хозяин в доме, что и сам ничего не надумал и у меня, у бабы, всю душу вымотал? И не совестно тебе перед детьми, не совестно перед Магдой? Что ты расселся на лавке да глаза закатил, точно покойник? Лучше бы поразмыслил, как быть!.. Что же, по-твоему, я из-за твоих немцев дам ребятишкам подохнуть с голоду или без коров останусь? Ты, может, думаешь, я тебе позволю землю продать? Не дождетесь вы этого!.. – крикнула она, поднимая кулаки. – Ни ты, ни твои немцы!.. Хоть вы убейте меня на месте, в могилу заройте, я из-под земли вылезу, а не дам своих детей в обиду… Ну, чего сидишь? Чего ты уставился на меня, как баран?.. – кричала она, пылая от гнева. – Скорей ешь да ступай в имение. Узнай там, вправду ли пан продал свою землю. А в случае если не продал, вались ему в ноги и до тех пор лежи, до тех пор проси и скули, покуда он не уступит тебе луг, хотя бы за две тысячи злотых…
– А ну, как продал?
– Продал? – задумалась она. – Если продал, господь бог его за это накажет…
– А луга-то все-таки не будет.
– Ну и дурак!.. – сказала она, поворачиваясь к печке. – До сих пор мы сами, дети и скотина наша жили милостью божьей, а не господской, так же и дальше будем жить.
Мужик поднялся с лавки.
– Ну, коли так, – сказал он, подумав, – давай завтракать. Ты чего ревешь? – прибавил он.
После бурной вспышки Слимакова действительно залилась слезами.
– Заревешь тут, – всхлипывала она, – когда господь бог наказал меня этаким рохлей-муженьком, что и сам ничего сделать не может, и меня только в грех вводит!..
– Глупая ты баба!.. – ответил Слимак, нахмурясь. – Пойду сейчас к пану и куплю луг, хоть бы мне две тысячи злотых пришлось отдать. Такой у меня нрав!
– А ну, как помещик уже продал имение? – спросила жена.
– Начхать мне на него! Жили мы до сих пор милостью божьей, а не господской, так и теперь не пропадем.
– А где ж ты возьмешь сено для скота?
– Моего ума это дело, я тут хозяин. А ты смотри за своими горшками и в мои дела не суйся, коли ты баба!
– Выкурят тебя отсюда немцы вместе с твоим умом!
Мужик стукнул кулаком по столу, да так, что в хате пыль поднялась столбом.
– Черта лысого они выкурят, а не меня! – крикнул он. – Не двинусь я отсюда, хоть убей, хоть на части меня изруби! Давай завтрак. Такое зло у меня на этих прохвостов, что и тебя стукну, если будешь мне перечить! А ты, Ендрек, слетай за Овчажем да живо поворачивайся, а не то, как сниму ремень…
В этот же самый час в господском доме сквозь щели в ставнях в зал заглянуло солнце. Полосы белого света упали на пол, исшарканный каблуками, ударились о противоположную стену, ярким блеском зажглись на полированной мебели и золоченых карнизах и, отразившись в зеркалах, рассеялись по огромному залу. Пламя свечей и ламп сразу потускнело и пожелтело. Лица дам побледнели, под глазами у них выступила синева, на измятых потрепанных платьях оказались дыры, со сбившихся причесок осыпалась пудра. У вельмож с шитых золотом поясов слезла мишура, роскошный бархат обратился в потертый плис, бобровые меха – в заячьи шкурки, серебряное оружие – в белую жесть. У музыкантов опустились руки, у танцоров одеревенели ноги. Остыло возбуждение, сон смыкал глаза, уста дышали жаром. Посреди зала уже скользило только три пары, потом две, потом – ни одной. Мужчины угрюмо искали вдоль стен свободные стулья; дамы прикрывали веерами усталые лица и искривленные зевотой рты.
Наконец, музыка умолкла, никто не разговаривал, в зале наступила гробовая тишина. Гасли свечи, чадили лампы.
– Не угодно ли чаю? – охрипшим голосом предложил хозяин.
– Спать… спать… – раздалось в ответ.
– Комнаты для гостей готовы, – прибавил хозяин, стараясь быть любезным, несмотря на усталость и насморк.
При этих словах с диванов и с кресел поднялись сначала пожилые, потом молодые дамы; шелестя шелками, они выходили из зала, кутаясь в атласные накидки и отворачивая лица от окон. Через минуту зал опустел, зато в дальних комнатах стало шумно; потом во дворе послышались мужские голоса, а наверху – шаги, наконец все затихло. Музыканты спустились с хор; остались там лишь несколько пюпитров да старый еврей, который заснул, обняв свой контрабас.
В зал, постукивая подковками, вошел помещик. Окинув мутным взглядом стены, он, зевая, сказал:
– Погаси свет, Матеуш… Открой окна… Ааа… Не знаешь, где пани?..
– Пани у себя, – ответил стоявший у порога лакей.
Помещик повернулся и вышел. Пройдя переднюю и столовую, он остановился наконец у двери в самом конце коридора и спросил:
– Можно?..
– Пожалуйста, – ответил из комнаты женский голос.
Помещик вошел. В атласном оранжевом кресле сидела его жена, одетая цыганкой. Облокотясь на ручки кресла, она откинула назад убранную золотыми цехинами голову и, казалось, дремала.
Помещик бросился в другое кресло.
– Бал удался… Ааа! – зевнул он.
– Да, очень, – подтвердила пани, прикрывая ротик рукой.
– Гости, должно быть, довольны.
– Да, я думаю.
Пан с минуту подремал и заговорил снова:
– Знаешь, я продал имение.
– Кому? – спросила пани.
– Гиршгольду. Дал по две тысячи двести пятьдесят рублей за влуку. Ааа!..
– Слава богу, наконец-то мы уедем отсюда, – ответила пани. – Там все уже разошлись?
– Наверное, уже спят. Ааа!.. Ну, поцелуй меня, я пойду спать.
– Что ж, я должна подойти? Нет. Ты меня поцелуй. Я устала.
– Ну, поцелуй же меня за то, что я так удачно продал имение. Ааа!..
– Так подойди сюда.
– Но мне не хочется вставать… Ааа…
– Гиршгольд?.. Гиршгольд?.. – прошептала пани. – Ах, знаю! Это какой-то знакомый папы!.. Как чудесно прошла первая мазурка…
Помещик храпел.
VII
Через неделю после костюмированного бала помещик с женой навсегда покинули деревню и переехали в Варшаву. Вместо них появился представитель Гиршгольда – веснушчатый еврей, занявший маленькую комнатку во флигеле. На ночь он запирал дверь железным засовом и спал с двумя револьверами под подушкой, а целыми днями просматривал или писал какие-то счета.
Часть мебели из имения увез пан, остальную Гиршгольд велел продать. Один из окрестных помещиков приобрел обстановку гостиной, другой – столовую, третий – спальню. Библиотеку раскупили на вес евреи; американский орган попал к ксендзу, садовые диванчики и стулья перешли в собственность к Гжибу, а Ожеховскому за три рубля досталась большая гравюра «Леда и лебедь», и он молился перед ней вместе с семьей. Паркет очутился в губернском городе и украсил собой помещение окружного суда; штофные обои раскупили портные, пустившие их на корсажи для деревенских щеголих.
Заглянув в усадьбу через несколько недель после отъезда пана, Слимак обомлел при виде полного запустения. В окнах были выбиты стекла; у раскрытых настежь дверей не осталось ни одной ручки; половицы были выломаны, стены ободраны. Зал напоминал свалку, в будуаре пани жена арендатора Иоселя поставила клетки, в которых кудахтали куры, а в кабинете пана, где поселилось несколько евреев, были свалены в огромную груду пилы, топоры и лопаты. Вся прислуга, которая, по условию, могла оставаться до дня святого Яна, бездельничала и шаталась из угла в угол. Выездной кучер пил мертвую, ключница лежала в лихорадке, один из конюхов и буфетный мальчик сидели в волости под арестом за кражу дверных ручек и печных заслонок.
– Кара господня! – прошептал мужик. Его обуял ужас при мысли о неведомой силе, которая в мгновение ока разорила дом, незыблемо стоявший два или три столетия.
Ему казалось, что над этим тихим уголком, над деревней и долиной, где он родился и вырос и где почили навек простые люди – его предки, нависла незримая туча, из которой низверглась первая молния, разрушив родовое поместье пана.
Через несколько дней жизнь в округе закипела: в имение нахлынули новые люди. Это были дровосеки и плотники, большей частью немцы, нанятые на спешную работу. По дороге, мимо хаты Слимака, они ехали и шли – то гурьбой, то строем, как солдаты. Они разместились в доме, выгнали из клетей прислугу, вывели последний скот из загонов и заняли все уголки. По ночам они жгли на дворе большие костры, а утром всей оравой маршировали в лес.
Вначале их работа была незаметна. Но уже вскоре, поднявшись на холм и прислушавшись, можно было уловить неясный гул, долетавший из лесу. Гул этот день ото дня становился все отчетливее, как будто кто-то пальцами барабанил по столу, и, наконец, совсем ясно стали слышны удары множества топоров и треск валившихся деревьев. Лес, казалось, стал ниже; его волнистые очертания менялись, исчезали высокие верхушки, и в темно-зеленой стене начинали просвечивать – сперва как будто щели, потом окна и, наконец, бреши, через которые проглянуло небо, удивленное тем, что впервые с тех пор, как стоит мир, оно смотрит в долину с этой стороны.
Лес пал. Остались только небо да земля, а на земле лишь купа можжевельника, или орешник, иль несколько молодых сосенок и ряды бесчисленных пней, да еще целые горы поваленных деревьев, с которых поспешно обрубали сучья. Ничего во всем этом зеленом царстве не пощадил хищный топор.
Ничего, даже дуб, который не могли спалить молнии, словно ленты соскальзывавшие по его столетней коре. Гордый своими победами над бурями, он смотрел в небо, почти не замечая жалких червяков, копошившихся у его подножия, а удары топоров беспокоили его не более, чем стук дятлов. Он пал внезапно, с твердым убеждением, что в этот миг рушился мир и что не стоит жить в столь ненадежном мире.
Был тут и другой дуб; некогда на его засохшем суку повесился несчастный Шимон Голомб. С тех пор люди обходили его в страхе. Увидев толпу дровосеков с топорами, он грозно прошумел: «Бегите, бегите отсюда, ибо имя мое – смерть. Лишь один человек коснулся рукой моих ветвей – и он умер». Но дровосеки не послушались доброго совета и принялись рубить, все глубже вонзая в его тело остро отточенное железо; тогда, впав в неистовую ярость, дуб взревел: «Всех раздавлю!..» – и рухнул наземь.
Сосна, в дупле которой спряталась чета белок, видела, что вокруг нее гибнет все, но надеялась избегнуть жестокой участи благодаря своим маленьким обитателям. «Жалость к этим бедным, ни в чем не повинным созданиям тронет их сердца», – шептала она и свалилась, придавив своей тяжестью испуганных зверюшек.
Так одно за другим погибали могучие деревья, и оплакивали их лишь ночной туман да стонавшие птицы, согнанные с родных гнезд.
Старше леса и крепче дубов были огромные камни, во множестве разбросанные по окрестным полям. Мужики их не трогали, потому что нельзя было сдвинуть их с места, да и не были они им нужны. К тому же в народе ходило поверье, что еще в первые дни творения восставшие демоны швыряли этими камнями в ангелов, а потому их лучше не трогать, иначе на весь край может обрушиться бедствие. Так они и лежали, поросшие мохом, каждый на своем месте, среди густой травы. Разве только пастух, ночуя в поле, разведет иной раз у камня костер, или в полдень усталый пахарь ляжет отдохнуть в его тени, или какой-нибудь жадный до денег человек вздумает искать под камнем зарытый клад.
Теперь же и для них настал последний час. В то самое время, когда рубили лес, какие-то люди стали бродить вокруг этих древних камней. Сначала в деревне думали, что немцы ищут клад, но вскоре Ендрек подсмотрел, как они сверлят камни.
– Ну, и дурачье эти швабы: охота им вертеть дыры в камнях, – перемывая посуду, сказала как-то Слимакова, обращаясь к Собесской. – Холера их знает, для чего им это понадобилось?..
– Эх, кума, я-то знаю, для чего они это делают, – ответила бабка, мигая красными глазами.
– Для чего же? Разве что по глупости!
– Нет! – стала объяснять Собесская. – Они, вишь, для того вертят, что слыхали, будто в камне сидит жаба…
– Ну, и что? – спросила Слимакова.
– Вот они и хотят посмотреть, правда ли это.
– Да им-то на что?
– А холера их знает! – ответила Собесская, да так убедительно, что Слимакова вынуждена была признать вопрос исчерпанным.
Однако немцы не искали жаб; просверлив дыру, они закладывали туда патроны, присыпали сверху песком и взрывали камень. Целый день продолжалась канонада; гул ее отдавался в самых отдаленных уголках долины, возвещая всем и каждому, что даже скалам не устоять против немцев.
– Крепкий народ – эти швабы! – буркнул Слимак, глядя на раздробленную глыбу.
И он подумал о колонистах, которые купили господское имение и хотели купить и его землю.
– Что-то их не видать, – заметил он. – Может, и вовсе не приедут?
Но колонисты приехали.
Однажды – это было в начале апреля – Слимак, по обыкновению, едва рассвело, вышел из хаты помолиться и взглянуть, какая будет погода. Восток уже светлел, побледнели звезды, и зорька, словно драгоценный камень, сверкала на небе, а на земле ее встречали щебетом проснувшиеся птицы.
Всматриваясь в туман, который, словно снег, выбелил луга и поля, мужик шептал молитву: «От сна восстав, прибегаю к тебе, владыка…» Вдруг откуда-то сверху, с полей, послышался шум. Скрипели медленно едущие возы, громко разговаривали люди.
Охваченный любопытством, Слимак взбежал на холм, увенчанный сосной, и увидел необычайное зрелище. Тянулась длинная вереница возов, крытых холстом, из-под которого тут высовывалась чья-то голова, там домашняя утварь или земледельческое орудие. Люди в длинных синих кафтанах и в картузах шли рядом с фургонами или сидели на козлах, упираясь ногами в вальки. За фургонами брели привязанные коровы или кучкой бежали свиньи. В самом конце вереницы катилась тележка чуть побольше детской; в ней, касаясь ногами земли, лежал мужчина, а тележку тащили по одну сторону дышла – пес, по другую – женщина.
«Швабы едут, – мелькнула у Слимака мысль, но он тотчас ее отогнал. – А может, цыганы? – подумал он. – Нет… цыганы – те ходят в красном, а эти в синем да в желтом. А может, дровосеки? Но дровосеки не тащат за собой скотину; да и к чему им сюда идти, раз уже лес свели?..»
Так он размышлял, теряясь в догадках, а вернее – отгоняя одну: что это колонисты, купившие помещичью землю.
«Они или не они?» – гадал он, не сводя глаз с дороги.
Между тем немцы спустились вниз и на минуту скрылись из виду. Мужик протер глаза. Может, они растаяли в дневном свете, а может, провалились сквозь землю? Нет, куда там!.. Повеял ветер и снова донес медленный стук колес, гомон голосов и скрип возов. Снова из-за холма показались морды лошадей, синие картузы возниц, серый холст фургонов и головы немок в пестрых, повязанных по-бабьи платках. Земля шаг за шагом поддавалась под копытами их тощих лошадей. С шумом и с криками въехали немцы на последний холм; яркое солнце залило их золотыми потоками света, песней встретили жаворонки, которых осенью они ловят и едят.
Далеко позади, там, где в тумане чернел лес, послышался звон колокола. Сзывал ли он, как всегда, народ на молитву или возвещал о нашествии чужаков?..
Слимак оглянулся. В хатах, по другую сторону долины, двери еще не отпирались, во дворах никого не было видно, и, наверное, никто бы не выбежал за ворота, если бы крикнуть: «Гляньте, мужики, сколько немцев сюда валит!» Деревня еще спала.
Теперь вереница фургонов, набитых крикливыми немцами, потянулась мимо хаты Слимака. Усталые лошади медленно плелись, коровы едва волочили ноги, свиньи, повизгивая, поминутно спотыкались. Только люди были довольны, они смеялись, громко переговаривались и рукою или кнутом указывали на долину. Наконец фургоны спустились вниз, проехали мост и свернули налево, в открытое поле.
Через несколько минут показалась тележка, которую тащили собака и девушка; подъехав к хутору Слимака, она остановилась у ворот. Тяжело дыша, огромный пес повалился на землю, мужчина с трудом приподнялся в тележке и сел, а девушка, сняв шлею и утирая со лба пот, уставилась на хату.
У мужика сердце защемило от жалости. Он спустился с холма и подошел к путникам.
– Вы кто такие будете, люди добрые, из каких мест? – спросил он.
– Мы колонисты, идем из-за Вислы, – ответила девушка. – Наши купили тут землю, вот мы и идем с ними.
– А вы-то не купили земли?
Девушка пожала плечами.
– Видно, это у вас обычай такой, что бабы мужиков возят? – продолжал спрашивать Слимак.
– Что же делать, раз лошади у нас нет, а пешком отцу не дойти.
– Это ваш отец?
Девушка кивнула головой.
– И такой хворый?
– Да.
Мужик призадумался.
– Это он, стало быть, побирается, потому и ездит?
– О нет! – решительно возразила девушка. – Отец учит детишек, а я, когда есть время, шью на людей, а когда нечего шить, нанимаюсь работать в поле.
Слимак с удивлением поглядел на нее и сказал:
– Сами-то вы, видать, не немцы, что так чисто говорите по-нашему?
– Мы из немцев, – ответила девушка.
– Мы немцы, – в первый раз откликнулся человек в тележке.
Во время этого разговора из хаты выглянула и вместе с Ендреком подошла к воротам Слимакова.
– Экий здоровый пес! – воскликнул Ендрек.
– Ты лучше погляди, – обратился к нему Слимак, – как эта пани всю дорогу больного отца тащит в тележке. А ты, паршивец, небось не повез бы?
– Зачем мне везти? Лошадей у вас нет, что ли? – огрызнулся мальчишка.
– И у нас была лошадь, а сейчас нет, – пробормотал мужчина в тележке.
Это был худой, бледный человек с рыжими волосами и рыжей бородкой.
– Вам бы отдохнуть да поесть с дороги, – обратился Слимак к его дочери.
– Мне не хочется есть, – сказала девушка, – а вот отец, пожалуй, выпил бы молока.
– Сбегай за молоком, Ендрек, – распорядился Слимак.
– Вы не обижайтесь, – вмешалась в разговор Слимакова, – но, верно, у вас, немцев, нету родной земли, коли вы сюда приходите, к нам?
– Это и есть наша родина, – ответила девушка. – Я тут и родилась, за Вислой.
Человек, сидевший в тележке, с досадой махнул рукой и заговорил срывающимся голосом:
– У нас, немцев, есть родная страна, и даже больше вашей, но там плохо. Много народу, а земли мало, и трудно заработать копейку. Да еще приходится платить большие подати, да тяжелая военная служба, да еще донимают всякими поборами…
Он закашлялся и, немного передохнув, продолжал:
– Всякий ищет, где лучше, и всякому хочется жить так, как ему по душе, а не так, как его заставляют другие… У нас на родине плохо, потому мы и приходим сюда…
Ендрек принес молоко и подал девушке, которая напоила отца.
– Спаси вас бог! – вздохнул больной. – Добрые вы люди.
– Только бы от вас не было нам худа, – вполголоса проговорила Слимакова.
– А что мы можем вам сделать? – спросил больной. – Землю у вас отнимем? Или скотину будем гонять на ваш луг? Или воровать пойдем да разбойничать? У нас люди спокойные, никому поперек дороги не станут, только бы к ним не лезли…
– Купили же вы нашу деревню, – попрекнул его Слимак.
– А зачем ее продал ваш пан? – возразил больной. – Если бы этой землей, вместо одного пана, который ничего не делал, а только деньги мотал, если бы, говорю, этой землей владело человек тридцать мужиков, наши бы сюда не пришли. И почему вы сами не купили у него поместье всем обществом? Деньги у вас такие же, как у нас, и такие же права, как у нас. Живете вы тут испокон веков, но о том, что можно купить эту землю, вы не подумали, покуда не пришли сюда колонисты из-за Вислы. А теперь, когда наши купили имение, это вам мозолит глаза. А пан вам не мозолил глаза?
Задохнувшись, он опустил голову на грудь и разглядывал свои исхудалые руки. С минуту помолчав, он снова заговорил:
– Наконец, кому колонисты продают прежнюю свою колонию? Крестьянам. За Вислой все у нас раскупили крестьяне, да и везде покупают только крестьяне.
– А вот один из ваших хочет у меня выманить землю, – сказал Слимак.
– То-то и есть, – подтвердила Слимакова.
– Кто же это? – спросил больной.
– Я почем знаю кто? – ответил Слимак. – Были они у меня уже два раза – старик какой-то да бородатый. Польстились на мою гору. Говорят, ветряную мельницу хотят на ней ставить.
– Это Хаммер, – вполголоса промолвила девушка, глядя на отца.
– Опять Хаммер, – тихо повторил больной. – Он и нам наделал немало хлопот, – прибавил он громче. – Наши хотели идти за Буг. Там отдают землю по тридцати рублей за морг, а он потащил сюда, потому что у вас строят железную дорогу. Ну, наши и купили здесь землю по семьдесят рублей за морг и по уши задолжали еврею, а кто знает, чем все это кончится?..
Тем временем девушка достала краюху черного хлеба, поела сама и покормила собаку, глядя в ту сторону, где среди поля расположились лагерем колонисты.
– Поедем, отец, – сказала она.
– Поедем, – согласился больной. – Сколько с нас следует за молоко? – спросил он Слимака.
Мужик пожал плечами.
– Ежели бы мы хотели с вас деньги брать, – сказал он, – так не стали бы потчевать.
– Ну, спаси вас господь за вашу доброту, – проговорил больной.
– Счастливый путь! – ответили супруги.
Больной со стоном улегся в тележку, девушка накинула шлею на правое плечо и через грудь под левую руку, собака поднялась с земли и встряхнулась, словно показывая, что она готова двинуться в путь.
– Спаси вас бог, будьте здоровы!.. – простился больной.
– Поезжайте с богом!
Тележка медленно покатила к лагерю.
– А чудной народ – эти немцы, – сказал Слимак, обращаясь к жене. – Он-то какая голова, а едет в тележке, будто нищий.
– И она то же самое, – подтвердила Слимакова. – Ну, где это слыхано? Ведь сколько верст везла на себе старого… будто лошадь!
– Ничего, не плохие люди.
– Да не хуже и не глупей других.
Обменявшись мнениями, супруги вернулись домой. Разговор с больным их успокоил. Немцы уже не казались им теперь такими страшными, как прежде.
После завтрака Овчаж отправился на гору пахать землю под картошку; вслед за ним Слимак тоже выскользнул из хаты.
– Ты куда? Тебе же плетень надо ставить! – крикнула вдогонку ему Слимакова.
– Авось не убежит! – ответил мужик и поскорее захлопнул за собой дверь, боясь, как бы его жена не воротила.
Втянув голову в плечи, он пробежал двор, стараясь казаться как можно меньше, и крадучись взобрался на холм, где уже потел над плугом хромой Мацек.
– Ну, как там швабы? – спросил он батрака.
Слимак уселся на краю косогора, так, чтобы со двора его не было видно, и осторожно закурил трубку.
– Сели бы вы сюда, – показал Мацек кнутом на выступ возле себя, – и на меня бы маленько пахнуло дымом.
– Да что там – дым! – ответил, сплевывая хозяин. – Вот кончу, дам тебе трубку, накуришься всласть. Незачем мне торчать на виду, на глазах у бабы.
Мацек пошел бороздой, понукая лошадей, а Слимак сидел на косогоре и смотрел. Он сидел, облокотившись на колено, подперев голову рукой так, что шляпа у него съехала на затылок, и, потихоньку попыхивая трубкой – пф-пф, – смотрел…
Шагов за триста от него, среди поля, на противоположном берегу реки немцы разбили лагерь. Слимак все курил свою трубку, стараясь не упустить ни одного их движения.
Немцы уже выстроили квадратом фургоны, образовавшие как бы загон для лошадей и скотины; вокруг него суетились люди. Один тащил переносную кормушку на четырех ножках и ставил ее коровам, другой насыпал зерно из мешка, третий с ведрами шел за водой на реку. Женщины доставали из фургонов железные котелки и кулечки с бобами, дети гурьбой бежали в овраг собирать хворост.
– Ну, и наплодили они ребят! – заметил Слимак. – У нас во всей деревне столько на наберется.
– Словно вшей, – поддакнул Мацек.
Мужик все курил свою трубку и не мог надивиться. Колдовство это, что ли?.. Вчера еще в поле было пусто и тихо, а нынче – чисто ярмарка! Люди на реке, люди в оврагах, люди на нивах. Рубят кустарник, несут вязанки хвороста, разводят костры, кормят и поят скотину. Один немец уже открыл лавку на возу и, видно, бойко торгует: женщины толпой обступили его и тянутся – кто за солью, кто за уксусом, кто за сахаром. Уже молодухи-немки укрепили зыбки на кольях и одной рукой мешают в котле суп, а другой качают люльку. Нашелся тут и коновал, – вот он осматривает зашибленную ногу у лошаденки, а цирюльник уже бреет старого немца на подножке фургона. В поле шум, суета, кипит работа, а в небе все выше поднимается солнце.
Слимак повернулся к Овчажу.
– Смекаешь, Мацек, как они ловко работают? От нас, стало быть, от хаты, до оврагов поближе, чем от них, а мы за хворостом ходим полдня. А эти, шут их знает, раз-раз и уже обернулись…
– Ого-го!.. – ответил Мацек, чувствуя, что это камешек в его огород.
– Да ты погляди, – продолжал Слимак, – как они всей деревней работают. Бывает, и у нас выходят всем миром, но всякий ковыряется сам по себе да норовит почаще отдохнуть, а то и другим помешать. А эти так и вьются, как черти, точно один погоняет другого. Тут ты хоть с ног будешь валиться, а не станешь лодырничать, когда один сует тебе в руки работу, а другой уже стоит над душой и дожидается, чтобы ты скорее кончал. Ну, ты погляди да скажи сам.
Он передал Овчажу недокуренную трубку и в раздумье вернулся домой.
– Верткий народ – эти швабы, – бормотал он, – да и толковый…
Его зоркий глаз за полчаса открыл два секрета современного труда: быстроту и организованность.
Около полудня из лагеря пришли два колониста и стали просить Слимака продать им масла, картофеля и сена. Масло и картофель он продал им, не торгуясь, но сено дать отказался.
– Ну, хоть возок соломы, – просил один из колонистов на ломаном языке.
– Нет, ни соломинки не дам, у самого нету, – отвечал Слимак.
Колонист в гневе швырнул шапку оземь.
– А, старый шорт этот Хаммер! – крикнул он. – Какой огоршение он нам устраиваль!.. Говориль, старый шорт, што ми тут найдем много овин, и амбар, и сено, и все найдем, а ми ничего не нашоль… В имении сена нет, а во флигель усиживают еврейские шинкарники и повторяйт: «Ми отсюда не будем уходиль!»
Когда колонисты с мешками картошки на спине выходили из ворот в сопровождении всего семейства Слимака, на дороге показалась бричка и в ней двое давно знакомых немцев: старик и бородатый. Это были Хаммеры. Колонисты, бросив мешки, с криком остановили бричку.
О чем они говорили, Слимак не понимал. Но он видел, что колонисты очень рассержены и показывают руками то на его хату, то на усадебные постройки. Один раз они даже повернулись к нему, говоря по-польски:
– Самий глюпий знает, што шеловек может спать очень плохо, но животный это не может и не выдержит в поле в холодний ночь!.. С такой порядок пройдет один год и все будут брать шерти…
Потом они снова кричали по-немецки поочередно – то один, то другой, как будто даже в вспышках гнева сохраняя организованность и порядок.
Зато оба Хаммера были совершенно спокойны. Терпеливо и внимательно слушали они брань колонистов, лишь изредка вставляя словечко в ответ. А когда колонисты устали кричать, слово взял младший Хаммер. Его краткая речь, видимо, успокоила их гнев: они пожали руку отцу и сыну, вскинули на спину картофель и с прояснившимися лицами отправились в лагерь.
– Как поживаете, хозяин? – крикнул из брички старый Хаммер. – Ну что, сторгуемся?
– Не.
– Зачем вы к нему пристаете? – с раздражением перебил его сын. – Он еще сам к нам придет.
– Не, – повторил Слимак, прибавив вполголоса: – Ну, и взъелись на меня, прохвосты!..
Бричка покатила дальше, Слимак поглядел ей вслед, подумал и наконец сказал, обращаясь к жене:
– Вот народ – эти швабы!.. Хаммеры – те, видать, господа, а эти, что картошку у нас брали, мужики, а ведь друг дружке руку подают, запанибрата. У нас, если кто поссорится, не станет и слушать другого, а эти прохвосты хоть и сердятся, а друг дружку выслушают, столкуются, все у них и уладится.
– Да что ты, право, все только похваливаешь немцев, – прервала его жена, – а о том не думаешь, что они хотят у тебя землю отнять. Побойся ты бога, Юзек…
– Что они мне сделают? Пусть болтают, а я что знаю, то знаю. Разбоем они брать не станут.
– Кто их знает! – ответила женщина. – Но я только то вижу, что их вон сколько, а ты один.
– На все воля божья! – вздохнул мужик. – Соображать-то они соображают, пожалуй, получше моего, а вот насчет упорства – куда им!.. Ты вот прикинь, – продолжал он, подумав, – экая сила дятлов налетит иной раз на дерево, и все его долбят. Ну и что? Дятел посидит-посидит, да и улетит, а дерево – оно деревом и останется. Так и мужик. Насядет на него пан и давай долбить, волость насядет – тоже долбит, еврей насядет – опять долбит, теперь немец наседает и будет долбить, а все равно против мужика им не устоять.
Под вечер к Слимакам забежала старуха Собесская.
– Ох, дайте-ка наперсточек водки, – закричала она еще с порога, – а то у меня дух заняло, так я к вам поспешала с новостями…






