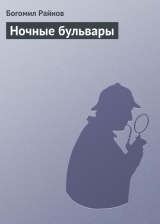
Текст книги "Ночные бульвары"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Она воистину бесила меня своей логикой. И ожесточала одновременно. И я бился головой о стенку, пытаясь найти фокусы, вместо того, чтобы творить искусство.
– Надеюсь, ты все-таки что-нибудь нашел?
– Почти нашел… И если расскажу тебе, то ты поразишься, до чего это просто…
– Вряд ли. Я в этом ничего не смыслю.
– Нет, это – действительно просто до идиотизма. Требуется только много краски, много белой краски, а на краски Жизель не скупилась, в этом нужно отдать ей должное – на краски и «кальвадос» она никогда не мелочилась. Белая краска, нагроможденная толстым слоем на крупные широкие плоскости при помощи ножа или шпателя, или впрочем, чем хочешь. И когда высохнет, проходил прозрачными и полупрозрачными, и делалось, вроде как проблескивающие плиты, как камни различных цветов, погруженные в прозрачные или более плотные цвета сумерек…
– По-твоему, это интересно?
– Не знаю. Другие думали, что да, даже Жизель. «Здесь уже есть нечто,» – сказала она мне.
Марианна опустила ноги на землю и потянулась.
– А не встать ли нам…
– Согласен.
– Ох, ноги мои бедные. Ты не посчитаешь чересчур интимным, если я обопрусь тебе о руку?
– Сам собирался предложить.
– Жди я, пока ты предложишь…
Они тронулись рука об руку.
– Нашел, говоришь. В таком случае что же тебе помешало преуспеть?
– Ничего. Одна мелочь.
– Какая мелочь?
– Та, что висит у меня на руке.
– Что ты там болтаешь?
– Спрашивала же? Отвечаю. Это было в тот вечер, когда я пришел к тебе, а ты столь изысканно меня прогнала. Я вернулся к себе в студию и все время думал о Марианне. Только не задирай нос. Я думал про ту, другую Марианну, из книжного магазина в Эксе. А ты помнишь ту Марианну?
Она не отвечала, и рука, опиравшаяся ему о руку, давила неподвижно.
– Должно быть, забыла. Так удобнее. Но я еще не успел ее позабыть. И меньше всего в тот вечер – после того, как увидел тебя. И вот в этот момент подходит Жизель и говорит: «Хватит, поработал», – что означает: «Сегодня вечером любовью хочу заниматься», – и садится на кушетку. Я старался не глядеть ни на это прыщавое напудренное лицо, ни на эти холодные водянистые глаза, и машинально отправился к полке с «кальвадосом», но в тот вечер все пошло вкривь и вкось и бутылка была пуста. «Ну, чего ты там ходишь?» – спросила Жизель, и я сел рядом с ней, но в голове у меня была та другая Марианна с веселым смехом на пухлых губах, с этой смесью женственности и чистоты, с глазами, которые и звали, и держали на расстоянии. Жизель обняла меня, но я не реагировал, только сказал, что мне что-то хочется выпить.
– После выпьем.
– Мне сейчас хочется.
Рука ее отпустила мое плечо.
– У меня такое впечатление, что ты никогда не можешь быть со мною ласков, если перед этим не выпьешь.
– Ошибаешься. Но сейчас мне правда хочется выпить.
– Нет, не сейчас… Всегда. Мне вообще кажется, что ты меня еле терпишь… Скажи, ты правда меня еле терпишь?
Я ничего не сказал. Что я мог сказать.
– Господин молчит. Значит, признает.
Я ничего не сказал. Она пошла прочь. Но у двери остановилась, повернулась и произнесла тем металлическим голосом, который у нее заменял истерику:
– Только послушай, малый, если я подобрала тебя несколько лет назад, то не из филантропии и не от изумления перед твоим талантом. Потому что талант-то у тебя только в болтовне, и я знала с первого дня, что ты никогда ничего не создашь. Если я тебя подобрала, то подобрала для постели, потому что я работаю – я, а не ты, – и мне некогда тратить время на поиски мужчин, и я хотела иметь под рукой одного, которым могла бы пользоваться. А если он больше в дело не годится, то пусть убирается к чертям и очистит местность!
– Не надо было тебе этого говорить, – сказал я и встал. – Я уйду, договорились, но этого говорить тебе было не надо.
– Да что ты? Потому что господин до сего момента не подозревал, что его воспринимают как «жиголо», как развлечение, потому что господин воображал себе, что весь мир, включая Жизель, считает его великим артистом? Ты всего лишь лицемер и еще с первого дня отлично знаешь смысл этой сделки. Ты – проститутка, мужчина-проститутка, у которого есть лишь претензия на то, чтоб его чтили честной душой.
– Возможно, – сказал я, приблизившись, – но не следовало тебе этого говорить.
И вмазал ей по щеке наотмашь. Она полетела, но не вскрикнула.
– Потому что, если я проститутка, то ты – уродка развратная, такая страшная, что от одного вида умрешь, сучка, до мужчин охочая, после того как свои грязные сделки заключила…
И снова ей вмазал. И вышел. Вот и все. Поняла?
– Ясно! – сказала Марианна. – Только виновата-то все-таки не я. Виновата бутылка «кальвадоса», оказавшаяся пустой.
– Значит, ничего ты не поняла.
Они дошли до площади «Конкорд» – бескрайней и пустой, усеянной белыми блестящими шарами фонарей… Ярко освещенный Обелиск очерчивался на фоне мутного неба с красноватыми дымчатыми пятнами. С той стороны темнел «Тюильри», а направо, далеко, между двумя старыми фасадами, вырастал темный силуэт «Мадлены».
– Господи, мне кажется, мы уже целую вечность шагаем, а все еще у «Mадлены»… – простонала Марианна.
– Потому что все время вертимся вокруг нее. Вокруг покровительницы.
– Прекрати свои намеки.
Они прошли мимо площади и направились в тень деревьев на набережной.
– Пока ты рассказывал, я все говорила себе: когда же закончится, чтобы узнать конец, – а теперь меня досада берет, что кончил, – сказала она.
И немного погодя добавила:
– Ты как думаешь: как только все будет рассказано, останется нам, о чем говорить?
– Ночь не настолько длинна.
– Я не про ночь говорю… Представь себе, что были бы мы с тобой вместе подольше. Как ты думаешь, будет у нас о чем говорить?
– Говорить всегда есть о чем. Если человека непременно так тянет поговорить.
– Не знаю. Ты наверняка все время думаешь о своих полотнах, в которых я ничего не понимаю.
– Когда-то в темах у нас недостатка не было.
– О, когда-то было другое время. В том книжном магазине было так много праздных часов и я так много читала, и было столько вещей, которые я хотела знать и о которых ты мне развивал свои сбивчивые теории. Тогда было другое. Сейчас меня ничто не интересует.
– Совсем ничто?
– Совсем. Я хочу сказать – в стороне от практических дел.
– Ты слишком устала, Марианна. Это отпечатано у тебя на лице: первое, что меня поразило, когда я тебя увидел…
– Устала? Испорчена я, и ты сам уже это сказал. Испорчена, исчерпана, изношена – вот и все.
Робер не отвечал. Они шли в тени деревьев, а внизу была черная невидимая река, и только впереди над чернотой играли желтые электрические отражения моста.
– Хочешь, я расскажу тебе кое-что про этот мост? – спросил Робер, когда они подошли поближе.
– История Парижа меня не интересует.
– Но это из самой новейшей истории. Из моей…
– Рассказывай, если хочешь. Только помоги мне сесть.
Они взобрались на широкий каменный парапет.
– Какое наслаждение отпустить так свои ноги, чтоб они не упирались в этот твердый настил.
– Этот мост, – сказал Робер, не слушая ее, – для меня – самое красивое после Марианны.
– Не нахожу, чем он лучше остальных.
– Потому что еще ничего не слышала. Ты ведь помнишь, как я скитался по холмам под Эксом и рисовал как сумасшедший, и хотел сделать что-нибудь сильное и звучное, как Ван Гог, но что-то отличное, чего еще не делал ни Ван Гог, ни кто-либо другой. Не получилось. Как и с тобой. И я поднял якорь. И оказался здесь. И скитался по улицам, и набрасывал этюды, и раскрывал то там, то здесь свою треногу, и работал как раб, но ничего не выходило. Всё это уже было сделано и, так как я знал, как это сделано, меня это гипнотизировало и мешало самому сделать это по-другому, и всегда выходило что-то знакомое, но хуже этого знакомого.
– Чего ж ты тогда на ту сердишься? Она тебе то же самое сказала.
– Подожди, сейчас мы говорим про искусство – истинное, – а не про фокусы. И вот однажды, когда я раскинул треногу на этом мосту и рисовал Сену, и сетовал, что до меня жил некий Mарке, я вдруг взглянул вниз и увидел там напротив уснувшего на набережной человека. Он лежал на камнях и, так как стоял уже ноябрь, ему, конечно, было холодно, и фигура у него была скрючена, и лежала она, эта фигура, словно тряпка, брошенная на камни рядом с грязно-зеленой водой. Я выскреб полотно ножом и слез вниз, и нарисовал эту скрюченную фигуру с каменным настилом и маленькой полоской воды. Ничего не вышло.
– Что ж тогда? Чего тогда тебя так волнует этот мост?
– Но в этом случае важна не картина. Важно было открытие, все дело было в открытии, Марианна. Глаза у меня открылись для вещей, которые я тысячи раз видел и которые всякий видел тысячи раз, но которые никому не приходило в голову взять за сюжеты.
– И как это ты единственный самым умным оказался.
– Не знаю, в уме ли здесь дело. Это был скорее шанс. Или просто серия совпадений: то, что я так лихорадочно искал, так упорно; то, что взгляд мой случайно упал на эту человеческую тряпку; то, что я так много раз сам чувствовал себя в этом городе тряпкой и, значит, хорошо мог понять того, лежавшего под бледным осенним солнцем после холодной ночи на рынке или по набережным. Откуда я знаю? В жизни все так запутанно… В этом случае важно было откровение. От этого откровения я словно опьянел. Я вернулся к себе в хлев, служивший мне студией, и попытался еще раз нарисовать человека, и потом еще много раз рисовал его и таких, как он. Помню, нарисовал одного, облокотившегося на окно своей мансарды, уставившегося в пустыню цинковых крыш: одну лишь спину, но спину, исполненную печали и одиночества, потому что – чтó может быть чудовищнее, чем стоять перед тысячами зданий с миллионами людей, а быть одиноким, словно первый человек? Нарисовал и нескольких человек, одеревенело выпрямленных, натолканных битком друг к другу, с лицами сонными и скучающими и усталыми, освещенных желтым светом метро, потому что картина эта называлась «Метро», и они стояли так, набитые друг к другу, безжизненные и безнадежные, словно погребенные в этом метро до скончания века. Нарисовал и одну маленькую девчушку, стоящую на черной барже, – девочку под развешенным на барже бельем, – ребенка, задумавшегося и с озабоченными, как у взрослого человека, глазами. Нарисовал и пейзажи – много пейзажей, но с людьми, улицу Сен-Дени – как темный и нечистый улей, с выстроившимися вдоль стены вереницами проституток…
– Очень поэтично.
– …другую улицу-улей у Рынка с муравейником из склоненных спин носильщиков и зияющих дырами лавок, набитых мясом; картину «Пригород»: одна лишь длинная серая улица со слепыми задымленными стенами и с маленькой, спешащей куда-то фигуркой вдалеке под низко нависшим сажистым небом; толкучку с толпой бедняков-покупателей. И еще другие такие пейзажи, которые я уже забыл и которые любил, и в которых, мне кажется, я сумел уловить нечто, что, может быть, не постиг, но уже был на пути к постижению, и которые никто не воспринимал как пейзажи и не хотел купить.
– Это меня не удивляет. Я тоже наверняка бы не купила такое.
– Но все это было подмечено, было верно. Это были просто куски жизни.
– Допускаю. Но зачем тебе такие куски? Что ты с ними будешь делать? Страшного и печального в самой жизни предостаточно, чтобы мне его еще на картине преподносить было нужно. Это все равно, что бередить рану, которая и без того кровоточит.
– Ты не понимаешь.
– Я и не претендую. Говорю лишь, чтó мне нравится, а чтó – нет.
– То, что тебе нравится, я уже слышал. Пальмы и море. Но слушай, Марианна, все это, – то, что я хотел запечатлеть в моих полотнах, – это были не только те куски, которых, как ты говоришь, и без того предостаточно в самой жизни, это были и куски от моего сердца или как сказать…
– Хватит. Ты мне надоел. Пойдем на Рынок – к твоим сюжетам и к супу.
– Mарианна, Mарианна, – продекламировал Робер, помогая ей слезть с парапета. – Где ты, былая Mарианна, у которой, кроме супа, были и другие интересы?
– Гусыня глупая – вот кто была та Mарианна. Человек много разговаривает только, когда мало знает. А она, кроме книжек, ничего не знала.
– О, она была не столь наивна, как тебе хочется ее представить… И не так глупа. Она просто многим интересовалась и о многом спорила, и думала не только о супе.
Они пересекли бульвар и зашагали по Рю-дё-Пон-Нёв.
– Тебе не кажется, что ты меня обижаешь, непрерывно тыча мне под нос ту Марианну? Или ты это сознательно делаешь, чтобы меня унизить?
– В таком случае, наверняка, я хочу унизить и самого себя, раз говорю не о Робере-отрепье, а о том прежнем, который имел мужество что-то искать.
– С собой можешь поступать, как хочешь. Но что касается меня, прекрати раздражать меня той Mарианной. И позволь тебе сказать, что ты идеализируешь ее немного – ту Марианну. Она была совсем не тем, что ты видел своим взглядом влюбленного дурака.
– Не клевещи на нее.
– Нет, ну ты что себе воображаешь? Что ты знаешь о ней больше, чем я? Это уж…
– Ничего я себе не воображаю – знаю. Знаю, что ты ее презираешь или даже ненавидишь, потому что она – нечто другое, а не то, чем ты стала сейчас.
– Ой ли? А ты не думал о том, почему Марианна предпочла не тебя, а Филиппа? Потому что Филипп был красивее или умнее? Или просто, потому что Филипп был богат, а ты беден? Оставь ты эту Марианну, я ее лучше тебя знаю.
– Не лги! Ты была влюблена в Филиппа…
– Это ты так думаешь. Филипп для меня был не чем иным, как определенным способом проводить свободное время. Приятным способом – ничего более. Филипп знал, как заниматься любовью, в то время как ты пальцем до меня боялся дотронуться. Филипп умел шутить, а ты только рассуждал да занимал меня своим Ван Гогом. Филипп хорошо танцевал и имел деньги на красивые заведения, а я была бедной девочкой и красивые заведения раньше видала лишь сквозь витрину и, сказать по правде, они привлекали меня больше твоих прогулок вдоль шоссе, от которых у меня ноги начинали болеть. Ох, ноги мои! Не надо было про это заговаривать… Ты, похоже, никогда не мог предложить женщине иного развлечения, кроме прогулок пешком – что тогда… что сейчас…
– Я не виноват, что отец у меня был железнодорожником, а не виноторговцем.
– Я – тем более. И перестань говорить про свою Марианну.
Чем дальше шли они по узкой улице, тем на ней становилось многолюднее и шумнее. Словно они оставили позади ночь, а вошли в призрачный день – день с черным небом и электрическими лучами, но с движением и суматохой любого дня. Они с трудом протискивались между носильщиками с мешками и ящиками на плечах, между вагонетками, грузовиками и ручными тележками, между прохожими – такими как они, у которых тут не было никакого дела, но которые все же бессмысленно толкались среди тех, кто действительно работал.
– Зайдем вон туда, – предложил Робер, показав на угловое кафе. – На вид скромное.
– Как сказать. В передней-то части скромно, а в задней только крупные банкноты и гуляют. Эх… Для одного раза можем и в передней испробовать…
Заведение внешне ничем не отличалось от ночных кафе в этом квартале, куда носильщики и мелкие торговцы частенько забегали выпить рюмку или отведать теплого супу. Только было оно из тех дыр, которые кто знает как вошли в моду и превратились в притон для публики из другого мира – мира кабаре и театров, – и она постепенно вытолкала оборванцев в тесное пространство между витриной и баром, превращая их в живописное выражение местного колорита.
По ту сторону низкой перегородки столы с льняными скатертями были в основном свободны, но сесть туда было немыслимо. С этой стороны стоял один-единственный стол с залитой вином старомодной мраморной плитой, окруженный шумной компанией носильщиков.
– Могли бы перекусить на прилавке, – сказал Робер. – Так сэкономим и на чаевых.
– Есть стоя? Ты с ума сошел? Да для меня половина удовольствия от пира был бы стул – особенно если мягкий.
Они повернулись и уже хотели выйти, когда в дверь ворвалась шумная компания – три женщины в вечерних платьях и четверо мужчин в смокингах. Все это общество было порядочно пьяно и явно любой ценой стремилось к тому, чтобы это не осталось незамеченным. Мужчины размахивали руками, комментируя что-то ужасно смешное, а женщины издавали визги, которые должны были означать кокетливый жизнерадостный смех.
Робер с Mарианной хотели протиснуться между пьяными, но один из весельчаков внезапно схватил Марианну за локоть и восторженно воскликнул:
– Боже мой, Мари! Какой сюрприз!
– Удовольствие – чисто твое, – пробормотала Марианна, высвобождая руку.
– Какой сюрприз! – повторил пьяный, вновь поймав ее за локоть. – И как раз в тот момент, когда я ломаю себе голову, откуда же придет моя дама. Вот она какова судьба-то, а?
– Твоя судьба меня волнует мало, – снова пробормотала Марианна и с силой высвободилась.
– Нет, ну вы поглядите только, какая она гордая, – с мокрой усмешкой сказал тот, и на этот раз обхватил ее за талию. – Только ты этот номер где-нибудь в другом месте играй. На эту ночь ты моя сабинянка – и точка.
Остальные потвердили его заявление пьяным смехом.
– Браво! И вперед! – воскликнул кто-то. – Умираю от голода… Умираю от голода по прелестной бутылке.
Mарианна вырывалась, но напрасно. Тот крепко держал ее за талию и она в своем бессилии отцепиться залепила ему пощечину.
– А, кошечка начинает царапаться… Ничего, пусть поцарапается, так еще сильнее возбуждает, – прокомментировал весельчак и потащил ее к внутреннему отделению.
Робер, до этого момента наблюдавший сцену с каким-то сонным безразличием, сделал два широких шага и схватил пьяного за плечо.
– Оставь ее!
– А этот откуда выскочил? – удивился весельчак. – Это что такое? Предыдущий клиент?
– Оставь ее! – повторил Робер и встряхнул его.
– О, смотри-ка, клиент-то – настойчивый. Только он и не подозревает, что преимущество-то – за мной. Что я спал с его любовью еще до того, как он допускал ее существование.
Он отпустил Марианну и неожиданно ударил Робера в лицо с таким порывом, что зашатался сам. Робер нагнулся и со всей силы ткнул пьяному головой в живот. Тот скорчился на полу, но на художника тотчас же накинулись его приятели.
Они были сильно пьяны и не всегда попадали кулаками в цель, но их было трое, и Робер напрасно пытался их одолеть и лишь молотил куда попало, а кружившейся от ударов головой смутно слышал комментарии носильщиков.
– Разнять бы их все-таки надо, – предлагал один. – Совсем уж все в крови.
– Оставь их, пусть накостыляют друг дружке дураки эти, – откликался другой. – Таких мне не жалко.
– Пусть накостыляют, но не тут. Пусть идут в другое место….
И это было последнее, что услышал Робер.
Когда он пришел в себя, то лежал среди каких-то куч пустых ящиков, а Марианна вытирала ему мокрой тряпкой лицо.
– Что случилось?
– Наконец-то! – вздохнула Марианна. – Такой большой мужчина, а от одной бутылки упал. Срам какой.
– Так это меня бутылкой шарахнули? – спросил Робер и машинально приложил руку к темени.
– Не трогай. Я тебя перевязала. А впрочем, это – мелочь, по сравнению с тем, что бы могло случиться, если бы нагрянула полиция.
– Мелочь, потому что не тебе по голове. У меня просто мозги сейчас выскочат. А как все закончилось?
– А как могло закончиться? Содержатель увел тех внутрь трапезничать, а нас выкинул. По-моему, вполне очевидно, что не наоборот.
– Как это я не смог бутылку какую-нибудь схватить…
– Ты и так их достаточно разукрасил. Для художника неплохо. Вопрос сейчас в том – сможешь ли ты идти.
– Лучше прежнего, – сказал Робер, поднимаясь. – Потому что при этой боли в голове и не почувствую боли в ногах.
Он выпрямился и постоял так, ожидая когда пройдет головокружение.
– Правда сильно болит?
– Еще как! Но не от бутылки.
– А от чего? От платка?
– От гадостей того типа. От слов, что он спал с тобой, – уж это-то, наверняка, не галлюцинации были.
– Молчи! Лучше пойдем похлебаем наконец наш суп.
– Предпочитаю купить сигареты.
– Есть и на сигареты… И на чашку кофе для каждого. Но без алкогольных добавок.
Они вошли в одно совсем маленькое бистро, где столики были пусты, потому что здесь носильщики предпочли стойку. Робер увидел в зеркале свое лицо – совсем бледное под красным шелковым платком, которым его перевязала Марианна.
– Ты прямо готовая картина, – сказала Марианна, заметив, что он себя разглядывает. – «Автопортрет с пробитой головой».
– Почему нет? Ван Гог же нарисовал автопортрет с отрезанным ухом.
– Вы, художники, все – малость того. – Она постучала пальцем себе по лбу.
– Не хочется есть, – сказал Робер, когда оба сели. – Я бы лучше чего-нибудь выпил.
– Попал в десятку. И я хотела сказать то же самое.
Они заказали по рюмке дешевого вина и сигареты… Пили и курили, не разговаривая.
– А теперь по чашке кофе, чтоб ты совсем не уснул, – сказала Марианна и позвала официанта.
Все так же молча выпили и кофе.
– Ты что, опять онемел?
– Скажи, Марианна, что за история у тебя была с этим мерзавцем?
– С каким именно?
– С тем, с которым мы дрались…
– Оставь ты – не помню. Один из случайных, чего там.
– У тебя их, должно быть, дюжины были, таких случайных.
– Не знаю. Статистики не вела.
Они заплатили и вышли, и снова отправились в призрачное оживление этого квартала, и долго протискивались по лабиринтам тесных, загроможденных людьми и ящиками улочек, пока вновь не вышли на открытое место.
– Где это мы?
– На Сен-Дени. Рисовал же, а не узнаешь…
– Зато тебе, похоже, она хорошо знакома.
– Пока нет. Попозже, может.
– Когда ты так говоришь, так и хочется влепить тебе по щеке.
– После бутылки ты стал ужасно воинственным. Лучше б ты до нее таким воинственным был. Уйма времени тебе понадобилась, прежде чем вмешаться надумал.
– Просто ждал – смотрел: не пойдешь ли ты с теми.
– Ах, вот как? И правда – почему не пошла? Было бы вдоволь выпивки и никто бы не намекал мне беспрестанно, что я уличная. А ты бы мог все так же разговаривать в уме со своей Марианной – той, прежней, – так как ты в сущности ее ищешь, а не меня.
Он промолчал и она тоже замолкла, и на этот раз в молчании ее было что-то враждебное. Они пришли в «Сен-Дени»– район проституток, – на Себастополь с широкими светлыми витринами, полными низкокачественных товаров, и пошли до «Шатле», а оттуда отправились по Риволи и все молчали, и Марианна уже не жаловалась на свои бедные ноги, и совсем не пыталась нарушить молчание, а шагала, глядя перед собой, и даже не обращала внимание на то, что Робер отстал. Она остановилась только у Бастилии и оглянулась. Робер словно нехотя тащился далеко позади.
– Если хочешь исчезнуть, можешь сделать это смелее. У меня нет намерения тебя задерживать.
Он совсем остановился и прислонился к стене в тени какого-то входа.
– Ну, чего ты там? Прячешься, или тебе плохо?
Она вернулась.
– Подожди немного. Кружится всё перед глазами.
Марианна обеими руками охватила ему лицо.
– Боже мой, да у тебя опять пошла кровь.
По лбу у Робера стекала тонкая струйка крови.
– Слушай, сядь здесь на ступеньку. Так. И жди меня.
– Зачем, куда ты?
– Тебе нельзя так идти. Нам нужен гостиничный номер с краном и постелью. Нам нужны деньги на номер.
– Розыгрыш национальной лотереи состоится только завтра, – пробормотал он, но голос у него был совсем слаб.
– Подожди, сказала тебе, и не спорь со мной. Я проскочу до Рю-дё-Лап. У меня там есть знакомые. Только подождешь, ты понял? Мне может потребоваться порядочно времени, пока я их разыщу.
Робер безразлично пожал плечами. Каблучки гулко, отрывисто и быстро застучали по широкому тротуару, потом затихли на площади.
«Знакомые. У ней все знакомые – из таких мест, где есть „панели“ для шлюх – таких как она сама или почти. Марианна, что из тебя получилось, Марианна?…»
«А ты, когда ее оплакиваешь, всё больше „макро“ мне напоминаешь. Был содержанкой, теперь стал „макро“.
Какой прогресс. Ты – лицемерное животное: гнушаешься шлюх, но не прочь выпить да покурить на их деньги. Хоть бы сигареты мне оставила. Ну да – когда куришь такие сигареты, легче рассуждать о вреде проституции.»
Голова у него снова закружилась и мысли стали путаться. Он привалился спиной к холодной стене, закрыл глаза и попытался уснуть. Наверно, это ему удалось, и когда он очнулся, то напрасно пытался сообразить, сколько прошло времени. Боль притупилась.
Ему казалось, что если он пойдет, то сможет сохранять равновесие. Надо идти. Mарианны никакой нет и ничего удивительного – если она опять нарвалась на каких-нибудь пьяных – тех же самых или других. Он встал, опираясь на стену, и медленно зашагал к площади.
«Раз ты, друг, подаяниями „макро“ живешь, то надо и работу „макро“ исполнять. Надо стеречь женщину да присматривать, чтобы ее другой кто для собственной выгоды не умыкнул.»
Мысли эти вызвали у него отвращение, он обругал себя за них и продолжил медленно шагать по пустой темной площади, пытаясь думать о чем-нибудь другом. Рю-дё-Лап была еще освещена и шумна в этот поздний час – самый поздний час ночи перед рассветом. По тротуарам сновали пьяницы и квартальные женщины, люди, принадлежащие, по крайней мере, по внешности, к «хорошему свету», хулиганы и мошенники в ярких светлых костюмах и темных рубашках, мальчишки-сорванцы в ковбойских штанах и молодые дебютирующие проститутки в платьях-зонтиках.
Робер двигался медленно, внимательно разглядывая прохожих и заглядывая в заведения, битком набитые друг к другу и похожие одно на другое толкающимися и жмущимися друг к другу танцующими парами, тоскливым и бесстыдным воем саксофонов, розовыми или фиолетовыми сумерками и облаками цветного дыма, вьющегося вокруг ламп. Марианны не было. Он медленно дошел до конца улицы – туда, где снова начинался мрак ночи, – и так же медленно повернул назад, и уже снова готовился тронуться к площади, когда увидел выходящую из угловой гостиницы Марианну.
– Марианна!
– А, вот ты где. Я ж тебе сказала ждать.
– Я и так жду, как видишь. Но не нахожу смысла торчать там у входа. По-моему, мне лучше.
– По-твоему. Знал бы ты, какой у тебя вид!
И потом, выйдя с Рю-дё-Лап, добавила:
– Не имеет значения. Сейчас уже не имеет. Я нашла денег, сейчас проскочим тут через две улицы, и у нас будет прекрасная спокойная комната.
– Просто не верится. А сколько нашла?
– Тридцать.
– Не может быть.
– Неверующий!
Она сунула руку в сумку и показала ему три банкноты.
– Подожди, – внезапно ощерился он, схватив ее за руку. – Ты как нашла эти деньги?
– Я что, еще и отчет тебе давать должна? Приятельница одна дала.
– Врешь. Это – твои деньги, за твой разврат. Я видел, как ты вышла из гостиницы.
– Видел, как вышла? И что дальше?
– А вот что, и вот что, и вот что.
Он выхватил деньги у нее из руки и теперь ожесточенно рвал их, а потом бросил ей в лицо и ударил по щеке, и хотел ударить еще раз, но лишь опустил руку, развернулся и быстро пошел дальше в темноту.
– Робер!
Он продолжал шагать, не оборачиваясь.
– Робер!
Голос слышался слабее и словно примирительно.
Робер прошел еще немного, невольно замедляя шаги, потом остановился.
«Марианна наверняка пошла следом. Ты ее подождешь. Можешь делать, что хочешь, но нельзя ее не подождать. Можешь с ней расстаться, но только после того, как дождешься, а не так.»
Марианна не шла. Если б даже она пошла совсем медленно, даже если она долго сомневалась, прежде чем пойти, то уже должна была дойти. Хотя бы каблучки ее уже должны были послышаться в отдалении.
«Ты один. Один в ночи и в этом городе, где у тебя нет никого, где ты дал исчезнуть и последнему человеку, с которым мог бы быть вместе, за которого мог бы ухватиться, чтобы не упасть в пустоту. Ты один. И до конца. И навсегда.»
Робер пошел обратно. Он спешил. Потом побежал. Добежал до Рю-Дё-Лап, огляделся и направился через толпу. В бары заглядывать нет смысла. У ней нет денег на бары. Бары он осмотрит на обратном пути.
– Марианна!
Она еле-еле шла там, впереди, в толчее мошенников, уличных женщин в юбках-зонтиках. Робер снова крикнул, громче, и Марианна обернулась, нерешительно посмотрела и остановилась.
Он схватил ее под руку и вздохнул.
– К чему вся эта комедия? – спросила Марианна. Голос у нее был глухой, почти безразличный.
– Не спрашивай меня. Иди сейчас.
Он шагал быстро, прокладывая дорогу через толпу.
– Ну, куда ты меня так тащишь? Я не могу так быстро идти, как ты.
Однако он не замедлял шага и, держа ее под руку, почти волочил за собой, словно хотел вытащить вон из этого кишащего, потного и пропахшего одеколоном человеческого потока, и остановился, лишь когда они оказались далеко на пустой площади.
– Остановись. Я задыхаюсь.
Он тоже задыхался и, остановившись, схватил ее за плечи и, не думая больше о том, что делает, обнял ее, и лихорадочно прижимал к себе это тело, которое несколько минут назад бултыхалось кто знает с кем в гостиничной кровати.
– Слушай, Марианна. Я не могу без тебя, Марианна.
Она уткнулась лицом ему в плечо и спина ее легко сотрясалась.
Она смеялась своим беззвучным смехом уличной женщины. Нет, она плакала и не могла больше сдержать свои рыдания, и расплакалась в голос, и всхлипывала, как маленькая девочка, – эта большая, начинающая стареть женщина, – а он лишь обнимал ее за полные беспомощные плечи, и неясно слышал свой собственный голос, который все повторял глупо и стесненно одно и то же:
– Марианна… Не плачь, Марианна. Не надо, Марианна.
А Марианна плакала и напрасно пыталась подавить свои всхлипывания. Она хотела что-то сказать, но всхлипы все так и давили ее, и Робер ощущал рядом со своей щекой ее мокрое лицо и неловко обнимал ее, все повторяя и повторяя свое.
Наконец она овладела собой, слегка отстранилась от него, достала из сумки платочек и утерла глаза.
– Я думала, все кончено.
– Ничего не кончено. Все только сейчас начинается.
– Когда увидела, как ты уходишь, подумала, что все кончено.
– Я тебя сильно ударил?
– Не знаю. Когда я увидела, как ты уходишь… решила, что все кончено.
– Но потом же увидела, что я иду к тебе.
– Да. И даже не поверила.
Она машинально попыталась немного навести порядок у себя во внешности. Достала зеркальце, помаду и подвела губы.
– Но я это ради тебя сделала, Робер. Клянусь тебе, что я ради тебя это сделала…
– Мерси.
– Иной раз случалось это ради нескольких обедов делать или чтобы хозяйке что-нибудь кинуть, а сейчас я обошла впустую все эти дыры и не нашла ни сантима, и подумала о том, как ты сидишь там у входа с разбитой головой, и сказала себе, что нельзя не сделать это для тебя, ты ведь ждешь…
– Ладно. Прекрати.
– Боже, Робер, не вскипай опять. Попытайся меня понять. Для меня это давно уже не больше, чем краткая гнусность, и я лгала тебе, когда рассказывала, что заключаю только долгосрочные сделки с богатыми стариками, лгала тебе, потому что это у меня давно в прошлом и у меня уже не та внешность, чтоб меня богатые старики покупали, а я живу, как могу, и если еще не выставила себя на тротуар, то только потому, что много повидала и знаю, что непременно стану добычей сутенёров. Я конченная, Робер, конченная окончательно и до конца, и…








