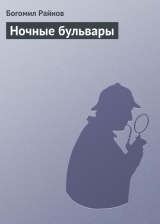
Текст книги "Ночные бульвары"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Они пошли вдоль Рю-Руаяль, затем наобум свернули на Фобур-Сент-Оноре.
– Не понимаю, почему ты берешь в расчет только ночь, – сказала Марианна после краткого молчания. – Можно подумать, день после нее у тебя полностью застрахован.
– Днем легче. Можно попросить у приятелей.
– Знаешь что, – осенило Марианну, – у меня идея. Если найду одну личность, то вопрос с гостиницей будет решен. Надо только пройтись до Елисейских Полей.
– Еще одна «панель»…
– Так точно. А тебя это, что, раздражает?
– Ни в малейшей степени, я тебе уже сказал. Я не в том положении, чтобы угождать предрассудкам.
– Человек с твоей широтой был бы чудесным «макро». [1]1
Т.е. сутенером.
[Закрыть]
– Почему бы и нет. Это – следующий шаг. После того, как был «жиголо». [2]2
Наемный партнер в танцах.
[Закрыть]
– Вот, значит, почему тебе так уличной женщиной меня выставить не терпелось. На одну доску с самим собой хотел поставить.
– Никем я тебя не хотел выставить. Просто подумал, что когда человек – в таком положении, как мы сейчас с тобой, то он ничего не рискует потерять, если будет искренен.
– Может быть. Но что он приобретет?
– Откуда я знаю… Просто выговорится, ему станет легче.
– Смотри-ка! Вот лекарство, какого еще ни разу не пробовала.
– Это видно и без твоих слов. Видно, что ты закрыта и тверда, как кокосовый орех.
– Верно, я такая. И не собираюсь себя менять. Но один-единственный разок… Да перед другом детства… Могла бы и исключение сделать, а?
– Твое дело.
– Хорошо играешь бесстрастность. Все голову ломал, как биографию из меня вытянуть, а теперь безучастного изображаешь.
– Потому что не верю тебе. Одной ложью больше, что толку?
– А чего ты так печешься о правде?
– Потому что она касается тебя. Потому что была бы правдой о Марианне. Потому что готов принять тебя любой, но именно такой, какая ты есть, а не такой, какой тебе взбредет в голову представить себя сейчас, чтобы преподнести мне другую роль назавтра и кто знает какую третью послезавтра…
– Завтра… послезавтра… Ты что, правда думаешь, что мы сможем пробыть вместе так долго?
– Я вообще об этом не думал.
– Страшно болят ноги, – простонала Марианна. – А то чуть было не поддалась на искушение рассказать тебе одну историю…
– Расскажи и забудешь, что болят ноги.
– Какая отеческая забота. Ты вообще-то о ногах моих печешься или о собственном любопытстве?
– Хорошо, молчи, если хочешь. Только перестань заедаться.
– Молчать… или заедаться. Ставишь меня перед очень трудным выбором. Молчать – разумнее. Но заедаться – забавнее. К тому же улица эта так и кишит воспоминаниями. Ты ее знаешь?
– Знаю ее название. Во всяком случае, одеждой я снабжаюсь не отсюда.
– А я снабжалась отсюда. И с «Елисейских Полей». И с «Матиньон». Уличная женщина вряд ли позволила бы себе такую роскошь. И уже одно это должно заставить тебя задуматься о своей логике.
– Принимаю к сведению.
– В первый раз это произошло совершенно случайно, – сказала Марианна, тронувшись дальше. – Я тогда еще работала статисткой. Просто в тот день работы не было и я слонялась по улицам – глазела на витрины. А когда остановилась перед «Дюрером», услышала за спиной голос:
– Вам это нравится, эти вещи?
Это был один «папаша», как тот, с кем ты меня видел в тот раз, только чуть постарше.
– За кого вы меня принимаете? – отпарировала я. – Просто смотрю, что нынче носят простолюдины.
Он взглянул мне на туалет, а туалет у меня был совсем не от Кристиана Диора, слегка усмехнулся и спросил:
– А вы… Что бы вы хотели носить?
– О, – сказала я, – такой вопрос требует обсуждения.
Через два часа мы вышли с «Ревийон» и поехали на папашином «бьюике». Перед этим ходили еще в два места, и я была еще очень глупа и слишком явно выказывала свою жадность, и если не испугала «папашу», то лишь потому, что бумажник у него был такого калибра, что трудно было нагнать на него страху. Не знаю, нужно ли добавлять, что я стала его содержанкой. Ты доволен?
– Дай мне сигарету, – только сказал Робер.
Марианна подала пачку.
– Так ты доволен или нет?
– Начало многообещающее…
Он зажег сигарету, глубоко вдохнул, после чего прилепил сигарету в уголок рта и вернул пачку.
– А потом?
– А потом то же самое. Быть статисткой – не бескрайнее наслаждение, можешь мне поверить. С самого утра идешь занимать очередь и ждешь, а когда начинают выбирать, то нет никакой гарантии, что выберут непременно тебя, потому что и другие на морду не хуже, да даже если и выберут, то только на два-три дня, а какая усталость, боже мой, и какое занудство, а в конце заплатят тебе по тарифу – как раз за съеденные бутерброды да изорванные чулки. Могла бы проституткой стать, верно, но это вызывало у меня отвращение – менять мужчин по пять раз в день без права выбора, – и я знала, что меня непременно заарканят: и придется тогда относить деньги грубияну какому-нибудь или банде, а самой на крохах пировать, так ведь?
– Сейчас ты говоришь.
– Поэтому история с «папашей» заставила меня взглянуть на другую сторону. Если б она продолжилась подольше, эта история, я бы, может, даже и достаточно разбогатела, и стала бы порядочной, да только «папаша» мой не знал меры – в этих делах, я хочу сказать – и наверняка вообще ни в чем не знал меры, и однажды схлопотал небольшой удар – на счастье, не у меня дома, – а потом прислал открытку, что он на отдыхе и скоро даст о себе знать, но так и не дал, а я, разумеется, в моем положении не могла ждать целую вечность, если не хотела отправиться по ломбардам со своими пальто с Ревийон да другими подарками. Поэтому снова начала свои небольшие прогулки по Фобур-сент-Оноре и разглядывала витрины, и подолгу задерживалась, и ждала, чтобы кто-нибудь спросил: «нравятся ли вам эти вещи?», и после скольки-то дней впустую кто-то действительно меня спросил что-то в этом роде, и это был второй «папаша», правда потоще первого, но с более солидным сердцем и человек продолжительных привычек, так что с ним я провела около двух лет, и он еще с самого начала мне сказал: «Не заставляй меня сорить деньгами на дорогие вещи, которые потом продашь за бесценок», а вместо этого каждый месяц выплачивал мне скромную ренту – такую ренту, какую мы с тобой, как экономно живем эту ночь, могли бы года на два-на три растянуть.
Она замолчала, потому что остановилась перед витриной с роскошным бельем, оставшейся в этот поздний час освещенной.
– Боже, какие вещи носят люди. Какое расточительство, чтобы обернуть себе тело. И все же…
Робер терпеливо ждал и курил, уставившись в глубину улицы.
– Нет, ну ты посмотри только на эту комбинацию – пастельно-лиловую, с кружевами.
– Не производит на меня никакого впечатления.
– Варвар. Ты что, никогда не смотришь на витрины?
– Никогда. Впрочем, однажды смотрел, потому что торговец один заказал мне написать картину с его магазином на переднем плане.
– Вот так идея! Ну, хоть хорошо заплатил?
– Ни сантима.
– Вот негодяй. А почему?
– Потому что я нарисовал ему витрину не снаружи, а изнутри. Одну лишь витрину, на которой обратными буквами выведено «Симеон и К°», а перед витриной встала девушка, устремила глаза внутрь – одна бедная девушка из народа, – одним словом, тебе надо было это видеть, этого не расскажешь.
– А… В таком случае торговец был прав. Я бы на его месте тоже такую картину не взяла. Ты, наверно, социалист.
– Я социалист? Ты не приболела случайно?
– Тогда с чего такая идея – с девушкой?
– Как с чего? С того, что я вижу – с того, что есть. С того, что было с тобой, скажем. Впрочем, не имеет значения… Расскажи о «папашах». Наверняка, у тебя их много было.
– Не считала, – сказала Марианна, снова тронувшись в путь.
Она шагала еле-еле, и Роберу пришло в голову, что, может быть, следует подать ей руку, но он продолжал идти рядом с ней, как прежде.
– Вообще-то, как-то вечером на меня напала бессонница, и я попыталась их пересчитать, но сбилась и бросила. Потому что, знаешь, все это очень сложно. Когда человек пускается на такие авантюры, он не может на одних лишь богатых «папаш» расчитывать. «Папаши» не прибывают по расписанию, и иногда целые месяцы бродишь впустую, а иногда приходится вообще бросить бродить, чтоб в лапы к «фликам» [3]3
Полицейским.
[Закрыть]не попасть или к сутенерам, да чтоб тебя не взяли на карандаш, и тогда начинаешь тратить свои сбережения, а расходы – немалые, потому что одеваться всегда нужно по хорошей моде, если хочешь, чтоб тебя считали не за уличную, а за приличную женщину, которая готова продать часть своего времени, но лишь за соответствующую цену… Поэтому много тратишь, и часто сбережения вообще идут ко всем чертям, и идешь закладывать, и случается даже – чтобы совсем не обнищать да продержаться до следующего везения, примешь в постель на раз-другой в гостинице какого-нибудь клиента не на полгода, а на полчаса – и как ты хочешь при всей этой путанице, чтоб я вела статистику лишь потому, что одним летним вечером один знакомый из прошлого может потребовать от меня точных сведений.
Робер не возражал.
– А потом бывают и промашки, бывают обманщики, на которых невозможно не напороться, какой бы хитрой ни была, как бы ни была начеку. Я, например, всегда с подозрением относилась к франтам помоложе, потому что такие, если они не с мордой Мишеля Симона и имеют деньги, то могут найти себе что-нибудь подходящее, не кидая на ветер тысячи, значит, раз клеятся к тебе, то лишь делают вид, что готовы на щедрость. Но со стариками тоже нет гарантии, и этот, например, которого ты моим любовником объявил, сыграл со мной как раз такой грязный номер, что зажарила бы его, как бифштекс, на медленном огне. Любовник! Если уж это – любовник! Обещал мне луну с неба, морочил голову сказками про отдельную квартиру – собственную квартиру на мое имя, – а целый месяц только и делал, что по гостиницам водил, и единственное, что я получила от него не как обещание, – это пузырек «Карвен» за двадцать франков, если не считать еды, – только ведь еда, один раз проглотил – и все, а он исчез и даже еда кончилась, и это в то время, когда я и без того прогорела, и хозяйка конфисковала у меня чемоданы, потому что я должна за квартиру уже триста франков, и иди теперь – ищи эти триста франков, чтобы если не что другое, так хоть тряпки продать, скопленные в добрые дни.
Она снова остановилась, нагнулась и схватилась за лодыжки.
– Ох, ноженьки мои. Рассказывай, как же, что я о них позабуду. Горят, как огонь.
– Это плохо, – согласился Робер. – Но это лишь первая фаза. Потом вообще перестаешь их ощущать – и все в порядке.
– Не ври. Если говорить о ходьбе, так я ее знаю лучше тебя. Ноги свои я всегда ощущаю. И все хуже и хуже.
Он не возражал. Марианна снова зашагала и Робер с ней, думая, что сейчас действительно бы надо дать ей опереться ему на руку.
Они пересекли площадь «Сен-Филип-де-Рул», освещенную и пустую, и вошли на Рю-Ля-Буэси. Тут было темно, фонари бледным светом мерцали через один – лишь вдалеке блестела неоновая реклама «Нью-Йорк Геральд Трибьюн».
– Скажи что-нибудь, – подала голос Марианна.
– Что сказать?
– Неважно что.
– Ничего не приходит на ум. Голова у меня совершенно пуста.
– Признался наконец.
Он не отвечал и они вдвоем продолжали молча идти в темноте и тишине, в которой лишь эхом отдавались их медленные шаги.
На углу Елисейских Полей Марианна остановилась.
– Можешь подождать меня здесь.
– Согласен.
Она ушла и наверняка сейчас пойдет на Рю-Вашингтон, где торчат уличные женщины, или, может, в какое-нибудь из заведений по соседству, где женщины сидят за баром, и Робер спрашивал себя, отчего Марианна оставила его здесь, а не пошла с ним вместе, – теперь, после того, как она выговорилась, и ей уже все равно нечего больше скрывать. Но вопрос этот не слишком его занимал, и он продолжал ждать, ощущая свою голову действительно пустой, совсем пустой, хотя именно сейчас в ней все должно было бурлить и клокотать.
Ноги у него все еще болели болью первой фазы и он отошел в тень, достал свой платочек и сел на бордюр. Мог бы вздремнуть, пока не вернется Mарианна, однако сон прошел, и он лишь сидел так, без мыслей, сидел, кто знает сколько времени, пока до него неожиданно не дошло, что он сидит уже наверно с час и что Марианна давно уже должна была вернуться, и что, даже если бы она обошла все заведения на авеню, и даже по два раза их обошла, то все равно уже давно должна быть здесь.
Он встал, прошелся до угла и заглянул за него. Бульвар простирался необычайно пустой и бескрайне широкий, странный этой своей ярко освещенной пустотой, словно комната, в которой зажжены все лампы, но нет ни одной живой души. Витрины разных кафе то здесь, то там были еще освещены. По асфальту время от времени пролетала с недозволенной скоростью легковая машина. По тротуарам прогуливалось несколько запоздалых пар. Но Марианны не было.
«Бросила меня, – подумал Робер. – Не может быть, чтобы она все еще их обходила. Просто бросила меня.»
Он пошел обратно, потом снова постелил платочек и сел. Куда идти! И какое имеет значение, пойдет он или будет ждать здесь, хотя и без смысла. Если ждать здесь, то есть еще один шанс из тысячи дождаться ее. Все же шанс, хотя и никакой.
– Вы пьяны или что?
Над Робером навис «флик» в ночной пелерине.
– Просто устал.
– Тротуары сделаны не для отдыха. Что будет, если все решат рассесться вдоль тротуара.
– Весело будет.
– Ах, мы еще и остроумны! Только, знаешь, сейчас не тот час, чтобы острить. Вставай!
Робер поднялся, не спеша подобрал платочек, встряхнул, бережно сложил и засунул в карман.
– Давай, пошевеливайся! А не то до участка – недалеко.
Робер все так же медленно зашагал по улице.
– Робер!
Он услышал за спиной торопливое щелканье каблучков и обернулся.
– Робер!
Это была Марианна.
– Наконец-то. И то в тот самый момент, когда я чуть было не нашел себе ночлег в участке.
– Раньше не могла. Той, которую я искала, нигде не было и пришлось идти аж на Ваграм увидеться с другой, а ее тоже не было и пришлось ее ждать, и все это ради одной такой мелочи, из-за которой никто не дает комнаты в гостинице.
– Хорошо, хорошо, – пробормотал Робер. – Не имеет значения.
– Сигарету хочешь?
Робер молча взял из пачки одну сигарету. Они снова вышли на авеню, не потому что там было что делать, а так, не думая, – может быть, просто привлеченные светом, – и отправились к «Обелиску», – может быть, просто потому, что вниз идти легче, чем наверх.
Марианна еще немного поговорила о своей неудаче, но Робер ничего не отвечал, и она скоро тоже замолкла, и они оба шли так, едва-едва, каждый со своими мыслями или со своей пустотой.
– Дальше вниз? – спросила Мaрианна, когда они дошли до «Руи-Пуан».
Робер только пожал плечами.
Здесь уже не было витрин и на бульваре стало темнее, а налетавший с Сены ветер шелестел в ветвистых черных деревьях и колыхал свет и тени по аллее.
– Ты и правда совсем онемел.
– Не могу разогнать сон. Пока тебя ждал, уснул.
– Дело не во сне. У тебя просто пропал аппетит к разговорам. И сказать тебе, с каких пор?
Он не проявил любопытства.
– С тех пор, как я сказала тебе кое-что из того, что тебе так не терпелось услышать.
Он не возражал.
– Потому что ты напрасно пытаешься разыгрывать циника, Робер. Ты – провинциальный мещанин и мораль твоя сейчас шокирована, и ты наверняка спрашиваешь себя, должен ли ты даже в таком положении, в каком сейчас оказался, идти рядом с женщиной, так погрязшей в пороке, как я.
– А, ну да. Именно над этими вопросами я и ломаю себе голову. Поэтому и ждал тебя два часа на тротуаре.
– Брось. Я тебя вижу насквозь.
– Допускаю. Только ничего ты не понимаешь. Я не говорю, что история твоя доставила мне бескрайнюю радость. Она действительно была для меня подлым ударом, твоя история…
– Я так и знала.
– …но не потому что мораль моя шокирована. Если хочешь знать правду, то должен тебе сказать, что ожидал услышать кое-что и похуже. Что ты меняла их по пять раз в день в какой-нибудь из тех грязных гостиниц возле «Мадлены» или еще где-нибудь.
– Стой, – прервала его Марианна. – Я больше не могу. Давай сядем…
Она рухнула на скамейку у аллеи и простонала.
– Положи ноги на сиденье, – сказал Робер. – Обопрись спиной мне о спину и расслабься.
Они посидели так, привалившись спина к спине, и Робер ощущал всем своим существом ее усталое дыхание, ее пульсирующее тело – тело уличной женщины, но теплое и живое среди мрака и одиночества ночи.
– Дай сигарету.
Марианна подала ему пачку через плечо.
– Значит, ты должен быть доволен, что не слышал самого худшего?
– Должен быть, но вот нá тебе, не доволен. Только не потому, что столкнулся с женщиной, которая шокировала мою мораль, а потому что женщина эта оказалась в точности того же качества, что и я, – испорченная и испачканная точь-в-точь, как я сам.
– Что? Уж не занимался ли и ты этим ремеслом?
– Почти.
– Нет, ну ты не станешь меня убеждать, что ты – один из «теть».
Он рассмеялся кратким невеселым смехом.
– Это не единственный способ. Человек не обязательно продает себя мужчине. Женщины-клиентки тоже попадаются.
– Богатая была?
– Очень.
– И страшная?
– Очень.
– Естественно. Красивые находят себе мужчин, не покупая. Продать себя красивой трудно.
– Дело не в том, что я себя продал. Я продал другое, Марианна. Свое искусство.
– Ну, что ж тут такого плохого. Насколько я знаю, человек для того и рисует, чтобы продавать.
– Ты не понимаешь. Душу я свою продал. Вот что я хотел сказать.
– Извини меня, но в таких вещах я действительно не разбираюсь. Не сильна я в тоске по невидимому.
– Только должна ты знать, – и говорю я это не из хвастовства, – что я долго боролся и не упал от первого удара, а мне пришлось получить много ударов, и тяжелых, прежде чем я упал. И если я себя продал, то продал не по доброй воле, как ты.
– Не вижу разницы. Впрочем, если тебя это успокаивает…
Она отодвинулась от его спины.
– Ох, ноги мои. Задавила тебя?
– Нисколько. Наваливайся свободно.
Он снова ощутил полную теплую спину.
– Мы связаны, как сиамские близнецы…
– Какие близнецы?
– Нет, ничего.
– Расскажи про ту, страшную.
– Чтобы рассказать тебе про страшную, нужно рассказать сначала про те десять лет нищеты и про то, как я ходил от торговца к торговцу с картинами под мышкой и как производил серийно акварели по два франка за штуку для старьевщиков по набережным, и как стал уличным фотографом, и как потом меня взяли фотографом порнографических снимков, и как я сидел два месяца в тюрьме, и как много раз чуть не умирал с голоду и разное другое такое же.
– Ничего, хорошо, не перечисляй. Рассказывай. Это снимает с меня усталость – слушать.
– Брось! Запутанные это дела. И забытые.
– Ну, расскажи тогда про страшную.
– Страшная и богатая. Этим исчерпывается все. И надменная, ко всему прочему, как английская королева. У отца ее магазин картин, но всеми делами заправляет она. Если это тебя живо интересует, могу дать адрес дома.
– Почему нет! Папаша может пригодиться.
– Прекрати!
– Тебя это шокирует?
Он промолчал.
– Папаша делает то, что скажет ему Жизель, дочь. Жизель сидит за письменным столом в глубине магазина, склонив напудренную морду над ворохом бумаг, и заключает сделки по телефону. Такой я ее увидел, когда в первый раз вошел со своими жалкими полотнами под мышкой.
– Это не для меня, – сказала она, даже не посмотрев на картины.
– Я недорого продаю.
– А я покупаю только дорогие работы. Это не для меня, говорю вам.
И поскольку я все еще не уходил, она подняла голову, и что-то как будто дрогнуло у нее во взгляде, потому что выражение у меня, наверно, было совсем отчаянное.
– Потому что ты ей понравился, – поправила Марианна.
– Да, скорей, поэтому. Так или иначе, она оставила бумаги и посмотрела на меня: «Господи, в этом городе тридцать тысяч художников, а они все новые и новые приходят и мечтают о славе Пикассо, и голодают как собаки, вместо того, чтобы поискать себе где-нибудь зарплату, как все люди.»
– Покажите мне ваш товар!
Я расставил полотна вдоль стены. Их было три, и на первом я изобразил двух человек – мужчину и женщину, облокотившихся на перила моста.
– И зачем тебе понадобилось это изображать? – полюбопытствовала Марианна.
– Это были два человека – мужчина и женщина: он стоял в фас, небрежно опершись локтями о перила и опустив взгляд, а она повернулась спиной, лицом к реке, и в этом и была вся картина.
– Не вижу никакого смысла.
– Смысл невозможно рассказать, он был внутри картины, в позах этих двух, выражающих отчуждение, в скуке на мужском лице, в скорби женской спины. Развязка, расставание, пауза перед расставанием.
– Мне это кажется очень тоскливым, – заметила Марианна. – И совершенно банальным. Хотя я не разбираюсь в этих твоих работах.
– Но в том-то и дело, что в жизни это банально, а никто не догадался сказать это в картине. В том-то все и дело, что мы проходим мимо таких вещей, потому что они банальны, и уходим рисовать тело своей любовницы…
– Ну ладно, а что сказала та, страшная?
– Вторую картину я окрестил «Воскресенье», – продолжал словно про себя Робер. – Я ее очень любил, эту картину, и она представляла мансарду с задымленной стеной и с худенькой полуголой девушкой, которая гладит себе праздничную юбку…
– Еще одно открытие.
– По-моему, я хорошо передал этот жалкий интерьер и жалкую наготу этого худенького существа, и, может быть, часть ее жалкой надежды, что уж это-то воскресенье не будет таким же, как все остальные, что это-то воскресенье станет настоящим праздником. И в лице, по-моему, было выражение, и тело было хорошо погружено в сумерки, и луч от невидимого окна в крыше косо опускался на грязную стену и на жалкое худое плечо…
– Боже мой, у тебя глаза на одно тоскливое. Да располагай я деньгами украсить комнату, я бы купила себе какой-нибудь пейзаж с пальмами и морем – с чем-нибудь красивым, а не таким, как то, что у меня каждый день перед глазами.
– Если есть деньги, возьми себе лучше настоящую пальму. Это еще приятнее.
– И настоящее море?
– Почему нет. Съезди на Лазурный берег – пальм и моря, сколько хочешь. Ты смешиваешь картины с курортом.
– На курорте я была только раз. Но это – одна из моих грязных историй, потому что богач мой оказался никаким не богачом, а каким-то мошенником и проиграл свои деньги, сколько у него было, в казино, а я еле-еле обратно вернулась.
– На гостиничной кровати, наверно, на дорогу заработала.
– Не важно. Расскажи лучше про ту, страшную.
Робер молчал.
– Ну, расскажи! Чего ты замолчал?
– Вот ведь каков человек, – сказал всё так же, словно про себя, Робер. – Постоянно повторяю себе, что это – прошлое, меня не касается – ни меня, ни былой Mарианны, – а стоит только подумать, как ты с этими стариками извращенными вертопрашила – и как будто кто-то желудок мне горстью мнет. Отвратительно.
– Нет, правда, тебя-то это каким боком касается? Ты что, ревнуешь, что ли?
– Пожалуй, да; похоже, что ревную. Ревную, как будто ты мне жена. Как будто ты мне жена, без которой я не могу.
Она ничего не сказала, словно не слышала. Потом чиркнула спичкой. Зажгла сигарету.
– Ты так и не дорассказал мне про ту, страшную.
– Рассмотрела она мои работы. Без особого интереса, впрочем.
«Умелость у вас есть, – вынесла она приговор. – Но никакого понятия о том, что творится сегодня. Подобные работы непродаваемы… Я не утверждаю, что если вы перейдете на другие, то непременно преуспеете, но с такими, как эти, неуспех вам гарантирован на 100%.»
Разглагольствований такого рода я уже слышал много и стоял и слушал лишь потому, что что-то говорило мне, что пытаться нужно до конца.
– Вы правы, – согласился я, – но работы эти я делал для самого себя. Не на продажу.
– Но вы ведь их предлагаете.
– Предлагаю, потому что уже месяц без крыши над головой и потому что со вчерашнего дня у меня еще не было ничего во рту, и потому что мне больше нечего предложить. И если непременно нужно будет спрыгнуть с какого-нибудь шестого этажа, то я хочу, чтобы это произошло как можно позднее.
На лице у нее показалось что-то вроде улыбки и она крикнула в комнату в глубине.
– Папа, я ухожу ненадолго – пускай Пьер за магазином приглядит.
А затем мне:
– Пойдемте. Выпьем по чашке кофе.
И мы пошли в бистро на углу и пили кофе, и она заказала мне бутерброд, и потом еще один, и еще один, и мы долго разговаривали, особенно я, – потому что после того, как долго не ел, становишься просто пьян от еды, – и не знаю, что именно я говорил: про Ван Гога и про абстрактное искусство, и про все такое прочее, – а под конец она мне сказала, что я явно много читал и видел, но все это перемешалось у меня в голове в кашу.
– Если у вас будет немного времени под вечер, заходите снова… Сходим на выставку. Увидите настоящее искусство.
Если у меня будет немного времени? У меня было столько времени, что я просто не знал, куда его девать, и еле дотерпел до шести, потому что ей не пришло в голову дать мне хотя бы два франка, а я был без сигарет и не мог даже взять пачку бумаги, чтобы курить окурки.
– На, закури! До окурков мы еще не дошли.
Марианна подала ему через плечо пачку.
– Ты догадлива. Мне действительно страшно захотелось курить, когда я вспомнил те бестабачные дни.
Он вдохнул обильный горький дым и приклеил сигарету себе на губу.
– Тебе не надоело то, что я рассказываю?
– Нисколько. Только я еще ничего интересного не слышала.
– Знаю я, чтó для тебя интересно.
– Ничего ты не знаешь. Продолжай.
– Выставка была – абстрактная мазня, но не без уменья. Художник видел краски и знал грамматику, но все они были – два-три приема, повторяемые до отвращения. Это то, что называется «иметь свой стиль». Человеком он, впрочем, оказался неплохим и позднее мы с ним подружились. И… Марианна!
– Да слышу, слышу.
– Марианна, эврика! У меня есть квартира.
Марианна спустила ноги с лавки и повернула голову:
– Тебе что, шесть часов нужно было, чтобы к этому открытию прийти?
– Перестань, главное, что у нас есть квартира. Виллочка Жана-Пьера, того самого художника.
– А где она, эта виллочка?
– Далековато. На Марне.
Марианна простонала и снова подняла ноги на сиденье.
– Шутник. Туда самое малое – десять километров. А я и двух пройти не смогу. Нет, тут умирать будем.
– Но это – чудесный домик. Со всем, что требуется. Это – моя мечта. И даже если там вдруг Жан-Пьер, то нам все равно достанется кухня. Но Жана-Пьера нет, а ключ – под плитой в саду.
– Кончай, не зли меня.
– Как я раньше не вспомнил, в «Нарциссе», пока еще метро работало.
– Да если бы и вспомнил, я бы с тобой не пошла. От «Нарцисса» я бы с тобой не пошла.
– А сейчас пойдешь?
– Ни в коем случае. Десять километров – ты сдурел. Возьмем что-нибудь теплое на Рынке на эти жалкие франки, которые я раздобыла. Потом рассветет, а как рассветет, увидим. Пусть только ноги у меня отдохнут еще немного.
– Своих я уже не ощущаю.
– Когда тронемся, увидишь… Давай, дорасскажи про страшную. Ты мне еще ничего не рассказал.
– Оставь ты эту страшную. Мне больше не рассказывается.
– Нет, рассказывай.
– Хорошо, но в двух словах. Дабы удовлетворить твое нечистое любопытство. Спали мы с ней вместе в тот же самый вечер. В гостинице. Номер оплатила, естественно, она. После сытного ужина. И двух бутылок вина. Оно-то и облегчило мне задачу. Потому что Жизель была страшна не только на лицо. Самка – длинная и плоская, как гладильная доска. И эта самка купила меня за цену, которую определила сама. За цену, которую даже не определяла. Я годился в морг, значит, цена мне была – кто сколько даст. Но Жизель была из общества – по крайней мере, из общества в некотором роде – и сделку следовало оформить в приличном виде, который бы не вызывал раздражения. Я получил студию на чердаке, два костюма, и мелкие деньги. Так похотливость самки приобретала вид меценатства. Бедный талант и щедрая покровительница. Вот и все.
– Не может быть, чтоб все.
– В общих чертах все. Из того, что тебя интересует, я имею в виду. А то, что интересует меня, – это то, что продал я не только свои ночи, а продал всего себя, до дна. Я не хочу сказать, что Жизель поставила мне условия: что делать и как рисовать. Все делалось намного незаметнее и подлее. Она просто втолкнула меня в некоторую среду и оставила там вариться. Вариться, пока не уварюсь до ее вкуса.
– Ты себе говоришь или мне? Ничего не понимаю из твоих великих фраз.
– Она меня впихнула в ту среду свихнувшихся художников и практичных торговцев; в те студии, где перед абстрактной пачкотней пили только скотч-виски и ничего другого, в те кафе, где мои разглагольствования об искусстве вызывали снисходительные усмешки или двумя фразами высокомерно обращались в прах. Впихнула меня и оставила вариться.
– Может быть, хотела сделать тебя пригодным для карьеры.
– Попала в точку. И она то же самое говорила. Хотя и не с твоим цинизмом. Только в жизни, знаешь, все сложнее и сейчас я тебе не дал бы гарантии, что ее действительно так заботила моя карьера. Хорошо бы, разумеется, было для ее самолюбия сделать из меня кого-нибудь, чтобы любовник у нее был не кто попало, а некто. Но, с другой стороны, где гарантия, что выплыв, я продолжу делить с ней постель? И она просто оставила меня вариться, и хотя никогда ни в чем со мной не соглашалась, предоставила мне делать то, что мне хочется, и говорить то, что мне вздумается.
– На что ж ты тогда жалуешься?
– Ни на что. Ни на что не жалуюсь. Я привык к ее людям, разговорам, кафе. Привык к «кальвадосу», потому что без «кальвадоса» ночи с Жизелью были бы невыносимы. Привык к безделью. На что мне жаловаться? Однажды вечером, поднявшись в студию, Жизель застала меня за тем, как я пьяный рисую абстрактную живопись.
– Вот обрадовалась-то, наверно…
– Не думаю. «Абстрактную живопись под „кальвадосом“ не делают, – сказала она мне. – Слишком сильным себя мнишь, если шутя ее создать решил…» Этот назидательный тон! Она всегда меня бесила им… Особенно когда была права. Потому что из моих абстракций действительно ничего не выходило.
На другой день я попробовал снова – и снова безуспешно. И ожесточился. Закрылся на целый месяц и извел не знаю сколько полотен и наконец снова позвал Жизель. Она небрежно прошлась вдоль прислоненных к стене картин, в двух-трех местах задержалась, потом сказала:
– Видишь? Не так это легко. Местами попадается кое-что по мелочам, но, в общем и целом, пейзаж скорее отчаивающий.
– А чем это полотно, осмелюсь спросить, хуже де-Сталь или Полякова, или того, что у Поллока?
– Не знаю чем. Дело в том, что они это сделали раньше тебя. Все это уже сделано, пойми. Ты подражаешь. Может, даже сам не осознаешь, но подражаешь!
– А они? Какое великое открытие преподнесли они, твои боги? Один-другой фокус, один-другой плоский фокус – вот и все их открытия.
– Прекрасно. Тогда тебе ничего не остается, кроме как тоже найти свой фокус. Но свой, а не чужой!








