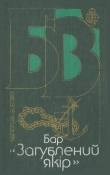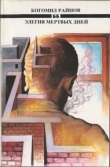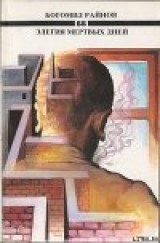
Текст книги "Заядлый курильщик"
Автор книги: Богомил Райнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Богомил Райнов
Заядлый курильщик
Эти строки написаны без претензии на то, чтобы определить значение и художественные особенности творчества, остающегося пока неисследованным и неоцененным. Читатель не найдет здесь биографических данных, расположенных в хронологическом порядке, потому что это не жизнеописание. Не хотелось бы писать об эпизодах, о которых мне известно из вторых рук, или давать оценки, которые могут быть восприняты как выражение сыновней пристрастности.
Что касается пристрастности, то мне кажется, что в области духа родственные связи не всегда проявляются в инстинктивной привязанности, характерной для бытовых отношений. Как известно, нет пророка в своей семье, и когда мы очень близко знаем человека, мы менее всего склонны торжественно поднимать его на пьедестал, который полагается ему по мнению поклонников. К этому банальному утверждению следует добавить и тот факт, что хотя я рос в среде друзей отца и среди отцовских книг, я как-то незаметно перенял взгляды, во многом ему чуждые. Эти различия, сдобренные соответствующей дозой юношеской самонадеянности, порой заставляли меня относиться к творчеству Старика с долей пренебрежения. Так что если пристрастность и была, то отнюдь не в его пользу. Должны были пройти годы, прежде чем я понял: многими из тех взглядов, которые не совпадали с отцовскими, я в значительной мере был обязан ему же.
Это, наряду с другими, более важными вещами, трудно понять тому, кто не знает, что за человек был Николай Райнов. И потому следующие строки мне хотелось бы посвятить именно человеку, такому, каким я его знал и запомнил.
* * *
В самых ранних воспоминаниях моего детства живет строгий человек, высокий и худощавый, с табачно-смуглым лицом, в халате табачного цвета из плотной хлопчатобумажной материи, с вечно зажатой меж пожелтевших от табака пальцев дымящейся сигаретой. Заядлый курильщик, склонившийся над письменным столом, с раннего утра и до позднего вечера что-то писал.
– Дети, тише! Отец работает! – предупреждала вполголоса мама, когда мы с братом затевали драку.
Предупреждение было почти излишним. Мы жили в одной-единственной комнате, служившей одновременно спальней, кабинетом и детской, но отца не беспокоили шум и суета, потому что когда он писал, то попросту не слышал и не видел того, что происходило вокруг.
Гораздо позднее я заметил, что заядлый курильщик был совсем невысокого роста, что выражение строгости на его лице было лишь отпечатком постоянной сосредоточенности. Вообще, мои представления о нем не раз менялись с течением лет. Единственно неизменным осталось впечатление о постоянной, каждодневной, захватывающей его без остатка работе человека, склонившегося над письменным столом и размеренно нанизывающего слова на бумагу – одно за другим, строка за строкой – карандашом или фиолетовыми чернилами. Он не вышагивал по комнате, не вытягивался на кровати и не затачивал карандаши, собираясь с мыслями. Как прикованный, он сидел за столом, в своем байковом рабочем халате, и делал книгу так же, как другие делают инструменты или, скажем, мебель. Если случалось, что некому позвать его обедать, день проходил без обеда. В сущности, он вряд ли заметил бы и то, что день прошел, если бы в силу законов природы не возникала необходимость зажечь лампу.
В моем детском уме представление об отце было настолько тесно связано с представлением о писании, что родственники забавлялись, спрашивая меня:
– Что делает папа?
На что я неизменно отвечал:
– Пишет и трет резинкой.
Если разговор происходил в присутствии отца, по его нахмуренному лицу пробегало нечто вроде улыбки и он замечал:
– Этой резинкой ты выставляешь меня на посмешище, сынок. Люди подумают, что в первой половине дня я только и делаю, что ошибаюсь, а во второй половине – исправляю ошибки.
После небольшой паузы он добавлял:
– А впрочем, так оно и есть.
И снова склонялся над рукописью.
Так это было или нет – этого я не смог узнать ни тогда, когда еще и не задавался вопросом, что именно пишет мой отец, ни позже, когда уже прочел его книги. Должны были пройти годы, и я сам должен был начать писать, прежде чем я смог уразуметь смысл реплики и понять, что только в борьбе с досадными ошибками языка и мысли, в упорной правке, которую я наносил снова и снова, рождается та малая художественная истина, до которой мы способны докопаться.
Имя Николая Райнова было одним из популярных в литературе в период между двумя войнами. Поэтому задолго до того, как я составил собственное мнение о том, что делает этот человек, я начал сталкиваться с мнением окружающих. Чаще всего эти столкновения были такого свойства, что редко обходилось без потрясений, по крайней мере для меня.
– Твой отец – великий человек, – говорили мне близкие и знакомые. – Так что смотри, быть сыном великого человека нелегко.
Другие развивали эту мысль и деликатно намекали, что из детей великих людей, как правило, толка не бывает.
А третьи за спиной отца удостаивали его такой характеристики, что только врожденное упрямство заставляло меня молча глотать слезы.
Я был во втором классе, когда одноклассник с важным видом сообщил мне доверительным тоном:
– Моя сестра учится у твоего отца в академии. Говорит, что старик совсем выжил из ума.
– Сам ты выжил… – ответил я, не вполне понимая смысл слова.
После чего беседа закончилась или, вернее, перешла в драку портфелями.
Несколькими годами позже в одной компании, которая была мне не по возрасту – она состояла главным образом из студентов – зашел разговор, который мне запомнился. Поводом для разговора было мое присутствие, но темой был мой отец.
– Да что тут разглагольствовать, – говорил один юрист. – Вы только сравните образ Райнова с образом Фореля. – И он указал на висевший на стене портрет известного в то время сексолога. – Вы только посмотрите на этого человека: жизнерадостное лицо, приветливый взгляд, и вспомните другого: хмурый, мрачный, впалые щеки аскета и глаза фанатика. Если этот – апостол жизни, тот – ее отрицание. Яснее ясного.
Юрист никогда не видел Николая Райнова, разве что на фотографии, но в тоне его звучала нетерпящая возражений категоричность. Тщетно пытался я понять своим детским умом, в чем провинился мой бедный отец перед великим Форелем и чем, собственно, этот Форель прославился.
Потом мне часто приходилось слышать самые невероятные суждения и самые фантастические легенды о Старике. Рассказывали, будто он неспособен работать без бутылки ракии на письменном столе. Другие заменяли ее плетеной бутылью, вполне логично рассуждая при этом, что раз писатель много пишет, значит, и ракии должно быть много. Рассказывали также, будто он устраивал спиритические сеансы, разговаривал с духами мертвых, тайно занимался белой и черной магией. Одни считали его отшельником и святым, другие – богемным типом или мизантропом.
К счастью, с течением лет у меня все больше и больше вырабатывался иммунитет к подобного рода невинным преувеличениям или преднамеренному злословью. Постепенно я закалился настолько, что даже не давал себе труда возражать. Во мне осталось жить лишь недоумение: неужто и вправду отец был настолько непроницаем для окружающих или сдержанность его поведения возбуждала ненависть в людях, владевших даром с авторитетным видом говорить о вещах, о которых у них не было ни малейшего понятия.
Действительно, можно было говорить о Николае Райнове как о человеке в какой-то мере непроницаемом, но он отнюдь не относился к тем, кто любил окружать себя ореолом загадочности и исключительности.
Его «непроницаемость» была естественным следствием характера, сурового семинарского воспитания и известных профессиональных навыков. Он был из тех людей, которые говорят мало, потому что много думают. Бывало, если нам не удавалось разговорить его, он мог весь день провести в молчании. Это вовсе не смущало его, скорее даже наоборот. Лицо его казалось замкнутым и бесстрастным, и только те, кто хорошо его знал, могли по едва уловимым признакам догадаться, что он в плохом настроении, чем-то озабочен или же просто поглощен своими мыслями. Он редко смотрел на собеседника в упор, но незаметно и внимательно следил за ним краем глаза. Если же собеседник являлся в неподходящее время, Старик невозмутимо продолжал писать, отвечая односложно – «да» или «нет» – на все вопросы, которые он едва слышал, или же время от времени вставлял: «неужели?», пока незваный гость не догадывался ретироваться.
Молчаливость и сосредоточенность, присущие моему отцу, некоторые люди толковали как признак высокомерия и холодности. Он и в самом деле не любил растрачивать свои чувства и не стремился их выражать, но не потому, что их у него не было, а потому, что считал: чувства – это нечто такое, что заслуживает уважения и нуждается в защите от словесного опошления. Выросший в нищете и лишениях, Старик не мог с безразличием относиться даже к самым банальным случаям чужого несчастья. Идя по улице, он имел обыкновение глядеть прямо перед собой, будто не замечая ничего вокруг, но это не мешало ему увидеть сжавшегося в каком-нибудь углу нищего.
– Дай вот это тому бедняку, – бормотал отец, протягивая мне монету.
Однажды при подобном случае один художник, сопровождавший нас, не удержался от замечания:
– Ты уже решил социальный вопрос…
– Нет, но зато решил вопрос с обедом этого человека, – ответил Старик.
В другой раз моя тетка, учительница, рассказывала о злоключениях одного из бедных ее воспитанников, которому приходилось ночевать в сыром подвале.
– Пусть приходит и живет у нас, – коротко сказал отец. Тетка удивленно взглянула на него поверх очков.
– Но у тебя своих двое…
– Где двое, там найдется место и третьему, – пожал плечами Старик.
И нас стало трое.
«Холодность» моего отца выражалась, между прочим, в его сдержанности в отношении к собратьям по перу. Он общался кое с кем из писателей, но чурался модных мест, где устраивали свои сборища интеллектуалы. Знаменитое кафе на бульваре царя Освободителя он посетил, если мне не изменяет память, один-единственный раз, причем это произошло совершенно случайно, однажды вечером, потому что заведение было почти пустое и потому что Илия Бешков, который был с нами, захотел зайти туда. То, что отец сторонился профессиональной писательской среды, снискало ему славу отшельника, однако это основывалось не только на его пренебрежении к посредственности, поднимающей вокруг себя шумиху, но и на его отвращении к привычным в подобных кругах сплетням и личной вражде. Он не испытывал интереса к чужим творческим замыслам, а еще меньше любил делиться собственными, убежденный, что разговоры разрушают их и что дело можно обсуждать только после того, как оно действительно превратилось в дело.
Конечно, немало было и таких людей творческого круга, которых отец уважал как писателей. С некоторыми из них, как Лилиев или Траянов, его связывала старая дружба, но его встречи с этими поэтами были редкими и нерегулярными. Других же его близких друзей – Димчо Дебелянова, Гео Милева и Христо Ясенова – давно не было в живых. Его связи с Елином Пелином, Йовковым, Стаматовым ограничивались официальным знакомством. Сравнительно чаще он виделся с некоторыми из более молодых – Фурнаджиевым, Каралийчевым, Светославом Минковым.
Но этот же человек, проявляющий такую сдержанность в отношении большинства своих коллег, порой охотно заглядывал в квартальную пивную угоститься с нашим слугой Павлом. Сначала Павел усаживался на краешек стула, смущаясь, не поднимал глаз с полу, пока, бывало, отец не скажет:
– Да сядь ты как человек! А то еще трезвым свалишься со стула.
Когда к нему приходили по разным писательским делам, отец по обыкновению лаконично приказывал: «Скажи, что меня нет дома!» Ненавидя любую ложь, он позволял себе эту единственную и прибегал к ней по нескольку раз в день, чтобы иметь возможность спокойно работать. Однако эта ложь во спасение дала начало легендам, будто он был нелюдим и груб с людьми. Но Старик считал, что то, что он пишет – пишет именно для людей, и что люди далеко не исчерпываются этими пятью посетителями, которые отнимут у него пять часов в разговорах, и что для писателя «люди» – это прежде всего читатели.
Но этот же самый человек, готовый спрятаться от не вовремя свалившегося на голову собрата, уделял время заботам самых разных знакомых, приходящих «по важному делу», разумеется, важному для них самих, а не для него. Был один изобретатель, годами подряд приходивший каждую неделю и по нескольку часов занимавший его своими открытиями «вечного двигателя». Был один пропащий артист, который однажды утром зашел к нам, чтобы перехватить немного взаймы, а ушел через шесть месяцев. Был один известный протогеровист, долгое время скрывавшийся от пуль михайловистов в кабинете отца. Не говоря уже о студентах Старика или моих друзьях, которые то и дело ночевали у нас на кухне.
Однажды, придя из школы, я заглянул в кабинет и увидел незнакомого посетителя крупного телосложения и с бритой головой. Незнакомец засиделся. Из соседней комнаты я не мог слышать разговора, потому что гость говорил вполголоса.
– Кто это был? – спросил я, когда посетитель ушел.
– «Дежурный», – ответил отец, уткнувшись в бумаги и явно собираясь наверстать упущенное.
– Взломщик? – вскричал я, и голос мой задрожал от волнения. Еще бы, ведь это была кличка знаменитого в то время взломщика сейфов.
– Да. Только что его выпустили из тюрьмы, – снова пробормотал отец.
– И зачем ты ему понадобился?
– Предлагает вместе выпускать фальшивые деньги… – засмеялся Старик.
У него была такая привычка – неожиданно рассмеяться. В такие мгновения лицо его странным образом преображалось, молодело. Увидев, что я не отхожу от письменного стола и у меня готов сорваться с языка новый вопрос, отец перестал смеяться, посерьезнел и объяснил:
– Друг с фронта вернулся. Ну ладно, мне надо работать.
Человек, считавшийся «утонченным эстетом» и «аристократом духа», не видел ничего особенного в дружеской беседе с уголовником. Ранг и занятие человека для него не имели никакого значения. Он гораздо больше общался со своими учениками, чем с коллегами профессорами. Студенты часто приходили к нему домой или приглашали его на свои вечеринки.
Случалось, конечно, и ему ошибаться в людях, но гораздо чаще ему достаточно было беглой беседы с человеком, чтобы разобраться в нем.
– Не води ты больше ко мне этого Ноздрева! – сказал он однажды, после того как я явился к нему с одним мошенником и хвастуном, предлагавшим издать какую-то книгу отца.
Для краткости Старик характеризовал знакомых литературными прозвищами. По его примеру и я иногда пользовался этим приемом, но не так удачно.
– Неплохой человек, – сказал я как-то об одном близком нам человеке, – правда, немного он Дон-Кихот.
– Дон-Кихот? – возразил отец. – Да это живой Тартарен.
Многочисленные и нередко странные связи Старика отнюдь не способствовали разрушению фантастических легенд о нем, наоборот, они по-своему питали их. Одни объявляли его чудаком, другие – выжившим из ума, как выразилась сестра моего однокашника.
Находились также люди, которые считали, что безразборные знакомства отца с разными типами объясняются своебразной писательской корыстью – коллекционированием разновидностей человеческой фауны. Слов нет, писательское любопытство в нем никогда не дремало, но в его связях с окружающими оно никогда не выступало на передний план. Ограничиваться рассмотрением людей сквозь лупу значило для него оказаться в роли врача, исследующего больного не с целью лечения, а ради изучения особенностей болезни.
Пристрастность была чертой его темперамента. Если ему доводилось стать свидетелем чего-либо, он не мог равнодушно пройти мимо. Вот почему ему, в молодости бывшему сторонником политической неангажированности, было уготовано – прежде чем он разделил наши позиции – с головой окунуться в одну политическую драму: македонскую. Не хочу сказать, что он забросил писательскую работу и целиком отдался борьбе с терроризмом – это было не в его характере. Но именно как писатель и он наперекор угрозам встал на сторону людей, которых в те дни расстреливали прямо на улицах Софии, потому что над убийцами распростерлась сень благословления дворца.
Старик никогда не был равнодушен к людской юдоли, но в то же время не любил копаться в жизни людей, любопытствовать или давать свою оценку или рубить с плеча, вынося приговор в отношении того, чего не знал как следует. Помню, как-то вечером к нам в дом пришел Крыстан Поптодоров, тот самый протогеровист, который когда-то скрывался в кабинете моего отца. Он только что вышел из тюрьмы, и отпраздновать это событие было в порядке вещей. За разговорами мы засиделись допоздна. Крыстан был спокоен и невозмутим, будто он возвращался не из тюрьмы, а из дома отдыха. Он переночевал у нас, а на утро выпил кофе, прочитал газету и так же спокойно попрощался. В тот же день он зарезал жену за измену и застрелился.
– Ничего удивительного, если для человека пользоваться оружием – все равно что пользоваться носовым платком, – прокомментировал я за ужином.
– Не суди о вещах, о которых не имеешь понятия, отрезал Старик. – Я лучше тебя знал этого человека.
И он углубился в книгу, чтобы показать, что не только лучше моего знает, но и лучше меня умеет молчать. Отец презирал – поверхностность суждений о сложных вещах и умел не переступать ту границу, которая довольно четко разделяет отзывчивость от любопытства и сплетен.
* * *
Пока мама была жива, она была главным действующим лицом в моей жизни, а отец стоял как-то в стороне, как человек, который присутствует в доме, но слишком занят, чтобы принимать участие в повседневной суете. Когда мама умерла, роли сменились: отец вынужден был взвалить на свои плечи заботы о семье, а мама молчаливо присутствовала в наших воспоминаниях, портретах, в каждой вещи, которой касались ее заботливые руки.
Она неизменно присутствовала и в мыслях Старика. С той поры – хоть у него был непродолжительный второй брак – ему предстояло прожить жизнь вдовца, потому что он не мог забыть ту, оставшуюся для него единственной.
Дом, который мама самыми скудными средствами постаралась сделать уютным и приветливым, с течением лет приобретал все более запущенный вид. Половики и одеяла были рваные, стулья – продавленные или подвязанные проволокой, картины, когда-то украшавшие стены, теперь, задымленные и запыленные, еще больше уродовали наше жилище. Такая обстановка ничуть не смущала отца хотя бы потому, что он редко обращал на нее внимание. Он был приучен придавать бытовым нуждам ровно такое значение, какое, по его мнению, они заслуживали: главное, чтобы можно было продолжать свое существование, то есть работать. Ему было безразлично, что обедать, и, пока он обедал, внимание его было сосредоточено не на пище, а на книге, которую он читал, медленно пережевывая пищу. Костюмы он носил по десять лет, а его последнее пальто, вероятно, было вторым в его жизни, потому что оно выдержало четверть века. Это было чрезвычайно прочное и толстое пальто из какого-то импортного материала бежевого цвета. Когда отец, а он был очень худой, надевал его, казалось, что его худое тело помещено в фанерную упаковку. Самое странное, что, несмотря на продолжительную носку, его вещи всегда оставались безукоризненно чистыми и выглядели почти новыми.
Единственное, чего в нашей квартире было в неограниченном количестве, это книги. Они заполняли шкафы и многочисленные этажерки, горами высились в двух углах кабинета и на одном неиспользовавшемся для работы письменном столе. Отец приспособил под библиотечные шкафы даже гардеробы, что вполне естественно для дома, где одежды мало, а книг – много.
Сначала все это богатство было недоступно для меня главным образом по двум причинам: с одной стороны, Старик не любил, чтобы рылись у него в кабинете, а с другой – библиотека, несмотря на всю свою внушительность, была крайне бедна на такие шедевры, которые могли взволновать меня – романы Майн Рида или Фенимора Купера.
Однажды, в приливе домашнего прилежания, я попросил разрешения вытереть пыль с книжных полок, и отец кивнул мне в знак согласия. Уборка отняла у меня все утро, потому что, чтобы вытереть все хорошенько, некоторые книги приходилось вытаскивать из шкафа, а раз уж они вытащены, ничто не мешало рассмотреть их. Я испытывал благоговейный трепет от того, что наконец-то мне удалось добраться до святая святых, и не мог надивиться, что все отцовские книги, как переплетеные, так и непереплетеные, выглядели совсем как новые, хотя он пользовался ими уже много лет.
– Можно мне взять почитать этот роман? – спросил я робко, когда уборка была окончена.
Это было «Преступление и наказание».
– Это пока не для тебя, – ответил Старик, подняв глаза от рукописи и глянув на объемистый том в переплете.
– Но я все понимаю, когда читаю…
– Ну, раз понимаешь…
Отец усмехнулся уголками губ, потом добавил:
– Только береги ее. Книгу нужно уважать.
«Береги ее», по крайней мере в моей версии, не значило непременно «верни ее». Так что, прочитав роман, я прибавил его к небольшой стопке своих литературных сокровищ, только чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Ничего не произошло. Это вдохнуло в меня смелость, и при следующей уборке я попросил вторую книгу. А потом уборки стали чем-то традиционным, и год спустя Старик, который в общем-то редко вспоминал о подарках, купил мне солидную этажерку. С этого момента я располагал настоящей собственной библиотекой.
Постепенно вся художественная литература, собранная в кабинете отца – это было огромное собрание – перекочевала в мою комнату. Гораздо позднее, когда я уже не жил у него, я получил и литературу по изобразительным искусствам. Это были редкие издания и роскошные дорогие альбомы. Между нами говоря, с моей стороны это было настоящее вымогательство, так как отец с ними работал, а я тогда ими в основном любовался. Но Старик только кивнул головой в ответ на мою просьбу, и тома переселились из ветхих облупленных шкафов в мою новую квартиру – там несколько позднее бомбардировки обратили в прах и пепел блага, которые я получил в ответ на свой не слишком красивый жест. Книги были единственными вещами, к которым отец испытывал привязанность, прочно укоренившуюся привязанность, преодолеть которую у него нашлись и сила, и воля, и он только безучастно кивнул.
Книга была единственным, на что Старик был готов выделить средства без возражений и не морщась. Не помню, чтобы я когда-нибудь попросил у него денег на книгу, а он отказал или ответил обычным в других случаях «посмотрим», что на его языке означало «не особенно рассчитывай». Когда в 1938 году у нас начали получать советские книги, я приносил домой каталоги и подчеркивал издания, которые хотел бы выписать, а отец просматривал список, добавлял кое-что и давал необходимую сумму.
На все остальные расходы – за исключением самых необходимых – отец давал деньги с трудом. Он считал неморальным, чтобы человек располагал деньгами, прежде чем он научится их зарабатывать, что деньги способны развратить молодого человека, если он не научится их зарабатывать. Пять левов на кино у него можно было выпросить без особого риска, но не чаще чем раз в неделю. Прежде чем приступить к такой операции, мы с братом долго спорили и советовались, кому из нас двоих взять на себя эту деликатную миссию. Другие расходы на удовольствия вообще не предусматривались.
Старик не только не был скупым, но даже не был особенно бережливым человеком. Если он и проявлял известную твердость в финансовых вопросах, то лишь в воспитательных целях, так как после смерти матери заботы о нашем воспитании целиком легли на его плечи. Помню, как однажды утром я осмелился попросить у него денег на слоеный пирог – баницу.
– Зачем тебе баница? – поднял брови отец, будто я попросил не баницу, а какую-то вещь неизвестного назначения.
– Чтобы перекусить на большой перемене.
– Баницы едят только избалованные дети богачей. А в это время бедняки грызут ломоть хлеба, посыпанный солью с чабрецом. А тебе не будет стыдно давиться баницей, когда другие вокруг тебя глотают слюнки?
В квартале вокруг Докторского сквера, где мы тогда жили, в те годы селился богатый люд. Отец с молчаливым презрением относился к обитающим по соседству нуворишей и «сильных дня» и не одобрял, что время от времени я водился с их сынками, хотя по своему обыкновению и не запрещал мне. Однажды, когда я ходил к одному своему однокашнику, сыну бывшего министра, и пожаловался, что тот отказался дать мне почитать какую-то книгу, Старик заметил:
– Зачем ты туда ходишь? Разве не видишь, что ты унижаешься? Твой отец ни бывший, ни будущий министр, так что нечего тебе там делать.
Говоря о воспитании, я отнюдь не имею в виду, что Старик стал чем-то вроде няньки. В сущности, он продолжал сидеть там, где сидел всю жизнь – за письменным столом и над рукописями, будто предоставляя нас самим себе. И все же каким-то образом, с помощью беглых и вроде бы случайных вопросов за обедом или ненадолго заглядывая в нашу комнату, когда мы учили уроки, он умел быть полностью в курсе наших дел и умел воздействовать на нас иногда словами, а порой и молчанием.
Его молчание было для нас страшнее всего. Иногда оно продолжалось неделю, и это означало, что наш проступок расценивается как тяжелое провинение. В такие периоды Старик переставал употреблять свои обычные «да» и «нет» и над домом нависала невыносимая тяжесть. Мы не решались просить прощения и обещать, что «больше не будем». Он не научил нас подобным манерам, потому что считал их унизительными и потому что не придавал особого значения словесным заявлениям. Инквизиция безмолвия прекращалась только тогда, когда за обедом удавалось сказать нечто вроде:
– Сегодня меня вызывали по арифметике и я получил «пятерку».
– Хорошо… – бывало, проворчит Старик.
Он учил нас не оплеухами, к которым никогда не прибегал, ни даже пространными нравоучениями, а только своей принципиальностью, в каждом конкретном случае давая нам отчетливо понять, что хорошо, а что – плохо, и еще конкретнее – что плохого он не потерпит ни в себе самом, ни в других. Самым большим злом он считал лень и эгоизм. Но злом также были ложь, грубость, самохвальство, неряшливость во внешнем виде, языке или поведении.
– Это неприличное слово. Оно отвратительно и по смыслу, и по звучанию, – бывало, скажет он, когда кто-нибудь из нас выдавал что-нибудь из уличного жаргона.
И этого замечания было достаточно, чтобы мы перестали баловаться жаргоном.
Когда брат поступил в академию и впервые явился на экзамен по истории искусств, отец поставил ему двойку.
– Другим за такой ответ ты не ставишь двоек, – осмелился заметить брат дома.
– Верно. Чужим сыновьям за такой ответ я ставлю «четверку». Но именно потому, что ты – мой сын, а не чужой, я поставил тебе «двойку», – невозмутимо ответил Старик.
Подтекст был достаточно прозрачен, однако брат не мог остановиться:
– Но ведь для всех должна быть одна мера…
– Одна мера только у господа бога. Я не господь. Когда передо мной паренек, который ради того, чтобы учиться, моет тарелки в ресторане, я не могу требовать от него того же, что должен требовать от тебя, у которого под рукой столько энциклопедий.
Из всех энциклопедий, которые были у нас под рукой, мы больше всего пользовались той, которая называлась Николай Райнов. За незнакомым словом или именем, за какой-нибудь датой или событием мы подходили к письменному столу Старика и ждали, когда он допишет фразу.
– Чего тебе? Что случилось?
– Переведи, пожалуйста, это предложение…
Или:
– Что значит «азимут»?
И отец склонялся над «Анабазисом» или терпеливо объяснял, что такое «азимут». Он мог дать исчерпывающий ответ по самым различным вопросам в самых различных областях. Он владел всеми европейскими языками, и древними, и новыми, за исключением скандинавских и венгерского. Он изучил их сам с помощью пособий, и, хотя не пользовался ими в разговорной форме – он редко говорил и на своем родном языке! – владел ими в достаточной мере, чтобы читать без словарей. Он с увлечением читал и художественную литературу, и книги по искусству, и труды для специалистов по истории и археологии, по ботанике и астрономии, по философии и социологии, по психологии, этике, истории религий и бог знает еще по чему. Естественно, что иногда наш вопрос касался чего-то забытого или неизвестного Старику. В такие минуты он только поднимал прокуренные пальцы, что означало «подожди!», «постой!», открывал дверцу одного из шкафов и через минуту находил нужный для справки том.
Живая энциклопедия предназначалась не только для семейного пользования. К Николаю Райнову приходили всякие люди, зачастую совсем незнакомые, они просили самые различные справочники для научных трудов, диссертаций или для самообразования. Если посетитель имел несчастье явиться в неподходящее время, самое многое, чем он рисковал, это что его отправят восвояси с просьбой прийти через день-два. Отец считал безнравственным отказывать людям в знаниях, которые сам получил от других. И еще одна его черта – он всегда ясно выражал свое личное мнение, но никогда не навязывал его другим.
С этой его чертой я столкнулся, когда был в начальном классе гимназии. Однажды в конце занятий ко мне приклеился один из старшеклассников и предложил вместе пойти домой, чтобы поговорить по дороге. Разговор начался с благородных рассуждений о национальных идеалах и о необходимости очистить общество от коррупции и нищеты, а закончился призывом вступить в небезызвестную в то время организацию «Национальные легионы». В заключение я получил приглашение на очередной сбор софийского легиона.
За обедом я рассказал об этом отцу и довольно обстоятельно передал ему разговор с легионером.
– Всяк расхваливает свой товар, – обобщил Старик, когда я кончил.
– Но ты-то как считаешь? – спросил я, хотя мнение Старика было совершенно ясно.
– Раз тебя интересуют подобные вопросы, пойди, посмотри, чем занимаются эти люди, а потом поговорим.
Однако мне представилась возможность увидеть, чем занимаются легионеры, и не ходя на их сборище. Неделю спустя отцу предстояло выступить с лекцией на тему «Свободные каменщики». Из этой организации он совсем недавно вышел, разочарованный тем, что за ее высокоморальными девизами кроются нравы и деяния совершенно другого естества. Именно поэтому он уже попытался однажды публично изложить мотивы своего выхода. Беседа проходила в переполненном зале. Сидевшие в публике фашисты то и дело шикали, прерывали отца провокационными вопросами. Фашисты по своим соображениям были противниками масонства, но расценивали выход отца из ложи как своего рода маневр, позволяющий ему рекламировать эту организацию, заняв позу объективного и критичного свидетеля. Основание для подобных подозрений они находили в том, что отец употреблял такие слова, как «свобода» или «братство». По их убеждению, «добронамеренный болгарин», как тогда говорили, не стал бы употреблять таких терминов. Несмотря на молодость, у меня уже было достаточно личных впечатлений, чтобы я мог судить, был ли выход отца из этой организации ловким маневром или следствием глубокого и горького разочарования. Однако это другая история.