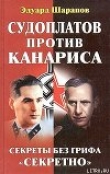Текст книги "Гибель адмирала Канариса"
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3
«…Однако вернемся к Франко, – сказал себе обер-шпион, отпивая очередную порцию вина. – И на сей раз каталонскими страстями постарайся не увлекаться. Не забывай, что генерал Франко – не только твой спаситель во время войны, но и послевоенный покровитель. Так что пора принимать решение».
Особенно расчувствовался Франко после того, как узнал, что сразу же после «берлинской фиесты» Канарис лично отправился в Италию, чтобы там, вместе с руководителем итальянской разведки генералом Роаттой, склонить на его сторону Муссолини. Это было непросто, поскольку дуче слишком ревниво следил за появлением в Европе еще одного вождя. Он-то считал, что международное фашистское движение должно почитать только одного лидера – Муссолини. Даже Гитлера амбициозный Бенито воспринимал всего лишь как его, «великого дуче Италии», безликую тень.
Встреча, которую генерал Франко устроил затем в Мадриде руководителю абвера, превосходила все ожидания. Но дело не в этом. Все там, конечно, было: и пышные приемы, и случайно оказывавшиеся на его тщательно охраняемой вилле страстные испанки, и инспекционные поездки на передовую, в которые Канарис отправлялся куда охотнее, нежели на очередную загородную прогулку, чем, к слову, очень удивлял Франко…
Адмирал до сих пор помнит контратаку батальона франкистов у Кандел еды, в отрогах горного массива Сьерра-де-Гредос, в котором почти все это подразделение полегло в штыковой атаке на глазах у вождя.
– Вы видели, адмирал?! Вы ведь видели все это своими глазами! Они погибали с тем же презрением к смерти и тем же благоговением к своему полководцу, с какими в свое время погибала французская старая гвардия на глазах у Наполеона! – возбужденно произнес Франко, садясь после окончания боя в свой броневик.
– Внушительное зрелище, – мрачновато признал адмирал, не решаясь напомнить Франко, что тот лишился еще одного своего отборного батальона, не получив при этом никаких доказательств его победы.
– Фюрер должен знать, с каким мужеством мои парни сражаются с русскими, с коммунистами – со всеми теми, с кем германцам еще только предстоит схлестнуться. Знать и по достоинству ценить.
Канарис тогда промолчал. Он видел, что в течение всей этой кровавой штыковой схватки генерал созерцал гибель своих солдат, как если бы созерцал резню гладиаторов на арене Колизея. А потом покинул свою «сенаторскую трибуну», даже не поинтересовавшись, за кем же в конечном итоге осталось поле сражения. Однако подражал при этом не Наполеону, а… Муссолини. Именно Муссолини. И это сразу же бросалось в глаза.
В тот раз адмирал вернулся из Испании с твердым убеждением, что Гитлер, Франко, вожди английских, норвежских, бельгийских, хорватских и всех прочих фашистов – все они, в общем-то, порождены феноменом Муссолини; все, с той или иной степенью бездарности, старались подражать ему…
– Зачем вам это, адмирал? – не удержался Франко, заметив, что при виде кровавого месива, открывавшегося им с небольшого пригорка, на котором остановилась их бронемашина, Канариса едва не стошнило. – Это ведь не ваша война. Так почему бы вам не поберечь нервы?
– Хочу представить себе, как будет выглядеть война, которая станет «нашей», – сдержанно ответил руководитель абвера.
– Здесь, на территории Испании?! – насторожился Франко.
– Скорее всего, Испании она не коснется, поскольку к тому времени в ней окончательно утвердитесь вы, наш союзник и единомышленник.
– Вот именно, союзник. Это принципиально важно, принципиально, – взволнованно подтвердил Франко.
– Тем не менее это будет война, от которой нам уже не откреститься, как официально приходится открещиваться от вашей. Причем открещиваться настолько, что мы даже предаем суду германских офицеров, осмеливающихся сообщать своим родным, в какую именно страну их отправляют. [8]8
Исторический факт: несколько германских офицеров-добровольцев, которые, перед отлетом в Испанию для войны на стороне Франко, допустили утечку информации, попали в гестапо и были преданы суду.
[Закрыть]
Тогда, при виде растерзанных тел на берегу речушки, Канариса не стошнило; зато это едва не произошло потом, когда буквально в двух километрах от этой бойни, в ресторане какого-то провинциальном отельчика, Франко устроил «походную фиесту для своего преданного германского друга». И на стол перед ним положили любимое генералом местное блюдо – кусок полусырой, в запекшейся крови, говядины.
…Однако дело не во всей этой визитерской суете. Адмирал терпеть не мог пышных действ, кем бы и по какому поводу они ни организовывались. А вот то, что Франко помнил о его услугах, что, взойдя на испанский «трон», не возгордился и не забыл о скромном шефе германской военной разведки, – это Канарис в испанском диктаторе ценил.
«Так, может быть, теперь самое время укрыться под крылом этого испанского кабальеро? – вновь устало взглянул адмирал на фотографию бравого генерала. – А что, над этим стоит задуматься! Не зря же Геринг намекнул, что фюрер не решится расправиться с тобой, поскольку опасается гнева Франко. Того последнего правителя, который в роковой час способен укрыть его самого. Можно, конечно, попытаться, но помни, что теперь ты уже не всесильный шеф всесильного абвера. И Франко прекрасно понимает это».
Что ни говори, а фюрер отстранил его от руководства абвером; вся служба военной разведки и контрразведки перешла теперь в ведение Главного управления имперской безопасности, а точнее, под руку Шелленберга. Единственное, что пока что оставалось в его собственном ведении, так это его служебный кабинет.
Назначив Канариса «адмиралом по особым поручениям при фюрере», а также начальником Особого штаба по экономической борьбе с врагами при Верховном главнокомандующем, Гитлер позволил ему временно занимать тот же служебный кабинет, который Канарис занимал, будучи руководителем абвера. Точнее, не запретил ему делать это. Так было удобно всем и во всех отношениях. Впрочем, в восприятии Канариса да и самого фюрера, не говоря уже о Гиммлере, деятельность этого штаба представала настолько призрачной – а с учетом ситуации на фронтах еще и совершенно бессмысленной, – что по-настоящему создавать его уже никто и не собирался. Тем более что теперь Канарис даже не пытался имитировать некую бурную деятельность.
Он, конечно, получил в свое распоряжение несколько давних агентов абвера, имеющих кое-какое отношение к промышленности вражеских стран. Не прилагая особых усилий, Канарис сумел также завести агентов в нескольких промышленных концернах Германии, используя их в роли контрразведчиков.
Однако дальше этого дело не пошло. Поражение в войне становилось слишком уж очевидным, а территории рейха и его экономическое влияние столь катастрофически уменьшались, что о развертывании некоей полномасштабной экономической войны против русских или англо-американцев уже не могло быть и речи. Тем более что адмирал и не стремился к этому.
Осваиваясь с этим назначением, Канарис так и сказал себе: «Создавать штаб по экономической войне с «союзниками», сейчас, в средине сорок четвертого?! Бред!» Хотя разве ему впервые было воплощать в жизнь бредовые идеи ефрейтора Шикльгрубера?
И вот теперь всей своей служебной меланхолией Канарис как бы говорил фюреру и прочим недоброжелателям: «Вы хотите видеть меня в должности руководителя этого ничего не решающего, ничтожного штаба? Воля ваша. Я же со своей стороны не стану ни разочаровывать своим усердием, ни убеждать в своем бессилии».
Канарис никогда не забывал, что его бывший непосредственный подчиненный, генерал Остер, все еще томится в подземельях гестапо, а несколько высокопоставленных военных, имевших отношение к заговору против фюрера, уже казнены. Так что же ему еще оставалось, кроме как радоваться каждому дню, проведенному без ареста и приближающему его к спасительному окончанию войны?
– К спасительному… окончанию? – с ироничной мечтательностью пробормотал он. – К окончанию – да. Но спасительному ли?
В последнее время адмирал все чаще заговаривал с самим собой, хотя прекрасно понимал, насколько пагубна для разведчика эта привычка. Еще страшнее и пагубнее, чем болтовня во время сна. А Канарис все еще старался жить по канонам разведки, ритуально придерживаясь тех жестких правил и табу, без которых никто в мире ничего серьезного в разведке не достигал. Никто, кроме, разве что, Маты Хари, [9]9
Мата Хари, она же Маргарет Гертруда Зелле (встречается также написание: Целле, Залле, Зале, Зеле,1876–1917), – голландка по национальности, германская и французская шпионка-«двойник». Происходила из семьи ремесленника-шляпника, из голландского городка Лауварден. Профессиональная танцовщица. Влюбившись в молодого германского морского офицера и разведчика Вильгельма Канариса, стала агентом под кодовым номером «Н-21» германской разведки. Расстреляна как германская шпионка по приговору французского суда 15 октября 1917 г. под Парижем.
[Закрыть]позволявшей себе растерзывать само представление о методах шпионажа, конспирации и всем прочем, что составляло «святые папирусы» тайнознания разведки. Во всяком случае, таковой, легендарно незаурядной, она предстает теперь в буйных фантазиях некоторых коллег Канариса; фантазии эти со временем стали появляться и у самого адмирала. Правда, воздействие их всегда было кратковременным и противоречивым, поскольку в действительности насчет этой «постельно-мифической Сирены от разведки» у адмирала было свое собственное мнение, которое он тщательно скрывал. В конце концов, в его деле тоже должны существовать свои мифы и канонические лики. И развенчивать их – последнее дело.
4
Шауб вышел из купе; едва удерживаясь на ногах при резких качках поезда, преодолел небольшую каморку для охраны, в которой дежурили два вооруженных автоматами офицера СС, и оказался в приемной фюрера.
Кальтенбруннер сидел за одним из столиков и нервно курил, часто поднося дрожащей рукой сигарету ко рту. Он был одним из самых заядлых и неуемных курильщиков, каких только некурящему Шаубу приходилось видеть в своей жизни. К тому же адъютант знал, как эта страсть шефа РСХА не нравилась Гиммлеру.
За соседним столиком томились бездельем и неопределенностью три молчаливых армейских генерала, чьи дивизии расквартировывались в Восточной Пруссии, однако они держались особняком, ни в какой контакт с Кальтенбруннером не вступая; а возможно, даже не знали, кто это такой. Фюрер срочно вызвал этих генералов в «Вольфшанце», но поначалу не принял их, хотя и отпустить тоже не разрешил, а потом совершенно забыл об их существовании. Время от времени они с надеждой посматривали в сторону личного адъютанта фюрера, но ему казалось, что это была надежда людей, которым очень хотелось бы, чтобы при этом «вагонном дворе» о них так никогда и не вспомнили.
– Фюрер готов принять вас, обергруппенфюрер, – молвил адъютант и с интересом понаблюдал, как шеф РСХА медленно, неуклюже поднимается из-за своего столика, выпрямляясь во весь свой гигантский рост.
Мощный квадратный подбородок этого человека почти классически соответствовал представлению о его характере, а сросшаяся с плечами толстая шея точно так же свидетельствовала о его буйволиной силе и тюленьей неповоротливости.
– Что бы он хотел услышать от меня? – вполголоса пробасил Кальтенбруннер.
Шауб мило улыбнулся, поражаясь наивности заданного вопроса «самого страшного человека рейха». А действительно, что фюрер хотел бы услышать от начальника Главного управления имперской безопасности спустя несколько дней после взрыва, прогремевшего в его кабинете?
– Фюрер все еще раздражен, и, как вы понимаете, у него есть на то причины. Слишком уж многие генералы и офицеры оказались предателями или же людьми, не способными противостоять…
– Это понятно, – нетерпеливо перебил адъютанта обергруппенфюрер. – Меня интересует, что ему требуется от меня?
– Не заставляйте меня вещать устами фюрера, господин Кальтенбруннер, – и пергаментное лицо адъютанта стало еще более суровым, чем обычно. – Уже хотя бы потому, что фюрера это может оскорбить.
– Насколько мне известно, – попытался оправдаться начальник РСХА, – обо всех произведенных нами арестах высших должностных лиц рейха Гиммлер ему уже докладывал.
– Прежде всего, фюрер желает убедиться в вашей личной преданности ему.
– Неужели кто-либо может усомниться в этом?! – мгновенно взъярился Кальтенбруннер.
– Лично я никогда не усомнюсь в этом, – вежливо склонил голову Шауб.
– И всё, только вы?! – вдруг совершенно растерялся Кальтенбруннер. – А как остальные? Фюрер, например?
– Как вы понимаете, моего мнения о вашей личности недостаточно.
– Что еще нужно сделать мне как руководителю РСХА, чьи люди только что жесточайше подавили заговор против фюрера, чтобы он не сомневался в моей преданности рейху?
– Оставаться верным фюреру, – не задумываясь, обронил Шауб, вновь на какое-то время выбивая Кальтенбруннера из седла.
Лишь испепелив личного адъютанта суровым взглядом, обергруппенфюрер решился произнести:
– Никто так не предан ему в эти дни, как я. Никто в рейхе! – в голосе руководителя РСХА прозвучала явная обида. – Фюрер может не знать об этом, но вы, лично вы, не знать об этом не имеете права!
– Не сомневайтесь, обергруппенфюрер, уж мне-то известно все, – сурово заверил его Шауб, возрастая в собственных глазах.
– Уж вы-то – не имеете права, Шауб! – не стал вникать в тонкости речей адъютанта Кальтенбруннер. Сейчас он вел себя так, словно палачи уже тащили его к висельным крючьям, вбитым в стене внутреннего двора тюрьмы Плетцензее.
Говорил Кальтенбруннер хотя и громко, но слишком уж невнятно, притом с режущим ухо всякого берлинца австрийским акцентом. Во рту этого служаки большинства зубов уже не хватало; те же, что оставались, источали боль и неистребимый смрадный дух. Не зря Гиммлер – единственный, кто не гнушался делать ему по этому поводу замечания, – уже несколько раз прилюдно требовал от Эрнста всерьез заняться лечением у придворного стоматолога.
Однако всем присутствующим в вагоне было сейчас не до его «духа» и его произношения. Услышав этот рев гиганта со знаками отличия генерал-полковника СС, вермахтовские военачальники панически вздрогнули и мысленно обратили свои взоры к тому единственному, к кому еще имело смысл обращать его в этой разъедаемой поражениями, заговорами и всеобщей подозрительностью империи, – к Шаубу. В милосердие или хотя бы в благоразумие своего фюрера они уже не верили.
Шауб знал, что, при всей очевидной неприязни к нему со стороны Гитлера и некоторых других высших чинов рейха, Эрнст Кальтенбруннер всегда оставался фанатично преданным национал-социализму и лично фюреру. Причем преданность эта не поколебалась даже после того, как Эрнсту напрочь было отказано в его стремлении стать государственным секретарем имперской безопасности Австрии. С поста которого тот, скорее всего, намеревался со временем взойти на «трон» наместника фюрера в Австрии. А там, кто знает, возможно, и на вполне реальный австрийский имперский трон.
Вот только эти его далеко идущие амбиции в свое время были разгаданы и развеяны еще Гейдрихом, презиравшим Эрнста уже хотя бы за его склонность к буйному пьянству и неисправимую скверность характера. Опасаясь появления еще одного фюрера, на сей раз – в только что присоединенной к рейху, а потому все еще преисполненной сепаратизма Австрии, тот, с одобрения фюрера, ограничил власть Кальтенбруннера всего лишь скромной должностью начальника СС и полиции в Вене. И только в минувшем, сорок третьем году фюрер вспомнил об одном из активнейших участников венского путча и назначил его начальником Главного управления имперской безопасности. С корнями вырвав его, таким образом, из Австрии, стать вождем которой Кальтенбруннер и теперь все еще намеревался.
Вспомнив сейчас об этом австро-имперском зуде, Шауб вдруг подумал: «А разве вожделенного устремления австрийца Кальтенбруннера к имперскому трону Вены недостаточно, чтобы привести его в лагерь заговорщиков, которые, конечно же, знают о вожделенных мечтах шефа РСХА? Так почему фюрер не имеет права подозревать его если не в прямом участии в заговоре, то, по крайней мере, в сочувствии заговорщикам или в умышленном бездействии?»
Вот почему, выдержав пронизывающий взгляд карих глаз «венца», личный адъютант Гитлера властно произнес:
– Фюрер имеет право сомневаться в любом из нас, даже в том, в ком абсолютно не сомневается. – А проследив, как отдернулась назад и чуть влево голова Кальтенбруннера, ибо так она обычно отдергивалась всегда в момент его наивысшего удивления, не менее назидательно добавил: – Это все мы, каждый из нас, германцев, не имеем права ни на минуту усомниться в государственной мудрости и преданности нашему делу – великого фюрера.
– И только так, – растерянно пробубнил Кальтенбруннер, оказываясь бессильным против непоколебимой логики личного адъютанта фюрера.
– Или, может быть, вы уже придерживаетесь иного мнения, господин Кальтенбруннер? – все же решил окончательно «додавить» его Шауб. Прибегать к такому прессингу он не только любил, но и мастерски умел.
– У меня никогда не возникало мнения, которое бы расходилось с мнением фюрера.
– Возникало, обергруппенфюрер, возникало, – простецки возразил адъютант. – Когда речь шла о вашей карьере в Австрии. Вспомните: вы решили, что должны стать наместником фюрера в этой стране. В этой… бывшей стране, – исправился Шауб. – Однако фюрер рассудил иначе. У него было свое видение проблемы Австрии.
– Просто Гейдрих испугался, что вскоре я стану истинным правителем Австрии, – мрачно объяснил Кальтенбруннер. И тут же встревоженно спросил: – Неужели Адольф все еще помнит об этом?
– Кому-то хотелось стать наместником в Дании, кому-то приглянулась Франция, а кое-кто уже присматривался к норвежскому «трону», – пожал плечами Шауб, деликатно избегая упоминать о «наместнике Австрии». – А потом вдруг появляется некий однорукий и одноглазый полковник и пытается поднять на воздух ставку фюрера. Пытается или нет? Пытается. А ведь если бы эта авантюра ему удалась, все трое тронолюбцев могли бы стать правителями этих стран. Так почему фюрер не имеет права подозревать каждого из них?
– Я не сделал бы ничего такого, что могло бы повредить фюреру, а значит, всему нашему движению. И вы, Шауб, прекрасно знаете это.
– Считайте, что лично меня в этом вы уже убедили, – по-иезуитски потупил глаза Шауб.
– Так и должно было произойти, – воинственно поиграл желваками Кальтенбруннер.
– Меня вы и в самом деле убедили, – повторил адъютант Гитлера, заставив при этом Кальтенбруннера насторожиться, – но теперь попытайтесь убедить в этом фюрера. И, как говорится в подобных случаях, не дай вам Бог оказаться недостаточно убедительным.
5
Мадрид изнывал от неожиданно сошедшей на него майской жары, и легкий ветерок, с трудом прорывавшийся к непритязательной вилле с предгорий Сьерра-де-Гвадаррама, лишь немного смягчал ее, безмятежно угасая в складках бирюзового балдахина, под которым остывали два разгоряченных тела.
Да, это были минуты их чувственной, любовной сиесты. «И странно, – подумалось Канарису, – что испанцы до сих пор не ввели в своем языке и в своем быту такое понятие, как «любовная сиеста». Впрочем, о «любовной фиесте» тебе слышать тоже не приходилось, хотя, казалось бы… Что такое любовь, как не праздник души и тела?»
– Ты все еще жаждешь меня, милый? – едва слышно проговорила Маргарет, нежно поводя губами по сокровеннейшему из мужских достоинств германского морского офицера.
– Пытаюсь, – в томном придыхании Канариса теперь уже сквозило больше усталости, нежели страсти, однако такие нюансы женщину не интересовали.
– В сексе, как и в танце, нужно жертвенно отдавать всего себя, до самосожжения.
– Я ведь уже сказал вам, что превратить меня в мужчину на одну ночь не удастся, – с едва уловимыми нотками мстительности напомнил ей Канарис. – Я – тот мужчина, который… навсегда. Независимо от того, в каком именно качестве он способен представать перед вами.
При этом моряк прекрасно осознавал, что за женщина лежит рядом с ним и почему он это говорит. Вот только саму женщину эти его поучения не интриговали.
Маргарет Зелле, она же Мата Хари, была уверена, что одного прикосновения ее чувственных губ достаточно, чтобы возбудить все, что еще способно возбуждаться, и прекрасно знала, в какое мгновение следует в очередной раз оседлать своего Маленького Грека, чтобы не упустить тот сладострастный момент, когда это еще имело смысл. В конечном итоге Канарис потерял не только счет этим ее забегам страстей, но и способность чувственно воспринимать их.
– Признайся, что, восседая на тебе, ни одна женщина не способна была воспроизводить танец живота с такой самозабвенностью, с какой воспроизвожу я.
– Еще бы: движения профессионалки! Это улавливается сразу, в первые же мгновения близости, – признал Вильгельм.
– Вот именно: профессионалки, – с гордостью подтвердила голландка, не опасаясь, что признание ее профессионализма идет отнюдь не из-за танцевального мастерства.
Маргарет и в самом деле была постельной профессионалкой, для которой тело всякого мужчины, случайно оказавшегося вместе с ней в постели, превращалось в предмет любовных экзекуций. Именно так, экзекуций. Порой в постели Маргарет напоминала самой себе естествоиспытательницу, усердствующую над отданным ей на растерзание очередным мужским телом.
Капитан Коледо, вызвавшийся познакомить Канариса с Матой Хари, буквально за час до того, как представить германца своей знакомой, сказал:
– Если, не доведи Господь, вы решите связать свою судьбу с этой женщиной, то запомните: нельзя позволять ей растрачивать свои силы на сцене.
– Но это было бы слишком жестоко: она ведь профессиональная танцовщица.
– В том-то и дело, что на подмостках она всего лишь танцовщица, – философски просветил его капитан, – а в постели – богиня.
– Не спорю, вам лучше знать… – скабрезно ухмыльнулся Канарис.
– Ошибаетесь, – с грустью в глазах молвил Коледо, – мне как раз лучше было бы не знать…
И все же, наблюдая за тем, как самозабвенно эта «колониалка» танцует в небольшом зале отеля «Севилья», ублажая сытое благодушие иностранных промышленников, Вильгельм с ним не согласился: наоборот, считал он, нельзя позволять этой женщине растрачивать себя на сексуальные оргии, поскольку на самом деле она создана для театра. И только теперь он вдруг понял, что же на самом деле имел в виду распутный командир 1-й королевской эскадрильи. Впрочем, ни театральные, ни постельные таланты этой голландской провинциалки германского разведчика не интересовали. Лично он собирался выяснять, чего эта танцовщица и фантазерка стоит на поприще международного шпионажа.
Виллу в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларконе, в которой они сейчас развлекались, капитан-лейтенант Канарис содержал за счет германской разведки, однако волноваться по этому поводу Мате Хари было не обязательно. Она уже знала, что ее Маленький Грек является сотрудником германского посольства в Испании, и догадывалась, что, пребывая в должности помощника морского атташе Германии корветтен-капитана фон Крона, тайно занимается вопросами поставок германскому флоту с территорий Испании и Португалии. И то и другое было правдой. Неправда же заключалась в том, что Вильгельм упорно пытался предстать перед ней в роли преуспевающего германского торговца.
Впрочем, все его потуги явиться ей в образе богатого и щедрого, Маргарет Зелле, дочь голландского шляпочника из Лаувардена, воспринимала с той же долей иронии, с каковой сам Маленький Грек воспринимал ее сбивчивые рассказы о временах, когда где-то в глубине Индии она пребывала в роли храмовой танцовщицы. При этом выводила свою родословную то от английской королевской династии и гордого, однако преследуемого клана некоей индийской княжны; то из рода какого-то воинственного генерала-индуса и некстати подзагулявшей в Ист-Индии голландской аристократки.
В фантазиях своих, как и в откровенной лжи, Мата Хари не знала ни пределов, ни устали. В этом ее уже не раз изобличали, причем порой это происходило в солидных домах, в изысканном кругу и в самой грубой, безжалостной форме. А тут вдруг такой изысканный собеседник, с тонкими наводящими вопросами и с таким воистину щадящим отношением к проколам ее фантазии!
Мата Хари, конечно, понимала – точнее, даже нутром чувствовала, – что Маленький Грек не верит ни одному ее слову Но поражалась она не его недоверию, а умению выслушивать; не его подозрительности, а стремлению познать логику столь откровенного вранья женщины, постигая при этом тайные порывы, каждодневно побуждавшие ее к этому вранью. Другое дело, что поначалу танцовщице и в голову не приходило, что германец уже испытывает ее на пригодность к шпионской профессии, что он уже видит в ней одну из своих ведущих агенток.
Прежде чем заманить Маргарет под этот бирюзовый балдахин, Канарис успел заполучить из Германии все сведения, которые только можно было собрать об этой танцорке, исполнительнице восточных, «колониальных» танцев Гаагского королевского театра. И сейчас Око Дня, [10]10
Око Дня (то есть солнце) – одна из версий перевода псевдонима Маргарет Зелле, предложенной самой Матой Хари.
[Закрыть]еще вчера выдававшая себя за дочь голландского колониста и работницы с чайной плантации с острова Ява, которую отец продал настоятелю какого-то храма, чтобы тот воспитал из нее храмовую танцовщицу, покаянно доказывала Канарису, что на самом деле ее родила некая английская аристократка, грешившая с недостойным ее положения индусом, принадлежавшим к касте неприкасаемых, и что даже здесь, в Европе, ее, Мату Хари, все еще преследуют индуистские религиозные фанатики… Всего лишь провинциальная лгунья!
Дочь мелкого голландского ремесленника, воспитывавшаяся после смерти матери у дальних родственников, она, бесприданница, в двадцать лет вынуждена была стать супругой сорокалетнего капитана колониальных войск Рудольфа МакЛеода. Да и познакомилась с ним Маргарет по брачному объявлению, понимая при этом, что супруга офицеру понадобилась только потому, что он получил должность коменданта небольшой береговой крепостушки на одном из индонезийских островов и не желал, чтобы детей ему рожала ост-индийская аборигенка.
«Офицер, состоявший на службе на Индийских островах, хотел бы познакомиться с молодой девушкой с целью заключения брака». На что можно было рассчитывать, откликаясь на такое брачное объявление незнакомого мужчины, на двадцать лет старше ее? Знал теперь Канарис и о том, что Маргарет успела стать матерью двоих детей, однако сынишка умер то ли от малярии, то ли еще от какой-то колониальной хвори, а дочь отобрал у нее бывший муж по решению суда. Говорят, он сумел доказать, что Мата Хари ведет образ жизни, недостойный истинной христианки, часто выпивает, да к тому же множество раз изменяла ему в супружестве. Наверное, ему не так уж и трудно было убедить судей в том, что женщина, зарабатывающая себе на хлеб исполнением каких-то странных тубильских танцев, к благоверным христианам принадлежать не может. Тем более что происходил этот судебный процесс уже в патриархально-богоугодной Голландии, куда бывший комендант крепости, так и не сумевший сделать настоящую армейскую карьеру, вернулся после своего выхода в отставку.
Когда Вильгельм сообщил, что ему известно о судьбе ее детей, Мата оскорбилась.
– Какая беспардонная ложь! – произнесла она возмущенным тоном и прервала любовные утехи.
– То есть на самом деле детей у вас не было? – как можно деликатнее поинтересовался Канарис.
– Почему же не было? Ты что же, считаешь, что я не способна рожать наследников? Кому угодно, даже тебе, Маленькому Греку. – На сей раз это свое «Маленькому Греку» Маргарет произнесла с особым снисхождением.
– В голову не приходило предаваться подобным сомнениям.
– Неправда, ты в этом убежден, поскольку, заполучив мое досье, узнал, что твоя Мата Хари на целых одиннадцать лет старше тебя. Разница в возрасте – вот что тебя шокировало!
В принципе Маргарет была права: во время знакомства он понял, что женщина явно старше его, но даже предположить не мог, что разница в возрасте окажется столь существенной. Однако признаваться в этом не спешил.
– Ваш возраст, Мата, меня не шокирует, – как можно спокойнее и убедительнее произнес двадцативосьмилетний морской офицер. – Мне, моряку, приходилось затаскивать в постель и более… солидных женщин. К тому же вы все еще свежи, как юная богиня.
– Лжешь ты все… Однако слышать это приятно. И на всякий случай запомни: никакой суд не заставил бы меня отдать свою дочь этому колониальному пьянице и распутнику.
– Считайте, что навсегда убедили меня в этом.
– У меня действительно было двое детей. Было-было! – нервно зачастила она. – Как у всякой порядочной богобоязненной женщины.
– Разве я подверг эту версию сомнению? – вкрадчиво спросил Канарис.
– Вслух не подвергал, однако не поверил. Чутье подсказывает: не поверил.
Канарис внимательно присмотрелся к выражению ее лица: как всегда, оно оставалось красивым и цинично-холодным. После знакомства с Маргарет образ этого полуовального, со смугловатой кожей личика неотступно преследовал Канариса, являясь ему в вечерних и предутренних полубредовых видениях с маниакальной навязчивостью. В ее ангелоподобном лице – с точеным римским носиком, слегка раскосыми, цвета перезрелой сливы глазками и высокими черными бровями вразлет – просматривалось что-то иконостасное; стоило запечатлеть его кистью церковного живописца, и можно было озарять его мифической благодатью любой христианский храм. Впрочем, теперь ореол святости просматривался в этом облике все реже, предательски открывая Канарису свое рисованное кукольное бездушие, припудренное налетом бездумности.
– Хорошо, что это чутье хоть понемногу просыпается в вас, Маргарет. Разведчику оно крайне необходимо. Особенно женское.
– И потом, вы назвали это мое сообщение «версией». Когда женщина говорит, что у нее было двое детей, то при чем здесь Версия?
– В таком случае, поведайте, почему о своих детях вы говорите в прошедшем времени.
– Потому что их отравила служанка, любовница моего бывшего супруга.
Вильгельм взглянул на нее, как на вещающую с паперти храма городскую юродивую, однако ни один мускул на его лице не дрогнул.
– Отравила-отравила, причем самым садистским, мучительным способом! И не смотрите на меня так. Вы опять не верите мне, Канарис?!
– Не заставляйте меня после каждой высказанной вами версии клясться на Библии, – сухо предупредил ее капитан-лейтенант.
– Ну, как знаете, – мгновенно умиротворилась танцовщица. – История давняя, а шрамы сердца вспарывать не стоит. Тем более – на любовном ложе.
– Пощадим же самих себя и шрамы наших сердец, – оценил ее благоразумие Канарис.
Маргарет лукаво взглянула на него и вновь потянулась рукой к «источнику жизни». Служанка-отравительница и муж-предатель были преданы забвению.
Блаженно закрыв глаза, Канарис какое-то время предавался сексуальным усладам, совершенно забыв о том, что на самом деле встреча с Матой Хари была задумана как вербовочная; секс был всего лишь приложением к той миссии, ради которой он снимал этот особнячок.
Увлекшись ласками танцовщицы, Вильгельм уже решил было, что история о задушенных детях танцовщицы завершена, и был немало удивлен, когда голландка вновь заговорила таким взволнованным голосом, словно разговор их ни на минуту не прерывался.
– Я не заставляю вас клясться на Библии, мой Маленький Грек, но и вы тоже не заставляйте меня колдовать над Святым Писанием. Бог свидетель, что моих детей убила служанка-любовница, эта макака, эта грязная, гнусная тварь, которую я вынуждена была в порыве гнева задушить собственными руками! – и темпераментная тридцатидевятилетняя голландка вдруг разъяренно вцепилась рукой в горло Канариса.