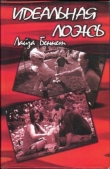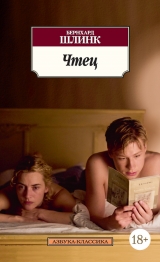
Текст книги "Чтец"
Автор книги: Бернхард Шлинк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
13
Начало учебного года всегда представлялось мне некой цезурой. Переход со средней гимназической ступени на старшую воспринимался как особенно значительная перемена. Мой класс был расформирован и поделен между тремя параллельными классами. Многие из ребят не смогли перейти на старшую ступень, поэтому из четырех маленьких классов получились три больших.
В мою гимназию долгое время принимали только мальчиков. Когда стали принимать девочек, то поначалу их было очень мало; их нельзя было распределить по параллельным классам равномерно, поэтому сперва их собрали в одном классе, затем в двух и наконец в трех, так что они составляли около трети общего числа учеников. На четвертый класс – мой старый класс – девочек не хватало. У нас учились только мальчики, что также послужило причиной нашего роспуска и распределения по другим классам.
Мы узнали об этом лишь перед самым началом занятий. Собрав нас в одной из классных комнат, ректор объявил, кто и куда распределен. Вместе с другими шестью соучениками я прошел по пустому коридору в новый класс. Нас рассадили на свободные места, мне достался второй ряд. Места были одиночными, но располагались они попарно в три колонны. Мое место было в средней. Слева от меня сидел Рудольф Барген, ученик из моего прежнего класса, толстый, спокойный, хороший шахматист и надежный хоккеист; раньше я с ним почти не общался, а теперь мы быстро подружились. Справа, через проход, сидели девочки.
Мою соседку звали Софи. Она была кареглазой шатенкой, по-летнему загорелой, с золотистыми волосками на руках. Когда я, заняв свое место, огляделся по сторонам, она мне улыбнулась.
Я улыбнулся в ответ. Мне здесь нравилось, я радовался тому, что попал в новый класс и что буду учиться с девочками. Еще раньше, в средней ступени, я видел по своим соученикам, что, независимо от наличия или отсутствия девочек в их классах, они боялись девочек, избегали их, а то, наоборот, ужасно задавались или относились к ним с романтическим обожанием. Я же знал женщин, мог относиться к ним ровно, по-дружески. Девочкам это нравилось. Я был уверен, что сумею с ними в новом классе поладить и, следовательно, найду общий язык с ребятами.
Может, так бывает со всеми? В юности я всегда чувствовал себя либо очень неуверенно, либо был слишком самоуверен. Я казался себе ни на что не способным, неинтересным, не заслуживающим внимания либо, наоборот, считал, что все у меня в порядке и все должно получаться. Если я чувствовал уверенность в себе, то мог справиться с весьма серьезными проблемами. Но малейшая неудача заставляла думать о моей ничтожности. Чтобы вернуть прежнюю уверенность в себе, одного успеха было недостаточно; никакой успех не мог идти в сравнение с тем, каких достижений я ожидал от себя и какого восхищения собою – от других; пожалуй, высокомерие или самоуничижение зависели просто от моего общего настроения. В те месяцы мне было хорошо с Ханной, несмотря на наши размолвки и на то, что она нередко третировала и обижала меня. Поэтому летние занятия в новом классе начались для меня хорошо.
Как сейчас вижу перед собою нашу классную комнату. Справа впереди дверь. На правой стене деревянная планка с вешалками для одежды; слева окна с видом на Хайлигенберг,[34]34
…с видом на Хайлигенберг… – Указание на то, что речь идет о самой старой гейдельбергской гимназии имени курфюрста Фридриха, которая находится с левой стороны Неккара, прямо на набережной. Ее окна смотрят на противоположный берег с горой Хайлигенберг, которая доминирует над окрестностями.
[Закрыть] и когда мы подходили к ним на переменах, то видели набережную, реку, противоположный берег с его лугами; впереди находились доска и стойка для географических карт, а также – на небольшом помосте – учительская кафедра и стул. До уровня моего роста стены были выкрашены масляной краской в светло-желтый цвет, выше – в белый; с потолка свисали две матовые круглые лампы. В классе не было ничего лишнего: ни картин, ни растений, ни свободной парты, ни шкафа с какими-нибудь забытыми книгами, тетрадями или цветными мелками. Если я, отвлекаясь, хотел поглазеть по сторонам, то взгляд мой либо уходил к окнам, либо косил украдкой к соседке или соседу. Когда Софи перехватывала мой взгляд, она поворачивалась ко мне и улыбалась.
– Берг, хотя София и греческое имя, но это еще не основание для того, чтобы на уроке греческого вы смотрели на соседку, а не в учебник. Переведите-ка лучше следующий отрывок!
Мы переводили «Одиссею». Я до этого читал поэму по-немецки, любил ее и люблю до сих пор. Когда очередь переводить доходила до меня, обычно мне хватало нескольких секунд, чтобы сориентироваться. Но тут, после того как учитель поддел меня и класс перестал наконец смеяться, я забормотал что-то совсем невпопад. Что-то о белорукой и девственной Навсикае, на бессмертных похожей ростом и видом, – может, я слишком задумался о Ханне или Софи? Во всяком случае, об одной из них.
14
Когда у самолета отказывает мотор, это еще не конец полета. Самолет не падает камнем с неба. Огромный реактивный пассажирский лайнер с несколькими двигателями планирует от четверти до получаса и разбивается лишь при попытке совершить посадку. Пассажиры могут даже ничего не заметить. Полет с отказавшим двигателем выглядит для них точно так же, как и с исправным. Только тише становится, да и то не очень. Гул мотора сменяется ревом ветра, который бьется о крылья и фюзеляж. Рано или поздно через иллюминатор становится видна угрожающая близость земли, моря. Но, допустим, в салоне показывают фильм, а стюардессы опустили на иллюминаторах шторки. Тогда этот полет может даже показаться покойным и приятным.
Лето и было для нашей любви таким планирующим полетом. Точнее, это относилось к моей любви; что касается Ханны и ее любви ко мне, то тут мне ничего не известно.
Мы сохранили наш ритуал чтения, ополаскивания под душем, занятия любовью и разговоров в постели. Я прочитал вслух роман «Война и мир» со всеми рассуждениями Толстого об истории, великих людях, России, о любви и браке; на это ушло часов сорок или пятьдесят. Ханна опять напряженно следила за развитием сюжета. Но сейчас она вела себя иначе, чем прежде; теперь она воздерживалась от оценок, так как не считала Наташу, Андрея или Пьера частью собственного мира, как это было с Луизой и Эмилией, а входила в чужой мир, словно совершая дальнее путешествие или осмотр замка, в который ее пустили, дали возможность оглядеться, даже пообвыкнуться, отчего, впрочем, чувство некой робости исчезло не совсем. Прежние книги, которые я читал ей, были мне до этого уже знакомы. А тут и для меня книга оказалась новой. Мы отправились в дальнее путешествие вместе.
Мы давали друг другу ласковые прозвища. Она уже не называла меня только малышом, а придумывала что-нибудь другое, нередко снабжая новое имя еще и каким-либо эпитетом, в ход шли лягушонок и квакушка, песик, даже камушек и розанчик. Я же довольно долго звал ее просто Ханной, пока она однажды не спросила меня: «Если ты закроешь глаза и обнимешь меня, какое животное придет тебе в голову? На кого я похожа?» Закрыв глаза, я попытался представить себе различных животных. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, головой я уткнулся ей в шею, моя шея касалась ее груди, правая рука лежала на ее спине, а левая на ее ягодице. Я провел ладонью по ее широкой спине, упругим бедрам, ягодицам, прислушался к тому, как ощущаю своей шеей и грудью ее груди и живот. Кожа ее была гладкой, нежной, а тело казалось крепким, сильным. Когда моя ладонь коснулась ее лодыжки, я почувствовал подрагивание мышц. Это напомнило мне, как подрагивает телом лошадь, чтобы прогнать мух.
– Ты похожа на лошадь.
– На лошадь?
Отпрянув, она села и уставилась на меня. В глазах был едва ли не ужас.
– Тебе не нравится? Я ведь сказал это потому, что тебя так приятно трогать, кожа у тебя нежная и гладкая, а тело крепкое и сильное. И потом у тебя мышцы на лодыжке подергиваются.
Ханна посмотрела на собственную лодыжку.
– Лошадь?.. – Она покачала головой. – Даже не знаю, что сказать.
Это было совсем не в ее духе. Обычно у нее все бывало очень определенным – либо одобрение, либо осуждение. Разглядев ужас в ее взгляде, я приготовился, если понадобится, тотчас взять свои слова назад, во всем раскаяться и попросить прощения. Но сначала попробовал примирить ее с мыслью о лошади.
– Я мог бы назвать тебя скакуньей или кобылкой, сказать «шеваль»,[35]35
«Шеваль» (фр. cheval) – «лошадь».
[Закрыть] «эквин»[36]36
«Эквин» (лат. equus) – «лошадь».
[Закрыть] или Буцефальчик.[37]37
Буцефальчик – от Буцефал, любимый конь Александра Македонского.
[Закрыть] Я ведь не думаю при этом о лошадиной челюсти, конском черепе или о чем-нибудь, что тебе бы не понравилось, я думаю о чем-то хорошем, теплом, нежном и сильном. Ты не похожа на кошку или тигрицу, в них есть что-то злое, а ты не такая.
Она откинулась на спину, положила руки под голову. Теперь сел и я, посмотрел на нее. Ее взгляд был устремлен в пустоту. Через некоторое время Ханна повернулась ко мне. Она сказала с какой-то неизвестной мне прежде сердечностью:
– Пожалуй, мне нравится, что ты называешь меня лошадью или как там еще… Ты объяснишь мне потом те слова?
Однажды мы ездили вместе в соседний город,[38]38
…соседний город… – Маннгейм, расположенный в получасе езды от Гейдельберга. Шиллер служил драматургом Маннгеймского театра, где в апреле 1784 г. состоялась премьера трагедии «Коварство и любовь».
[Закрыть] чтобы посмотреть там в театре «Коварство и любовь». Ханна впервые была в театре, все у нее вызвало восхищение – от самого спектакля до шампанского в антракте. Я держал ее за талию, мне было совершенно безразлично, что о нас могли подумать другие. Я даже гордился, что мне это безразлично. Впрочем, я знал, что в нашем городе это было бы совсем не так. Интересно, понимала ли это она?
Во всяком случае, она понимала, что летом моя жизнь состояла не только из визитов к ней, из школы и занятий. Все чаще, навещая ее по вечерам, я приходил прямо с пляжа. Там я встречался с приятелями, одноклассниками, там мы делали уроки, играли в карты, футбол и волейбол, флиртовали. На пляже проходила, так сказать, общественная и светская жизнь нашего класса, и для меня было важно участвовать в ней. В зависимости от того, как работала Ханна, я уходил с пляжа раньше или позже остальных. Но я знал, что это не только не вредит моему авторитету, напротив, делает меня даже интереснее для других. Знал я и то, что ничего особенного в мое отсутствие произойти не может, однако порой возникало такое чувство, будто я пропускаю события невесть какой важности. Я долго не решался задать себе вопрос, где мне больше нравилось проводить время – на пляже или с Ханной. В июле ребята отмечали на пляже мой день рождения,[39]39
…мой день рождения… – День рождения у Михаэля приходится на июль, как и у самого Бернхарда Шлинка (6 июля 1944 г.).
[Закрыть] долго не хотели меня отпускать, а Ханна встретила меня усталой и раздраженной. Она ничего не знала о моем дне рождения. Однажды я спросил о ее дне рождения, Ханна назвала мне двадцать первое октября, сама же моим не поинтересовалась. В этот день она была не более раздраженной, чем обычно, когда приходила усталой. Но меня ее плохое настроение томило, мне хотелось уйти, вернуться на пляж к ребятам, к моим сверстникам и сверстницам, к легкости наших разговоров, шуток, игр и флирта. Когда она почувствовала, что на ее раздражение я отвечаю плохим настроением, разгорелась ссора, Ханна стала делать вид, будто вообще не замечает меня, я вновь испугался, что потеряю ее, а потому опять пошел на унижения, принялся бормотать извинения, пока она меня не простила. Однако обида во мне осталась.
15
С этих пор началось мое предательство.
Нет, я не выдавал никаких тайн, не компрометировал Ханну. Я никому не рассказывал ничего такого, о чем следовало молчать. Наоборот, я скрывал то, чего не должен был бы скрывать. Я застеснялся нашей связи. Знаю, такое отрицание – самый незаметный вид предательства. Со стороны даже непонятно, действительно ли человек отказывается от кого-то или только хранит чужие секреты, оберегает от неприятностей, скандала. Но тот, кто отказывается, вполне отдает себе отчет, что он делает. А такой отказ не менее разрушителен для близости, чем самое гнусное предательство.
Не помню точно, когда это произошло. В те летние пляжные дни некоторые из приятельских отношений переросли в дружбу. Кроме соседа, знакомого еще по старому классу, в новом классе я особенно подружился с Хольгером Шлютером: он, как и я, интересовался литературой и историей, что быстро сблизило нас. Я весьма подружился и с Софи, которая жила неподалеку от нашего дома, и поэтому у нас был общий путь до пляжа. Поначалу я считал, что близость с новыми друзьями еще не настолько велика, чтобы рассказывать им о Ханне. Потом как-то не находилось случая, к тому же я не мог подобрать подходящих слов. Наконец стало уже слишком поздно рассказывать о ней так, будто это всего лишь одна из обычных ребяческих тайн. Если признаться только теперь, уговаривал я себя, то возникнет неверное впечатление, что я так долго молчал о Ханне, потому что вижу в наших отношениях что-то порочное и у меня нечиста совесть. Но чем бы я себя ни обманывал, я отчетливо сознавал, что предаю Ханну, ибо, рассказывая друзьям обо всех важных событиях моей жизни, о Ханне – умалчиваю.
Они чувствовали, что я не вполне откровенен, и это лишь еще более осложняло мое положение. Однажды вечером мы с Софи попали в грозу; это было в районе Нойенхаймер-Фельд,[40]40
Нойенхаймер-Фельд. – Бывшая рыбачья деревушка Нойенхайм является самым древним поселением Гейдельберга, относящимся еще к римским временам. В восточной части этого правобережного района находится большой городской пляж и квартал Нойенхаймер-Фельд, где в 1970-е гг. возник крупный университетский комплекс.
[Закрыть] где тогда вместо нынешнего университета были лишь поля, сады и огороды. Гремел гром, мелькали молнии, гудел ветер, падал плотный, тяжелый ливень; мы спрятались под навес садового павильона. Сильно похолодало, градусов до пяти. Мы продрогли, я обнял Софи.
– Скажи… – Она глядела не на меня, а куда-то в дождь.
– Что?
– Ты долго болел желтухой. Тебя это до сих пор беспокоит? Может, ты боишься, что до конца не выздоровел? Что врачи говорят? Тебе надо каждый день в больницу, на переливание крови или на процедуры?
Выходит, Ханна – это что-то вроде моей болезни. Мне стало стыдно. Но и рассказать о ней я не мог.
– Нет, Софи, я уже не болен. И печень в порядке, скоро можно будет даже вино пить, только я не хочу. У меня другая… – Речь шла о Ханне, поэтому мне не хотелось произносить слово «проблема». – Да, я ухожу раньше или задерживаюсь, но совсем по другой причине.
– Ты не хочешь говорить об этом или хочешь, но не знаешь, как сказать?
Не хочу или не знаю, как сказать? Я даже не знал, что ответить. Мы стояли среди блеска молний, среди оглушительных и близких раскатов грома, среди ливня, мы мерзли и пытались согреть друг друга, – так или иначе, я почувствовал, что ей, именно ей не стоит рассказывать о Ханне.
– Возможно, я смогу тебе все объяснить в другой раз.
Но другого случая не представилось.
16
Я так никогда и не узнал, чем занималась Ханна, когда она не работала, а я не приходил. Если я об этом спрашивал, она уклонялась от ответа. У нас не было с ней общей жизни, а в своей жизни она отвела мне некое определенное место, которым приходилось довольствоваться. Если я хотел отвоевать себе большее пространство или хотя бы побольше узнать, то получал отпор. Когда мы были особенно счастливы и мне казалось, что теперь все возможно и все позволено, я пытался ее расспрашивать, но и тогда она если не отмалчивалась, то уходила от моих вопросов. «И все-то тебе надо знать, малыш». Иногда она начинала считать, загибая пальцы: «Надо постирать, погладить, вытереть пыль, подмести пол, сходить в магазин, приготовить обед, обтрясти сливы, собрать их, отнести домой и сварить варенье, быстро-быстро, а то малыш, – она брала левый мизинец большим и указательным пальцами левой руки, – а то малыш все съест».
Я ни разу не встретил ее случайно на улице, в магазине или в кино, куда она, по ее словам, часто и с удовольствием ходила. В первые месяцы мне хотелось пойти в кино вместе, но она возражала. Порою мы обсуждали фильмы, которые видели оба. Она была на удивление неразборчива, смотрела все – от немецких военных и деревенских фильмов до американских вестернов и даже французской «новой волны», я же предпочитал голливудские фильмы, не важно, где происходило действие – в Древнем Риме или на Диком Западе. Нам обоим очень нравился один вестерн; Ричард Уидмарк играл там шерифа, которому утром предстоит безнадежная дуэль; накануне вечером он стучится в дверь Дороти Мэлоун,[41]41
Ричард Уидмарк, Дороти Мэлоун – исполнители главных ролей в американском вестерне «Уорлок» (немецкая премьера состоялась 15 мая 1959 г.).
[Закрыть] тщетно пытавшейся уговорить его спастись бегством. Она открывает дверь. «Чего же ты хочешь? Всю жизнь за одну ночь?» Ханна иногда дразнила меня, когда я приходил к ней, горя от нетерпения: «Чего же ты хочешь? Всю жизнь за один час?»
Только один раз я видел Ханну, не договорившись заранее о встрече. Это было в самом конце июля или в начале августа, в последние дни перед большими каникулами.[42]42
…перед большими каникулами… – Большие летние каникулы начинались в последних числах июля или первых числах августа, а заканчивались в начале сентября.
[Закрыть]
Несколько дней Ханна пребывала в странном настроении: она то молча дулась, то покрикивала на меня и одновременно заметно страдала от чего-то, что ужасно томило, мучило ее, делало такой ранимой. Она пыталась взять себя в руки, и при этом ощущалось такое напряжение, словно она вот-вот переломится. На мой вопрос о том, что ее так мучает, она ответила резкостью. Я даже немного растерялся. Не столько из-за этой резкости, сколько из-за того, что почувствовал ее беспомощность, поэтому постарался поддержать ее и в то же время не особенно приставать со своей заботой. Потом вдруг напряжение спало. Мне показалось, будто Ханна вновь стала совсем прежней. Закончив «Войну и мир», мы решили повременить со следующей книгой; я обещал подыскать что-нибудь интересное и принес несколько романов на выбор. Но она к ним и не притронулась.
– Давай-ка я тебя лучше искупаю, малыш.
В кухне меня сразу обдало какой-то тяжелой, удушливой волной, но дело было не в летней духоте – Ханна включила нагреватель. Она напустила в ванну воды, добавила несколько капель лавандового масла и принялась купать меня. Голубой цветастый халатик, под которым ничего не было, облепил ее потное от жары и влажности тело. Это очень возбуждало меня. Когда мы занимались любовью, мне почудилось, будто ей хочется заставить меня почувствовать нечто такое, что превзошло бы все до сих пор испытанное мною и чего бы я уже не вынес. Она отдавалась мне так, как никогда прежде. Не самозабвенно, до конца она никогда не забывалась. Но было такое чувство, будто она хочет, чтобы мы вместе утонули в этом омуте.
– А теперь ступай к своим друзьям.
Она проводила меня до двери, и я ушел.
Духота стояла меж домами, лежала на полях и садах, дрожала маревом над асфальтом. На пляже гомон играющей, плещущейся детворы доносился до меня приглушенно, словно издалека. Вообще мир казался мне каким-то чужим, а я, наверное, казался чужим ему. Я погружался в хлорированную, белесую воду купальни, не испытывая ни малейшего желания возвращаться на поверхность. Потом я лежал с другими ребятами, слушал их разговоры, но все это представлялось мне смешным и ничтожным.
Незаметно это настроение улетучилось. Опять был обычный пляжный день с приготовлением уроков, волейболом, болтовней и флиртом. Уже не помню, чем я занимался в тот миг, когда, подняв глаза, вдруг увидел ее.
Она стояла метрах в двадцати или тридцати, на ней были шорты и расстегнутая, завязанная узлом на талии рубашка. Она смотрела на меня. Я уставился на нее. Я не мог разглядеть выражение ее лица. Я не вскочил, не бросился к ней. В голове у меня промелькнуло множество вопросов: зачем она пришла сюда? хочет ли она, чтобы я заметил ее и чтобы нас увидели вместе? хочу ли этого я сам? почему я до сих пор ни разу не встречал ее случайно? что же мне все-таки делать? Наконец я встал. Но за тот миг, когда я отвел от нее глаза, она исчезла.
Ханна в шортах и завязанной узлом рубашке, с обращенным ко мне лицом, выражение которого я не могу разглядеть, – это еще одна картина, сохранившаяся в моей памяти.
17
На следующий день она пропала. Я пришел к ней в обычное время, позвонил. Через дверное стекло все выглядело как всегда; было слышно тиканье часов.
Я сел на ступеньки. В первые месяцы я всегда знал ее расписание и маршруты, хотя ни разу больше не пытался ее проводить или встретить. Потом я перестал ее спрашивать о расписании и маршрутах, как-то потерял к ним интерес. Мне только сейчас пришло это в голову.
Из автомата на Вильгельмсплац[43]43
Вильгельмсплац – площадь неподалеку от Блюменштрассе.
[Закрыть] я позвонил в управление городского транспорта, меня несколько раз переключали, а потом сказали, что Ханна Шмиц сегодня на работу не вышла. Я вернулся на Банхофштрассе, зашел в столярную мастерскую во дворе, узнал фамилию и адрес домовладельца, который, как выяснилось, жил в Кирххайме.[44]44
Кирххайм – район на юго-востоке Гейдельберга.
[Закрыть] Я отправился туда.
– Госпожа Шмиц? Она сегодня утром съехала с квартиры.
– А как же мебель?
– Это не ее мебель.
– Сколько времени она прожила в вашей квартире?
– Вас это не касается. – Женщина, которая разговаривала со мной через дверное окошечко, захлопнула его.
В управлении городского транспорта я разыскал отдел кадров. Кадровик был любезен, участлив.
– Она позвонила рано утром, загодя, чтобы мы успели организовать подмену, и сказала, что больше не придет. Ничего не объяснила. – Он озадаченно покачал головой. – Две недели назад она сидела вот здесь, на вашем месте; я предложил ей повышение – мы собирались послать ее на курсы вагоновожатых, а она вдруг все бросила.
Лишь некоторое время спустя я догадался обратиться в бюро регистрации проживания. Ханна выписалась в Гамбург без указания нового адреса.
Несколько дней я чувствовал себя отвратительно. Я старался, чтобы дома никто ничего не заметил. За столом хоть немного участвовал в беседе, через силу ел, а если меня тошнило, то успевал дотерпеть до туалета. Я ходил в школу и на пляж. Там я проводил вторую половину дня, уединялся, чтобы никто ко мне не приставал. Мое тело тосковало по Ханне. Но гораздо сильнее, чем эта физическая тоска, меня мучило чувство вины. Почему я, увидев ее, не вскочил сразу и не бросился к ней! В этом мгновении для меня сконцентрировались все те маленькие предательства и измены, которые я совершал по отношению к ней за последние месяцы. И вот в наказание она уехала.
Иногда я пытался внушить себе, что тогда я видел совсем не ее. Откуда могла взяться уверенность, что я видел именно ее, если я даже лица толком не разглядел? Неужели не разглядел бы, если бы это была действительно она? Но ведь нельзя быть уверенным и в том, что это была не она?
Однако я знал, что это была Ханна. Она стояла и смотрела – и уже было поздно.