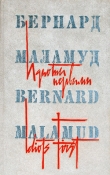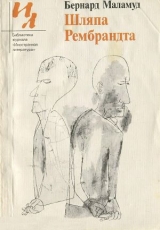
Текст книги "Шляпа Рембрандта (Рассказы)"
Автор книги: Бернард Маламуд
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Письмо (Перевод Н. Васильевой)
У ворот стоит Тедди и держит в руке письмо.
Каждую неделю по воскресеньям Ньюмен сидел с отцом на белой скамье в больничной палате перед раскрытой дверью. Сын привез ананасовый торт, но старик не притронулся к нему.
За два с половиной часа, что он провел у отца, Ньюмен дважды спрашивал:
– Приезжать мне в следующее воскресенье или, может, не надо? Хочешь, пропустим один выходной?
Старик не отвечал. Молчание могло означать либо да, либо нет. Если от него пытались добиться, что же именно, он начинал плакать.
– Ладно, приеду через неделю. Если тебе вдруг захочется побыть одному в воскресенье, дай мне знать. Мне бы тоже не мешало отдохнуть.
Старик молчал. Но вот губы его зашевелились, и после паузы он произнес:
– Твоя мать никогда не разговаривала со мной в таком тоне. И дохлых цыплят не любила оставлять в ванне. Когда она навестит меня?
– Папа, она умерла еще до того, как ты заболел и пытался наложить на себя руки. Постарайся запомнить.
– Не надо, я все равно не поверю, – ответил отец, и Ньюмен поднялся, пора было на станцию, откуда он возвращался в Нью-Йорк поездом железнодорожных линий Лонг-Айленда.
На прощание он сказал: «Поправляйся, папа» – и услышал в ответ:
– Не говори со мной как с больным. Я уже здоров. Каждое воскресенье с того дня, как, оставив отца в палате 12 корпуса Б, Ньюмен впервые пересек больничный двор, всю весну и засушливое лето около чугунной решетки ворот, изогнувшихся аркой между двух кирпичных столбов, под высоким раскидистым дубом, тень от которого падала на отсыревшую стену, он встречал Тедди. Тот стоял и держал в руке письмо. Ньюмен мог бы выйти через главный вход корпуса Б, но отсюда было ближе до железнодорожной станции. Для посетителей ворота открывались только по воскресеньям.
Тедди толстый и смирный, на нем мешковатое серое больничное одеяние и тряпичные шлепанцы. Ему за пятьдесят, и, наверное, не меньше его письму. Тедди всегда держал его так, словно не расставался целую вечность с пухлым, замусоленным, голубым конвертом. Письмо не запечатано, в нем четыре листка кремовой бумаги – совершенно чистых. Увидев эти листочки первый раз, Ньюмен вернул конверт Тедди, и сторож в зеленой форме открыл ему ворота. Иногда у входа толклись другие пациенты, они норовили пройти вместе с Ньюменом, но сторож их не пускал.
– Ты бы отправил мое письмо, – просил Тедди каждое воскресенье.
И протягивал Ньюмену замусоленный конверт. Проще было, не отказывая сразу, взять письмо, а потом вернуть.
Почтовый ящик висел на невысоком бетонном столбе за, чугунными воротами на другой стороне улицы неподалеку от дуба. Тедди время от времени делал боксерский выпад правой в ту сторону. Раньше столб был красным, потом его покрасили в голубой цвет. В каждом отделении в кабинете врача был почтовый ящик. Ньюмен напомнил об этом Тедди, но он сказал, что не хочет, чтобы врач читал его письмо.
– Если отнести письмо в кабинет, там прочтут.
– Врач обязан, это его работа, – возразил Ньюмен.
– Но я тут ни при чем, – сказал Тедди. – Почему ты не хочешь отправить мое письмо? Какая тебе разница?
– Нечего там отправлять.
– Это по-твоему так.
Массивная голова Тедди сидела на короткой загорелой шее, жесткие с проседью волосы подстрижены коротким бобриком. Один его серый глаз налит кровью, а второй затянут бельмом. Разговаривая с Ньюменом, Тедди устремлял взгляд вдаль, поверх его головы или через плечо. Ньюмен заметил, что он даже искоса не следил за конвертом, когда тот на мгновение переходил в руки Ньюмена. Время от времени он указывал куда-то коротким пальцем, но ничего не говорил. И так же молча приподнимался на цыпочки. Сторож не вмешивался, когда по воскресеньям Тедди приставал к Ньюмену, уговаривая отправить письмо.
Ньюмен вернул Тедди конверт.
– Зря ты так, – сказал Тедди. И добавил: – Меня гулять пускают. Я почти в норме. Я на Гуадалканале воевал. Ньюмен ответил, что знает об этом.
– А где ты воевал?
– Пока нигде.
– Почему ты не хочешь отправить мое письмо?
– Пусть доктор прочтет его для твоего же блага.
– Красотища. – Через плечо Ньюмена Тедди уставился на почтовый ящик.
– Письмо без адреса, и марки нет.
– Наклей марку. Мне не продадут одну за три пенса или три по пенсу.
– Теперь нужно восемь пенсов. Я наклею марку, если ты напишешь адрес на конверте.
– Не могу, – сказал Тедди.
Ньюмен уже не спрашивал почему.
– Это не такое письмо. Он спросил, какое же оно.
– Голубое и внутри белая бумага.
– Что в нем написано?
– Постыдился бы, – обиделся Тедди.
Ньюмен уезжал поездом в четыре часа. Обратный путь не казался таким тягостным, как дорога в больницу, но все равно воскресенья были сущим проклятьем.
Тедди стоит с письмом в руке.
– Не выйдет?
– Нет, не выйдет, – сказал Ньюмен.
– Ну что тебе стоит.
Он все-таки сунул конверт Ньюмену и через мгновение получил его назад.
Тедди вперился взглядом в плечо Ньюмена.
У Ральфа в руке замусоленный голубой конверт.
В воскресенье у ворот вместе с Тедди стоял высокий и худой суровый старик, тщательно выбритый, с бесцветными глазами, на его лысой восковой голове красовался старый морской берет времен первой мировой войны. На вид старику было лет восемьдесят.
Сторож в зеленой форме велел ему отойти в сторону и не мешать выходу.
– Отойди-ка, Ральф, не стой на дороге.
– Почему ты не хочешь бросить письмо в ящик, ведь тебе по дороге? – спросил Ральф скрипучим старческим: голосом, протягивая письмо Ньюмену.
Ньюмен не взял письмо.
– А вы кто?
Тедди и Ральф молчали.
– Это отец его, – объяснил сторож.
– Чей?
– Тедди.
– Господи, – удивился Ньюмен. – Их обоих здесь держат?
– Ну да, – подтвердил сторож.
– С каких он тут пор? Давно?
– Теперь ему снова разрешили гулять. А год назад запретили.
– Пять лет, – возразил Ральф.
– Нет, год назад.
– Пять.
– Вот странно, – заметил Ньюмен, – вы не похожи.
– А сам ты на кого похож? – спросил Ральф.
Ньюмен растерянно молчал.
– Ты где воевал? – спросил Ральф.
– Нигде.
– Тогда тебе легче. Почему ты не хочешь отправить мое письмо?
Тедди, набычившись, стоял рядом. Он приподнялся на цыпочки и быстро сделал выпад правой, потом левой в сторону почтового ящика.
– Я думал, это письмо Тедди.
– Он попросил меня отправить его. Он воевал на Иводзима. Мы две войны прошли. Я был на Марне и в Аргонском лесу. У меня легкие отравлены ипритом. Ветер переменился, и фрицы сами хватанули газов. Жаль, не все.
– Дерьмо сушеное, – выругался Тедди.
– Опусти письмо, не обижай беднягу, – сказал Ральф. Дрожь била его длинное худое тело. Он был нескладным и угловатым, блеклые глаза смотрели из впалых глазниц, а черты лица казались неровными, словно их вытесали из дерева.
– Я же говорил, пусть ваш сын что-нибудь напишет в письме, тогда я его отправлю, – растолковывал Ньюмен.
– А что написать?
– Да что угодно. Разве никто не ждет от него письма? Если он сам не хочет, пусть скажет мне, я напишу.
– Дерьмо сушеное, – снова выругался Тедди.
– Он мне хочет написать, – сказал Ральф.
– Неплохая мысль, – заметил Ньюмен. – В самом деле, почему бы ему не черкнуть вам пару строчек? А может быть, лучше вам отправить ему письмецо?
– Еще чего.
– Это мое письмо, – сказал Тедди.
– Мне все равно, кто напишет, – продолжал хмуро Ньюмен. – Хотите, я напишу ему от вашего имени, выражу наилучшие пожелания. А могу и так: надеюсь, ты скоро выберешься отсюда.
– Еще чего.
– В моем письме так нельзя, – сказал Тедди.
– И в моем нельзя, – мрачно произнес Ральф. – Почему ты не хочешь отправить письмо таким, как есть? Спорим, ты трусишь.
– Нет, не трушу.
– А вот, держу пари, трусишь.
– Ничего подобного.
– Я никогда не проигрываю.
– Да что тут отправлять? В письме нет ни слова. Чистая бумага, и ничего больше.
– С чего ты взял? – обиделся Ральф. – Это большое письмо. В нем уйма новостей.
– Мне пора, – сказал Ньюмен, – а то еще на поезд опоздаю.
Сторож выпустил его. За Ньюменом закрылись ворота. Тедди отвернулся и обоими глазами, серым и затянутым бельмом, уставился поверх дуба на летнее солнце.
У ворот, дрожа, стоял Ральф.
– К кому ты ходишь по воскресеньям? – крикнул он вслед Ньюмену.
– К отцу.
– Он на какой войне был?
– У него в черепушке война.
– Его гулять пускают?
– Нет, не пускают.
– Значит, он чокнутый?
– Точно, – ответил Ньюмен, уходя прочь.
– Стало быть, и ты тоже, – заключил Ральф. – Почему бы тебе не остаться с нами? Будем вместе время убивать.
Ссуда (Перевод М. Зинде)
Белый хлеб только подрумянивался у Леба в печи, а на сытный пьянящий дух уже стаями слетались покупатели. Застыв в боевой готовности за прилавком, Бесси, вторая жена Леба, приметила чуть в сторонке незнакомца – чахлого, потрепанного субъекта в котелке. Хотя он выглядел вполне безвредным рядом с нахрапистой толпой, ей сразу стало не по себе. Она вопросительно глянула на него, но он лишь склонил голову, как бы умоляя ее не волноваться – он, мол, подождет, готов ждать хоть всю жизнь. Лицо его светилось страданием. Напасти, видно, совсем одолели человека, въелись в плоть и кровь, и он этого уже не мог скрыть. Бесси напугалась.
Она быстро расправилась с очередью и, когда последних покупателей выдуло из лавки, снова уставилась на него.
Незнакомец приподнял шляпу:
– Прошу прощенья. Коботский. Булочник Леб дома?
– Какой еще Коботский?
– Старый друг.
Ответ напугал ее еще больше.
– И откуда вы?
– Я? Из давным-давно.
– А что вам надо?
Вопрос был обидный, и Коботский решил промолчать.
Словно привлеченный в лавку магией голосов, из задней двери вышел булочник в одной майке. Его мясистые красные руки были по локоть в тесте. Вместо колпака на голове торчал усыпанный мукой бумажный пакет. Мука запорошила очки, побелила любопытствующее лицо, и он напоминал пузатое привидение, хотя привидением, особенно через очки, показался ему именно Коботский.
– Коботский! – чуть не зарыдал булочник: ведь старый друг вызвал в памяти те ушедшие деньки, когда оба были молоды и жилось им не так, совсем по-другому жилось. От избытка чувств на его глазах навернулись слезы, но он решительно смахнул их рукой.
Коботский стянул с головы шляпу и промокнул взопревший лоб опрятным платком; там, где у Леба вились седые пряди, у него сияла лысина.
Леб подвинул табуретку:
– Садись, Коботский, садись.
– Не здесь, – буркнула Бесси. – Покупатели, – объяснила она Коботскому. – Дело к ужину. Вот-вот набегут.
– И правда, лучше не здесь, – кивнул Коботский.
И еще счастливее оттого, что им никто теперь не помешает, друзья отправились в заднюю комнату. Но покупателей не было, и Бесси пошла вслед за ними.
Не сняв черного пальто и шляпы, Коботский взгромоздился на высокий табурет в углу, сгорбился и устроил негнущиеся руки с набухшими серыми венами на худых коленках. Леб, близоруко поглядывая на него сквозь толстые стекла, примостился на мешке с мукой. Бесси навострила уши, но гость молчал. Обескураженному Лебу пришлось самому вести разговор:
– Ах, эти старые времена! Весь мир был как новенький, и мы, Коботский, были молоды. Помнишь, только вылезли из трюма парохода, а уже записались в вечернюю школу для иммигрантов? Haben, hatte, gehabt[19]19
Немецкий глагол «иметь» в трех формах.
[Закрыть]. – Леб даже хихикнул при звуке этих слов.
Худой как скелет Коботский словно набрал в рот воды. Бесси нетерпеливо смахивала тряпкой пыль. Время от времени она бросала взгляд в лавку: никого.
Леб, душа общества, продекламировал, чтобы подбодрить друга:
– «Ветер деревья стал звать: „Пошли на лужайку играть“ Помнишь, Коботский?
Бесси вдруг шумно потянула носом.
– Леб, горит!
Булочник вскочил, шагнул к газовой печке и распахнул одну из дверок, расположенных друг над другом. Выдернув оттуда два противня с румяным хлебом в формах, он поставил их на обитый жестью стол.
– Чуть не упустил, – расквохталась Бесси.
Леб близоруко сощурился в сторону лавки.
– Покупатели! – объявил он злорадно.
Бесси вспыхнула и ушла. Облизывая сухие губы, Коботский смотрел ей вслед. Леб принялся накладывать тесто из огромной квашни в формы. Вскоре хлеб уже стоял в печи, но и Бесси вернулась.
Медовый дух горячих буханок оживил Коботского. Он вдыхал их аромат с наслаждением, будто впервые в жизни, и даже постучал себя кулаком в грудь.
– Господи боже! До чего хорошо, – почти заплакал он.
– На слезах замешано, – сказал Леб кротко, тыча пальцем в квашню.
Коботский кивнул.
Целых тридцать лет, пояснил булочник, у него не было за душой ломаного гроша. И как-то он с горя расплакался прямо над квашней. С тех пор от покупателей отбою нет.
– Мои пирожные они не любят, а вот за хлебом так сбегаются со всех сторон.
***
Коботский высморкался и заглянул в лавку: три покупателя.
– Леб, – позвал он шепотом. Булочник невольно похолодел.
Гость стрельнул взглядом на Бесси за прилавком и, подняв брови, вопросительно уставился на Леба.
Леб не открывал рта.
Коботский откашлялся.
– Леб, мне нужно двести долларов. – Голос его сорвался.
Леб медленно осел на мешок. Так он и знал. С той минуты как Коботский появился у него, он ожидал этой просьбы, с горечью вспоминая потерянную пятнадцать лет назад сотню. Коботский божился, что отдал ее, Леб уверял, что нет. Дружба поломалась. Понадобились годы, чтобы из души выветрилась обида.
Коботский опустил голову.
„Хоть сознайся, что был тогда не прав“, – думал Леб и продолжал безжалостно молчать.
Коботский рассматривал свои скрюченные пальцы. Раньше он был скорняком, но из-за артрита пришлось бросить дело.
Леб молча щурился. В живот ему врезался шнурок от бандажа. Грыжа. На обоих глазах катаракты. И хотя врач божился, что после операции он снова будет видеть, Леб не верил.
Он вздохнул. Бог с ней, с обидой. Была, да быльем поросла. Чего не простишь другу. Жаль только, что видно его как сквозь туман.
– Сам я да, но… – Леб кивнул в сторону лавки. – Вторая жена. Все записано на ее имя. – И он вытянул пустые ладони.
Глаза Коботского были закрыты.
– Я спрошу, конечно… – сказал Леб без всякой уверенности.
– Моей Доре требуется…
– Не нужно слов.
– Скажи ей…
– Положись на меня.
Леб схватил метлу и пошел по комнате, вздымая клубы белой пыли.
Вернулась запыхавшаяся Бесси и, посмотрев на них, сразу твердо сжала губы и стала ждать.
Леб быстро почистил в железной раковине противни, бросил формы под стол и составил вкусно пахнущие буханки на лотки. Затем заглянул в глазок печи: хлеб печется, слава богу, нормально.
Когда он повернулся к Бесси, его бросило в жар, а слова застряли в горле.
Коботский заерзал на своей табуретке.
– Бесси, – начал наконец булочник, – это мой старый друг.
Она мрачно кивнула. Коботский приподнял шляпу.
– Сколько раз его мама, царство ей небесное, кормила меня тарелкой горячего супа. Сколько лет я обедал за их столом, когда приехал в эту страну. У него жена, Дора, очень приличная женщина. Ты с ней скоро познакомишься.
Коботский тихо застонал.
– А почему мы не знакомы до сих пор? – спросила Бесси, после двенадцати лет брака все еще ревнуя его к первой жене и ко всему, что было с ней связано.
– Познакомитесь.
– Почему не знакомы, я спрашиваю.
– Леб! – взмолился Коботский.
– Потому что я сам не видел ее пятнадцать лет, – признался булочник.
– Почему не видел? – не отставала она.
Леб немного помолчал.
– По недоразумению.
Коботский отвернулся.
– Но виноват в этом я сам, – добавил Леб.
– А все потому, что ты никуда не ходишь, – зашипела Бесси. – Потому что не вылазишь из пекарни. Потому что друзья для тебя – пустое место.
Леб важно кивнул.
– Она сейчас больна, – сказал он. – Нужна операция. Врач запросил двести долларов. Я уже пообещал Коботскому, что…
Бесси завизжала.
Коботский со шляпой в руке сполз с табурета.
Бесси схватилась за сердце, потом подняла руку к глазам и зашаталась. Леб и Коботский бросились, чтобы подхватить ее, но она не упала. Коботский тут же отступил к табурету, Леб – к раковине.
Лицо Бесси стало как разлом буханки.
– Мне жаль вашей жены, – тихо сказала она гостю, – но помочь нам нечем. Простите, мистер Коботский, мы – бедняки, у нас нет денег.
– Есть! – в бешенстве крикнул Леб.
Подскочив к полке, Бесси схватила коробку со счетами и вывернула ее над столом, так что они порхнули во все стороны.
– Вот что у нас есть, – визгнула она.
Коботский втянул голову в плечи.
– Бесси, в банке…
– Нет!
– Я же видел книжку.
– Ну и что, если ты скопил пару долларов? А работать ты собираешься вечно? От смерти ты застрахован?
Леб не ответил.
– Застрахован? – язвила она.
Передняя дверь хлопнула. Она хлопала теперь не переставая. В лавку набились покупатели и требовали хлеба. Тяжело передвигая ноги, Бесси потащилась к ним.
***
Уязвленные друзья зашевелились. Коботский костлявыми пальцами начал застегивать пальто.
– Сиди, – вздохнув, сказал ему булочник.
– Извини меня, Леб.
Коботский сидел, и лицо его светилось печалью.
Когда Бесси отделалась от покупателей, Леб отправился к ней в лавку. Он заговорил тихо, почти шепотом, и она поначалу не повышала голоса, но через минуту супруги уже вовсю ругались.
Коботский слез с табурета. Он подошел к раковине, намочил половину носового платка и приложил к сухим глазам. Затем, свернув влажный платок и затолкав его в карман пальто, вынул ножичек и быстро почистил ногти.
Когда он появился в лавке, Леб уламывал Бесси, напоминая ей, как много и тяжко он работает. И вот теперь, имея на счету пару долларов, он что, не может поделиться с дорогим для него человеком? А зачем тогда жить? Но Бесси стояла к нему спиной.
– Прошу вас, не надо ругаться, – сказал Коботский. – Я уже пошел.
Леб смотрел на него с отчаянием. Бесси даже не двинулась.
– Деньги, – вздохнул Коботский. – Я действительно просил для Доры, но она… она не заболела, Леб. Она умерла.
– Ай! – вскрикнул Леб, ломая руки.
Бесси повернула к гостю бледное лицо.
– Давно уже, – продолжал Коботский мягко. – Пять лет прошло.
Леб застонал.
– Деньги нужны для камня на могилу. У Доры нет надгробия. В следующее воскресенье будет пять лет, как она умерла, и каждый раз я обещаю: „Дора, на этот год я поставлю тебе камень“, и каждый раз не выходит.
К вящему стыду Коботского, могила стояла как голая. Он давно уже дал задаток, внес пятьдесят долларов – и за камень, и чтобы имя красиво выбили, но остальных денег не набирается. Не одно мешает, так другое: в первый год – операция; во второй он не мог работать из-за артрита; на третий вдовая сестра потеряла единственного сына, и весь его мизерный заработок уходил туда; на четвертый год замучили чирьи – было стыдно показаться на улице. Правда, в этом году работа есть, но денег хватает лишь на еду да крышу над головой, вот Дора и лежит без камня, и как-нибудь придет он на кладбище и вообще не найдет никакой могилы.
В глазах булочника стояли слезы. Он глянул на Бесси – голова непривычно склонена, плечи опущены. Значит, и ее проняло. Победа! Теперь уже она не скажет „нет“, выложит денежки, и они все вместе сядут за стол перекусить.
***
Но даже плача, Бесси отрицательно мотала головой и, прежде чем они успели опомниться, пустилась рассказывать историю своих мытарств – как сразу после революции, когда она была еще совсем ребенком, ее любимого папочку выволокли босиком в поле, и от выстрелов поднялось с деревьев воронье, а снег заалел кровавыми пятнами; как спустя год после свадьбы ее муж, добрый, мягкий человек, счетовод с образованием – такая редкость по тем временам, – умер в Варшаве от тифа, и она, совсем одинокая в своем горе, нашла приют у старшего брата в Германии, а брат пожертвовал всем, чтобы отправить ее перед войной в Америку, сам же с женой и дочкой кончил дни в гитлеровской душегубке…
– И вот приехала я в Америку и познакомилась с бедным булочником, с босяком, который никогда не имел и гроша за душой, не видел в жизни радости, и я вышла за него, бог знает зачем, и, работая день-ночь, вот этими вот руками наладила маленькое дело, и только теперь, через двенадцать лет, мы стали немножко зарабатывать. Но ведь он больной, мой Леб, ему нужно оперировать глаза, и это еще не все. А если, упаси Господи, он помрет, что я буду делать одна? Куда пойду? Кому я нужна без денег?
Булочник, уже не раз слышавший эту историю, большими кусками засовывал в рот мякиш.
Когда Бесси кончила, он отбросил выеденную корку. Коботский в конце рассказа зажал ладонями уши.
По щекам Бесси катились слезы, но вдруг она вздернула голову и подозрительно принюхалась. Потом, хрипло взвыв, бросилась в заднюю комнату и с маху рванула на себя дверцу печи. В лицо ей ударило облако дыма. Буханки на противнях были черными кирпичами, обугленными трупиками.
Коботский с булочником обнялись и повздыхали о прошедшей молодости. Затем прижались друг к другу губами и расстались навсегда.