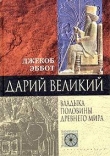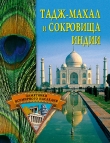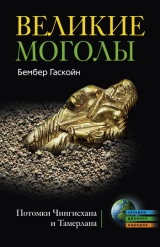
Текст книги "Великие Моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана"
Автор книги: Бембер Гаскойн
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сам Акбар больше всего любил охоту с так называемым «индийским леопардом», то есть гепардом. Первого гепарда он получил в подарок, когда вместе с отцом прибыл в Хиндустан в 1555 году. Акбар очень привязался к «этому необыкновенному животному». Гепардов содержали в особых ямах или клетках из прутьев, причем через месяц или два они приучались слушаться своего хозяина, их можно было свободно отпускать на охоту за оленем, которого они убивали, а потом возвращались к хозяину, как возвращается ловчий сокол. Акбар занимался своими гепардами очень серьезно. Они были разделены на восемь разрядов, их мясной рацион распределялся соответственно. На них надевали безрукавки, украшенные драгоценными камнями, а во время выезда на охоту они восседали с завязанными глазами на красивых коврах. На то, какой гепард сразит больше оленей за день, заключались пари, и гепард, перепрыгнувший в 1572 году широкий овраг, чтобы схватить оленя, был возведен в ранг главы гепардов, и во время торжественной процессии по этому случаю перед ним несли барабан и били в него.
Охота была субституцией войны как для тех, кто охотился, так и для тех, на кого охотились. При отлове диких слонов, пешей охоте на тигра, заключении пари в окружении свободных гепардов и участии в общей потасовке после окончания камаргаха, она нередко становилась такой же опасной, как и война. Даже в пятьдесят четыре года Акбар имел безрассудство однажды лунной ночью схватить за рога оленя-самца, тот сбил императора на землю и ранил рогом в мошонку. Акбар болел два месяца, и Абу-ль-Фазл удостоился высокой чести прикладывать бальзам к этой самой интимной из ран.
Наиболее неспокойными областями быстро растущей империи Акбара были земли к востоку от Бихара и Бенгалии и к западу от Кабула. Бихаром и Бенгалией вплоть до своей смерти в 1572 году управлял афганец Сулейман Каррани, который попросил у Акбара достаточно свободную форму вассальной зависимости, и Акбар с этим согласился. В беспорядки, возникшие после смерти Сулеймана, Акбар вмешался обычным способом, и в 1575 году обе провинции были завоеваны и стали частью империи Моголов. Впрочем, Бенгалию пришлось позже еще несколько раз завоевывать заново, так как составлявшие там большинство населения афганцы возмущались против Моголов, вытеснивших из Дели представителя афганской династии Шер-шаха. Вокруг Кабула шла напоминающая о днях молодости Бабура нескончаемая семейная распря между сводным братом Акбара Хакимом и его двоюродными братьями Сулейманом и Шахрухом. Сама по себе распря эта не имела особого значения, но Хаким, как брат Акбара, был единственным возможным претендентом на трон, и постоянно существовала опасность, что недовольные сплотятся вокруг него для более серьезного восстания. Армии Акбара должны были готовиться к решающему выступлению и на запад, и на восток во имя сохранения статус-кво. Кульминация наступила в 1580 году, когда оба фланга объединились против центра. Хаким захватил Пенджаб и осадил Лахор; одновременно он был провозглашен императором Бенгалии. Два мятежа сразу представляли наиболее сильную угрозу империи Моголов со времен первых дней после смерти Хумаюна, но Акбар был в состоянии подавить оба. В соответствии со своей постоянной политикой он обошелся с бунтовщиками достаточно снисходительно с той целью, чтобы их сторонники вели себя мирно в пределах империи.
Акбар распространял свою экспансию и на юг. Он постепенно усиливал свой контроль над Мальвой. В 1572 году отобрал Гондвану у ее замечательно храброй королевы-воительницы рани Дургавати, а в 1573-м завоевал Гуджарат. И возможно, наиболее значительным аспектом его политики следует считать постоянное усиление влияния в Раджастхане. Акбар правильно понимал особую важность Раджастхана для своего плана объединить две религиозные общности Хиндустана в одну нацию. Можно сказать, что Раджастхан представлял и представляет сейчас самый дух Древней Индии как оплота индуизма. То была единственная часть субконтинента, не считая самой южной его оконечности, которая оставалась почти полностью индуистской после пяти веков мусульманского господства. Суровые пустыни региона и знаменитый воинский дух раджпутов удерживали мусульманских султанов от завоевания Раджастхана.
Акбар поступал более хитро, распространяя свое влияние на эти земли путем браков с дочерьми местных правителей, в то время как его войска то и дело захватывали различные крепости на восточных границах территории. Но поперек дороги ему встал гордый отказ правителя из династии Рана в Меваре, главы старшего королевского дома во всем Раджастхане, вести с ним какие бы то ни было дела. Клан Рана владел своей столицей, большой крепостью Читор, почти без перерыва восемь столетий. История ведет их происхождение от некоего Баппы, обосновавшегося там в 728 году, легенда возводит этот род к богу Раме, а через него к самому Солнцу. Тогдашний правитель из этой династии носил имя Удай Сингх и был главной фигурой индуизма в северной Индии, так же как Акбар к тому времени мог считаться главной фигурой для мусульман. Положение осложнилось и тем, что Рана открыто выражал свое презрение радже Амбера за то, что тот унизил себя, отдав дочь в гарем Могола. Столкновение было неизбежно, и Акбар решил выступить на Читор.
Удай Сингх в этой ситуации повел себя в стиле, совершенно несвойственном традиционному представлению о раджпутах, известных в истории тем, что они предпочитали смерть бесчестью. Прослышав о планах Акбара, он оставил Читор под защитой восьми тысяч раджпутов во главе с отменным военачальником, а сам вместе с семьей укрылся в безопасном месте среди холмов. Эта акция навлекла на голову Удай Сингха поношения романтически настроенных историографов в выражениях типа «трусливый царевич», «недостойный сын благородного государя», «вечный позор», «унижение для своего народа» и даже «выродок», как сказано в анналах Раджастхана. Но то было тактическое отступление, которое совершил бы любой современный генерал при подобных обстоятельствах. Читор имел репутацию неприступной крепости, но на деле это было не так. Им овладел Алауддин в 1303 году, а сравнительно незадолго до описываемых событий, в 1535 году, его захватил султан Гуджарата Бахадур. Можно спорить по поводу того, что Удай Сингх не мог бы – или не захотел бы? – взглянуть на проблему глазами современных военачальников, и что он, по сути дела, предоставил восьми тысячам раджпутов возможность погибнуть в порыве традиционной храбрости отчаяния. Однако он оставил в Читоре достаточно продовольствия, чтобы кормить гарнизон в течение нескольких лет, и приказал опустошить всю округу в радиусе многих миль, чтобы моголы не могли использовать местные ресурсы. К тому же не было уверенности, что Читор непременно падет, но если бы такое произошло, Акбару достался бы всего лишь один укрепленный пограничный форт и поросшая колючками пустынная территория. Долгоиграющий результат акции Удай Сингха оказался более благотворным. Правитель еще до того приказал создать искусственное озеро примерно в семидесяти милях на юго-запад от Читора, на одной из самых привлекательных оборонительных позиций в мире, в плодоносной долине, окруженной кольцом высоких холмов и представляющей собой природную крепость с поперечником во много миль. Здесь Удай Сингх построил для себя дворец, а впоследствии на этом месте вырос названный по его имени один из красивейших городов Индии – Удайпур, который стал в дальнейшем столицей Мевара.
24 октября 1567 года Акбар подступил к крепости Читор, выстроенной на скале длиной в три с четвертью мили и наибольшей шириной в тысячу двести ярдов; крепость так круто вздымалась над окружающей равниной, что показалась писателю начала нашего столетия похожей на «огромный броненосец среди моря». [31]31
Б. Гаскойн, само собой, говорит о XX в.; он цитирует Р. Варна, автора четвертого тома «Кембриджской истории Индии», посвященного периоду Великих Моголов и вышедшего в Кембридже в 1937 г.
[Закрыть]Лагерь Акбара растянулся чуть ли не на десять миль, и таким образом, конфронтация развернулась на широком протяжении, как и подобало столкновению между крупнейшими индийскими и мусульманскими силами в северной Индии. Мусульманские хроники всячески подчеркивали священный характер войны и называли ее участников воинами за веру – гази, однако на деле все обстояло не столь просто. Шла серьезная борьба по иным причинам и направлениям. Под началом у Акбара находились такие известные индийские вожди, как Бхагван Дас и Тодар Мал, но их присутствие в армии, выступавшей против Рана из Мевара, было не столь уж удивительным, если бросить взгляд в несколько более отдаленное прошлое. Всего за тридцать лет до описываемых событий предыдущий повелитель Мевара выступил из Читора в союзе со своим соседом, мусульманским владыкой Гуджарата султаном Бахадуром, с целью захватить и разделить между собой близлежащее королевство Мальва. Среди множества княжеств, как индусских, так и мусульманских, неизменно стремящихся к расширению своих владений, союзы большей частью заключались в соответствии с политическими интересами. И междоусобные стычки помогали повелителям моголов увеличивать владения, точно так же как позднее междоусобицы помогали англичанам.
Акбар намеревался использовать два основных приема осады крепости: во-первых, минирование и последующие взрывы, а во-вторых, так называемые сабаты –крытые подходы. Он также собирался предпринять артиллерийский обстрел внутренней части крепости, однако такой обстрел не принес бы значительных результатов, потому что все важные здания были защищены высокими стенами, и, следовательно, успешный обстрел можно было бы вести только с высоко расположенных позиций, дающих возможность видеть то, что находится за стенами, и наносить прицельные удары.
Минирование представляло собой чрезвычайно сложный процесс. Саперы, прикрываемые с тыла артиллерийскими батареями, подкапывались под скалу до тех пор, пока не достигали места под стеной. После этого они должны были выкопать камеру и наполнить ее порохом. Защитники крепости видели, где начинается подкоп, но не могли уверенно определить его дальнейшее направление визуально, поэтому они часто прислушивались, прижимая ухо к земле, к доносящимся до них звукам и принимались рыть собственный подкоп к месту, где располагалась камера. Бывали случаи, когда осажденным удавалось, пробившись к камере сзади, перехватывать мешки с порохом, можно сказать, почти из рук у тех, кто эту камеру ими наполнял спереди, сохраняя таким образом в целости стену крепости и пополняя свой склад боеприпасов.
Под Читором в течение месяца были заложены две мины, на близком расстоянии одна от другой, однако фитили, к несчастью, оказались менее надежными, чем порох. Предполагалось, что оба взрыва произойдут одновременно, но между первым и вторым прошло некоторое время. Штурмовые группы, ожидая лишь одного взрыва, ринулись к стене крепости и находились в проломе, когда прогремел второй взрыв. Погибли две сотни моголов и среди них несколько любимых военачальников Акбара.
После этой трагической неудачи Акбар сосредоточил все усилия на сабате, сооружении куда более сложном, чем подкопы, и потому даже не завершенном. По идее это было постепенно растущее укрепление, предназначенное для того, чтобы обеспечить нападающих почти столь же надежной защитой, которой пользовались осажденные, и медленно продвигающее их к цели. Оно представляло собой крытый проход – в Читоре достаточно широкий, чтобы по нему могли проехать бок о бок десять всадников, и достаточно высокий, чтобы по нему мог двигаться человек на слоне, держа в руке поднятое вертикально копье. Стены прохода строили из камня, скрепленного глиной, и они могли отражать пушечные ядра, а крыша была деревянной, с кожаными сыромятными креплениями. На крыше и в боковых стенах были устроены камеры с бойницами, в которых, точно в крепости, укрывались оружие и стрелки. Сабат под Читором продвигался извилистым путем, вероятно, из-за крутого рельефа склона, однако Абу-ль-Фазл сообщает, что в результате ни один из участков крепостной стены не оставался недоступным для огня могольских орудий, укрытых в камерах. Передняя часть сабата постоянно надстраивалась, и нет нужды особо подчеркивать, насколько опасным было это место работы; Несмотря на то, что мастера и чернорабочие находились под защитой переносных щитов, обтянутых сыромятной кожей (показатель того, что начальная скорость пуль была в то время очень низкой), ежедневно погибало около двухсот человек. Но по мере того как этот опаснейший участок работы продвигался все ближе к стенам крепости, росло преимущество осаждающих. Гораздо легче, оставаясь под надежным прикрытием и без особых затруднений перезаряжая оружие, вести обстрел под острым углом вверх, нежели вниз. А сверх того, чем с более близкого расстояния вели огонь укрытые в сабате пушки, тем большие разрушения они причиняли выбранному для обстрела участку крепостной стены; увеличивалась таким образом и прицельность стрельбы по уже поврежденным местам. Как только широкая пасть сабата приблизилась бы к самой стене, слоны и воины, находившиеся в надежном укрытии, ринулись бы к пролому и, форсировав его, ворвались бы в крепость. Сабат Акбара был вероломной бронированной змеей, которая, медленно извиваясь, подползала к цели, чтобы вонзить зубы в стены Читора и разрушить их.
Акбар проявлял самый горячий интерес к сабату и проводил немалое время на его крыше, стреляя из укрытия по осажденным. Кто-то из хронистов утверждал, что именно пуля Акбара, выпущенная им из любимого ружья, носившего имя «Санграм», сразила коменданта крепости, когда тот присоединился к защитникам пролома, наконец-то проделанного в стене осаждающими 23 февраля 1568 года. Вполне вероятно, что так оно и было: Акбар всерьез занимался искусством стрельбы, у него было сто пять мушкетов в личном употреблении, но только «Санграм» удостоился записи в книге охотничьих достижений Акбара: из этого ружья император убил во время облавы тысячу девятнадцать животных. Акбару очень нравилось наблюдать за изготовлением оружия в дворцовых мастерских. Следует добавить, что в обычае у Абу-ль-Фазла, а вслед за ним и у других историков, было приписывать любое открытие второй половины XVI века, будь то техника, медицина или культура, плодовитому уму императора. Во всяком случае, был ли роковой выстрел только приписан Акбару из угождения или пуля вылетела из чьего-то другого ружья, вполне предсказуемым результатом гибели военачальника оказалось немедленное падение крепости. Поначалу никто из моголов не знал, кто такой этот погибший человек благородной наружности, однако вскоре в разных местах крепости вспыхнули столбы огня, и Бхагван Дас объяснил Акбару, что пуля угодила в Джаймала, а огни знаменуют джаухар –раджпутский обычай поджигать своих женщин перед уходом в смертельный бой. Воины-раджпуты с честью пали в последующем сражении, но Акбар в дальнейшем запятнал свою победу, уничтожив более сорока тысяч крестьян, живших в крепости. Акбар в особенности жаждал выместить гнев на тысяче стрелков из мушкетов, причинивших большой урон его войску, но те спаслись при помощи невероятно дерзкой хитрости: они связали своих жен и детей и, грубо погоняя их, словно только что захваченных пленников, а сами вполне успешно выдавая себя за отряд победоносных моголов, благополучно вышли из крепости.
Англичанин сэр Томас Роу, посетивший Читор пятьдесят лет спустя, нашел крепость опустошенной и лежащей в развалинах, и его убедили, что моголы подобным же образом разоряли все древние города, которые захватывали. «Не понимаю, по какой причине, – заметил сэр Томас. – Разве только они ничего не помнили о величии прошлого и считали, что их династия и история мира – ровесники». Он был явно введен в заблуждение. Жестокая резня в Читоре нехарактерна для общей политики Акбара. Когда спустя год была взята соседняя крепость раджпутов Рантхамбхор, с ее населением обошлись гораздо мягче. Отчасти, быть может, потому, что эта крепость сдалась быстрее. Однако Читор, сильнейшая крепость старшего царевича раджпутов, была символом, который вызывал безмерный гнев Акбара, и потому Великие Моголы в следующем столетии из чисто политических соображений твердо придерживались решения не восстанавливать укрепления Читора. Но при всем этом кампания Акбара потерпела неуспех в главном ее смысле. К 1579 году все влиятельные раджпутские князья признали верховную власть Акбара – за исключением Рана из Мевара, хотя с этого времени он известен в истории как правитель Удайпура.
В честь падения Читора Акбар совершил паломничество, частично пешком, на могилу ходжи Муин-уд-Дина Чишти в Аджмере. Император уже в течение шести лет совершал это ежегодное паломничество и слушал песнопения деревенских певцов, возносящих хвалу святому. На дороге, по которой Акбар двигался из Агры в Аджмер, были через равные промежутки установлены так называемые кос минар –изящные кирпичные башенки, дорожные вехи, украшенные рогами оленей, убитых лично Акбаром во время его продолжительных охот. Но на этот раз религиозный пыл Акбара был вызван живым членом монашеского ордена Чишти. Вопреки более чем достаточному количеству жен двадцатишестилетний император до сих пор не имел наследника. Все дети, рожденные ему женами, умирали в младенчестве. У Акбара вошло в обыкновение обращаться к членам ордена с просьбами молиться о наследнике, и шейх Салим Чишти, живущий в Сикри, предсказал императору, что у него родятся три сына. Вскоре после этих утешительных предсказаний дочь раджи Амбера забеременела, и Акбар, во имя того, чтобы сбылось благоговейно воспринятое пророчество, отправил супругу пожить в доме шейха Салима. 30 августа 1569 года там и родился ребенок. Позже, когда он станет императором, его нарекут Джахангиром, но при рождении мальчику дали имя Салим в честь святого шейха, а в своей автобиографии он напишет, что отец его не называл иначе, нежели Шейху-баба, [32]32
Джахангир в переводе с фарси означает «покоритель мира, повелитель вселенной». В сочетании Шейху-баба второй элемент представляет собой почтительное обращение к шейху, святому старцу.
[Закрыть]прозвищем, образованным от слова «шейх». Предусмотрительно выждав пять месяцев, чтобы убедиться с достаточной основательностью, что и этот ребенок не уйдет в мир иной во младенчестве, Акбар еще раз совершил пешее паломничество в Аджмер – поблагодарить за чудо. А пророчество шейха Салима сбылось полностью. К шейху была отправлена другая жена Акбара и благополучно родила императору в 1579 году второго сына, Мурада. В 1572 году, когда весь двор находился в Аджмере, на свет появился третий сын, которого назвали Даниялем в честь местного святителя из того же ордена Чишти, в чьем уединенном жилище родился ребенок.
Акбар находился под таким впечатлением подобной последовательности событий, что решил учредить и построить новый столичный город в Сикри – в честь шейха Салима. С начала своего правления он сделал своей столицей Агру, а не Дели (так оно и оставалось вплоть до 1648 года, когда Шах Джахан перевел в Дели свою администрацию) и в 1565 году велел снести старое кирпичное укрепление Сикандар Лоди в Агре и начал возводить великолепную стену из обработанного песчаника, семидесяти футов высотой, окружающую всю территорию Красного форта Агры, получившего свое название по цвету этой стены. Она имеет форму лука, прямая «тетива» которого обращена к реке Джамне. Дворцы Акбара были построены на этой стене; из них он мог наблюдать любимые им бои слонов на ровном пространстве между рекой и крепостью: место было выбрано специально таким образом, чтобы разгоряченные животные могли в любое время войти в воду и остынуть. Из построенных из песчаника дворцов Акбара сохранился до сих пор лишь один, так называемый Джахангири Махал; остальные были снесены, по большей части Шах Джаханом, чтобы освободить место для более изысканных мраморных зданий вдоль той же самой реки. На строительство стены и нескольких дворцов ушло более пяти лет, но в течение этого достаточно бурного времени Акбар успел основать в семи милях от Агры временный и очень красивый городок, где он отдыхал и развлекался «порою состязаниями арабских гончих, порою полетом разных птиц»; играл Акбар и в поло по вновь изобретенному способу, вызывавшему сильное возбуждение: в игре использовали светящийся шар из тлеющего дерева палас, что позволяло предаваться этому развлечению ночью. (Играть с Акбаром в поло было небезопасно: один игрок был даже отправлен в паломничество в Мекку за недостаток подлинно спортивного духа.) Этот временный город назывался Нагарсин, и ныне от него ничего не сохранилось, однако уже близко к завершению работ в Агре мысли Акбара обратились к более впечатляющему проекту, и в 1571 году его каменщики были переведены в Сикри, деревню, где жил шейх Салим Чишти. По счастливой случайности шейх построил свое жилище на невысоком холме из твердого красного песчаника, прекрасного строительного материала, легкого в обработке и достаточно прочного. В последующие четырнадцать лет новому городу предстояло вырасти на холме, в буквальном смысле слова восстав из камня под ногами. Для его наименования к названию деревни Сикри прибавили слово Фатехпур, что в переводе означает «город победы».
Ныне Фатехпур Сикри – наиболее сохранившийся в мире город-призрак. Климат Индии милосерден если не к людям, то к камню, и современный любознательный посетитель города легко может убедиться, что эти замысловатые, похожие на шкатулки здания, украшенные сложным каменным орнаментом, четким и не пострадавшим от выветривания, выглядят так, будто их построили вчера. Однако называть нынешний Фатехпур Сикри городом в обычном смысле слова было бы не совсем правильно. В полной сохранности находится дворец, хотя обширная замощенная территория вокруг него застроена домами, расположенными в свободном порядке, как частными, так и доходными, сдаваемыми внаем, и поневоле возникает предположение, что перед нами воплощение мечты некоего архитектора о маленьком утопическом городке для избранного сообщества эстетов. Настоящий город занимал значительное пространство вокруг подножия холма, на вершине которого находились дворец и большая мечеть. Придворные Акбара и множество участников его военных походов строили здесь жилища для себя, нередко временные, – ведь столичный город тех времен, по существу, представлял собой имперский военный лагерь в домашних условиях. Сам Акбар и тысячи его ремесленников тем временем творили свои шедевры на вершине холма. От этого города не осталось ничего, за исключением окружающей его стены, возведенной по приказу Акбара в целях защиты.
В отличие от более поздней архитектуры Моголов, сочетавшей персидский стиль с индийским, здания, возведенные при Акбаре в крепости Агры и в Фатехпур Сикри, были по стилю чисто индийскими. Образцом для подражания послужил небольшой дворец, построенный в начале XVI века индийским раджой Маном Сингхом в крепости Гвалиор, тот самый, которым Бабур восхищался в 1528 году так же, как и сходными по архитектуре, украшенными каменной резьбой зданиями в Чандери. Один из западных путешественников отмечает в своих записках, что здания времен Акбара и его предшественников похожи на деревянные дома, но выстроены из камня, – технические особенности конструкций и орнаментировки в точности те же, что и у мастеров, строивших из дерева в других странах. Индийский каменщик вырубал двери, перекрытия, перемычки, перегородки, перила, балки и даже доски для пола из природного песчаника точно так же, как плотник эпохи Тюдоров резал все это из дуба. Обработанные поверхности он точно так же покрывал резьбой и соединял детали при завершении строительства точно таким же способом, за исключением того, что ему не надо было соединять их при помощи колышков: собственный вес камней удерживал их на месте. Дворцовые здания в Фатехпур Сикри состоят только и исключительно из каменных столбов и плит, с идеальной точностью пригнанных друг к другу; плиты большей частью привозили на место в полностью готовом состоянии, и это значительно ускоряло строительство.
Фатехпур Сикри включает много причудливых зданий, например Пандж Махал, дворец для обитательниц гарема, имеющий пять этажей, опирающихся на колонны и отгороженных от внешнего мира изящными каменными решетками, сквозь которые женщины могли видеть все, но их самих увидеть было невозможно. Каждый из этажей был по площади меньше того, что находился под ним, вплоть до маленького павильона на самом верху. Или украшенный большими резными консолями под карнизами дом Бирбала, надоедливого льстеца, который, тем не менее, был любимым придворным Акбара. Внутренняя часть этого дома тоже была великолепной. Комната в так называемом дворце Джодха Баи наводит на мысль, насколько элегантной она выглядела, когда полы в ней были устланы богатыми коврами с разбросанными по ним вышитыми шелковыми валиками, на которые так удобно опираться, когда альковы полны флаконами духов и женскими безделушками. Интерьер диваны хае,то есть зала для личных аудиенций Акбара, справедливо прославлен за свою архитектурную изысканность и концепцию, очень точно отражающую характер Акбара и его представление о себе. Снаружи кажется, что в здании два этажа, но изнутри оно являет собой один высокий покой, посредине которого возвышается мощный, расширяющийся кверху резной столб, на середине высоты покоя соединенный с балконами четырьмя изящными мостиками. Принимая посетителей, Акбар восседал на круглой площадке в центре столба; те, кто принимал участие в разговоре, могли находиться на балконах со всех четырех сторон и, если им нужно было что-то вручить императору, могли подойти к нему по одному из мостиков; те, кто был приглашен на прием, но не должен был принимать участие в разговоре, стояли внизу и слышали все, что говорилось наверху.
Несмотря на то, что постройки Акбара производили сильное впечатление – а к уже упомянутым следует добавить возведенные за время его правления форты и дворцы в Аджмере, Лахоре, Аттоке на Инде, в Аллахабаде при слиянии Джамны с Гангом, Сринагаре в Кашмире, – архитектура его периода далека от того, чтобы считать ее вершиной достижений Великих Моголов в этой области, а здания в Агре и Фатехпур Сикри, замечательные сами по себе, значительно менее привлекательны, нежели их образец в Гвалиоре. Причина отчасти заключается в том, что орнаменты Гвалиора кажутся более свободными, к тому же значительно разнится и материал: песчаник в Гвалиоре имеет цвет светлого меда, и свет, падающий на рельефы, создает великолепную игру тонов. Более темный песчаник в Фатехпур Сикри гораздо менее чувствителен к изменениям света и тени и придает мрачный и плоский вид многим зданиям.
Наивысшие достижения Моголов в архитектуре относятся к более поздним царствованиям, но кое-что может быть отмечено во дворе большой мечети, где Шах Джахан велел облицевать мрамором и украсить орнаментом гробницу умершего в 1572 году шейха Салима Чишти. И как ни странно, один монументальный памятник был построен как раз перед тем, когда начали возводить первые здания в Фатехпур Сикри, но не по воле и указанию Акбара, который позже оказал значительное влияние на развитие могольской архитектуры. Это гробница Хумаюна в Дели, и ее создание было проявлением любви и верности его старшей вдовы Хаджи Бегам. Зодчий, выбранный ею, Мирак Мирза Гияс, вероятнее всего, был персом, и по его проекту в Индии появилось первое сооружение с куполом в персидском стиле – таком же самом, как и гробница Тимура в Самарканде. Купол – исключительная примета мусульманской архитектуры в Индии (в индуистских храмах, где используются главным образом горизонтальные опорные балки, этот принцип неприемлем), однако купола мусульманских сооружений в Индии имеют уплощенную форму, напоминая половинку грейпфрута, в противоположность высоким персидским куполам, как бы поднимающимся на стройной шее. Чтобы привести в соответствие красивые внешние линии с не слишком высокой внутренней камерой, на персидских куполах делают два покрытия с некоторым пространством между ними, и гробница Хумаюна следует этому образцу. Работы начались в 1564 году, и Хаджи Бегам, совершив паломничество в Мекку, основала свою резиденцию непосредственно возле лагеря строителей и наблюдала за строительством вплоть до его окончания в 1573 году. Однако выбранный ею проект оформления гробницы опередил время. Тот же стиль был использован сразу после этого при строительстве гораздо меньшей гробницы Аткахана, которая находится рядом с гробницей Хумаюна и, возможно, возведена теми же мастерами, но стиль этот забыли в Индии вплоть до того времени, когда он возродился в усовершенствованной форме через шестьдесят лет при создании Тадж Махала.
Фатехпур Сикри был полностью обитаемым примерно четырнадцать лет. В 1585 году Акбар перевел свой двор в Пенджаб, откуда в течение последующих лет совершил три поездки в Кашмир, а когда в 1598 году вернулся в центральную область империи, то направился не в Фатехпур Сикри, а в Агру. Лишь малая часть города у подножия дворца осталась обитаемой, и так оно обстоит и поныне: никогда больше Фатехпур Сикри не повторил короткого периода своего блистательного расцвета. Тем не менее годы правления, проведенные там Акбаром, были наиболее плодотворными и творческими. Именно здесь он установил стиль жизни и культуры, продолжаемый его потомками по меньшей мере столетие, а также тот обширный административный аппарат, который все это поддерживал. Именно тогда Акбар принял на службу Абу-ль-Фазла, сохранившего в своей хронике все подробности для будущих поколений.
Два труда Абу-ль-Фазла, «Акбар-наме» («История Акбара»), включающий 2506 страниц в издании на английском языке, и «Айни Акбари» («Уложения Акбара»), включающий 1482 страницы, безусловно, следует считать самым полным и подробным описанием дел и событий одного правящего двора, написанным одним человеком. Вопреки, а может, и благодаря своей так называемой необразованности Акбар проявлял страстный интерес к книгам. В то время как другие собирали великолепные коллекции манускриптов, он создал, как было установлено где-то году в 1630-м, библиотеку в двадцать четыре тысячи томов. У него были копии, прекрасно иллюстрированные, всех имеющихся трудов. Он учредил департамент переводов с особым помещением в Фатехпур Сикри для переводчиков, переводивших на персидский язык тимуридские хроники с тюрки, индийских классиков с санскрита и даже христианские Евангелия с латыни, привезенные ко двору Акбара португальскими иезуитами. А что касается его собственного жизнеописания, он не удовлетворился полной хроникой Абу-ль-Фазла, но организовал написание первоисточников.
В то самое время как Абу-ль-Фазл получил приказание «изобразить пером правдивости славные события и наши завоевательные победы», старейшим членам общины, принимавшим непосредственное участие в свершении великих дел, было дано повеление написать воспоминания. Сестра Хумаюна Гульбадан начала свое повествование словами: «Был получен приказ написать, что я знаю о деяниях Бабура и Хумаюна». Ее повесть – один из трех дошедших до нас мемуаров подобного рода. Два других написаны личными слугами Хумаюна Джаухаром и Баязидом; последний перенес апоплексический удар, не мог написать сам и продиктовал несколько сбивчивое описание событий переписчику Абу-ль-Фазла в Лахоре. Сходные указания были направлены в провинции каждому, кто владел важными сведениями, – эти люди должны были явиться ко двору и продиктовать свои воспоминания переписчикам. Сам Абу-ль-Фазл, по его собственному утверждению, «вступил на путаные тропы поисков» и ходил опрашивать стариков, собирать документы и записи. В помощь ему для записи повседневных событий Акбар учредил особую канцелярию, в которой постоянно дежурили два писца, регистрируя каждую минуту придворного распорядка, – не только важные дела, но и сведения о том, что Акбар ел и пил, как долго он пробыл в гареме, сколько в точности времени спал и бодрствовал, какие замечания высказал, какие животные были убиты на охоте, какие заключены пари, кто приехал, кто уехал, браки, рождения, прочитанные книги, умершие лошади, результаты шахматной или карточной игры, не говоря уже о «событиях примечательных».