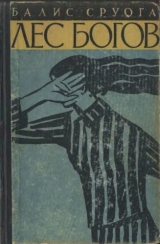
Текст книги "Лес богов"
Автор книги: Балис Сруога
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Aus der Wehrmacht – военнослужащие. В основном моряки гитлеровского флота. В лагерь они попали за воровство, но почему-то носили красный треугольник – значит, были политическими заключенными.
Kriegsgefangene – военнопленные. Категория, появившаяся осенью 1944 года. До того времени в Штутгофе их не было. Они томились в специальных лагерях. В наказание за совершенные там преступления военнопленных отправляли в концентрационные лагеря. Тут они получали красный треугольник и расценивались наравне с другими политическими заключенными. С военнопленными-поляками поступали по-другому. Их спрашивали, не хотят ли они вернуться домой. Кто изъявлял желание, того отпускали. Ему выдавали соответствующие документы. Однако по пути домой гестапо ловило и доставляло освобожденных в Штутгоф не как военнопленных, а как обыкновенных каторжников. Все было шито-крыто. И нормы международного права соблюдались, и поляки отдавали богу душу.
Первыми военнопленными в Штутгофе были 30 поляков участников Варшавского восстания, которых доставили в полной военной форме. Среди них была одна женщина, которая вскоре счастливо разрешилась от бремени и подарила миру солдата. Поляки и новорожденный носили красные треугольники.
Параграф 175, или Homosexuelle. Гомосексуалистами были исключительно немцы. Они носили розовые треугольники. Некоторые немцы уже в самом лагере были вынуждены сменить красный или черный треугольник на розовый. Когда в 1944 году был создан лагерный оркестр, дирижером его был назначен носитель розового треугольника. Был он до того омерзителен, что даже от его музыки тошнило.
Ну и публика, разрази ее гром!
Berufsverbrecher – профессиональные преступники, носили зеленый треугольник острием вниз. Как правило, почти все немцы, они оправдывали свою марку. Каждый из них имел не меньше пяти судимостей. Профессиональных преступников насчитывалось сравнительно немного – несколько сот. Отчаянные и видавшие виды молодчики, они составляли лейб-гвардию Хемница. В самые тяжелые минуты он всегда мог положиться на них: профессиональные преступники не подводили своего шефа. Не случайно Хемниц так дорожил ими. Они безнаказанно своевольничали в лагере и верили, что после войны обязательно выйдут на свободу. Обычно их называли Befau – «бефау».
Polizeisicherungsverwahrte – сокращенно их называли ПСФ. Они содержались в лагере как лица нуждавшиеся в усиленном полицейском надзоре. Носили они тоже зеленый треугольник но острием вверх. ПСФ за уголовные преступления были приговорены к бессрочной каторге. Никакой надежды выйти живыми из лагеря у них не было. ПСФ вели себя скромнее чем профессиональные преступники. Некоторые из них были жертвами трагических обстоятельств. В группу ПСФ входило всего несколько десятков человек, главным образом немцы, немолодые болезненные люди. Были среди них один поляк и один литовец чеботарь из местечка Сейрияй, добрый человек, бог его знает, за что очутившийся за колючей проволокой. На ПСФ смотрели как на самых отъявленных бандитов, но они, за редким исключением, были несравненно порядочное «бефау».
Среди уголовников встречались иногда чрезвычайно интересные экземпляры, не говоря уже об убийцах. К ним, например, принадлежал некий Вилли Браун, мой хороший приятель. Он работал на кухне и в тяжелое табачное безвременье снабжал меня куревом.
В 1919 году Браун был бермонтовцем.[4] Он орудовал в окрестностях Шяуляй. Вилли обстоятельно рассказывал мне, как они грабили и сбывали награбленное добро. На их языке мародерство называлось – rubeln.
– Не думай – успокаивал он меня, – другие бермонтовцы были не лучше Все были одним миром мазаны, все, как и я, воровали.
Полоса неудач началась в жизни Брауна в 1924 или 1925 году. Он свистнул в оккупированном англичанами Кельне несколько мотоциклов. Англичане его поймали и передали в руки немецкой полиции. Браун 12 лет шатался по концентрационным лагерям, побывал в самых страшных из них – Маутхаузене и Гусене.
Когда он описывал свои переживания в Маутхаузене и Гусене, даже у нас, граждан Штутгофа, волосы вставали дыбом. Люди, которые не отведали лагерной похлебки, никогда не поверили бы ему. Но Вилли говорил чистейшую правду. После долголетних мытарств и нечеловеческих страданий он сохранил чувство юмора и типичное рейнское остроумие. Браун и в Штутгофе мечтал о свободе, которую он обретет по окончании войны.
– Лет десять поворую еще в свое удовольствие, – дружески делился он со мной своими сокровенными мыслями.
– Я столько лет пробыл в лагере, что честной работой меня не соблазнишь.
На таких воров-головорезов, как Зеленке, Браун смотрел пренебрежительно, свысока.
– Эти юноши, – говорил он, – только портят нашу репутацию, репутацию порядочных воров. Где это видно – убивать людей? Работать нужно чисто. Элегантно. Красиво. Со вкусом.
Сидел как-то раз Вилли Браун в нашей канцелярии и сосал сигарету. Дело было днем, в рабочее время. Неожиданно вошел Хемниц.
– Так что, Вилли – сказал Хемниц – куришь?
– Курю, господин рапортфюрер.
– Знаешь ли ты Вилли, что за курение я могу с тебя шкуру содрать?
– Прекрасно знаю господин рапортфюрер. Но клянусь, Вы этого не сделаете…
– Ну, ну – удивился Хемниц. – С чего ты взял?
– Не станете же вы, сударь, портить отношения со своим работодателем.
– Хо, ты, Вилли, должно быть, рехнулся или лишнего хватил?
– Что верно, то верно: хватил. Только опохмелиться не успел. Но я себя совершенно обоснованно считаю вашим работодателем. Мы, воры, – насущный хлеб полиции. Не будь нас, воров, пришлось бы вам пойти на фронт. А там еще неизвестно, как бы дело обернулось… Пока существует воровская гильдия, полиция может быть спокойна. У нее всегда будет кусок хлеба. Будет кого ловить, будет кого стеречь. Не так ли, господин рапортфюрер?
– Так что, ты и сейчас воруешь? – Хемниц пытался направить разговор в другое русло.
– А то как же. Конечно ворую, господин рапортфюрер.
– Смотри, Вилли, поймаю – плохо будет!
– Что вы, юноша! Разве вам за мной угнаться, Я старый волк, – гордо ответствовал Вилли. Браун говорил правду. Он был вором-корифеем, вором-виртуозом. Он любил свою профессию. Он был от нее без ума.
Осенью 1944 года Браун получил повышение. Вместе с рабочей командой его отрядили в город Гданьск и вручили бразды правления целой кухней. Сторожем продовольственного склада в Штутгофе назначили другого уголовника – Шпайера.
Немощный, почти развалина Шпайер был старый вор-каторжник, завистливый и хищный жулик, он прекрасно знал свое ремесло, но применял его крайне несимпатично: сам крал, а другим не давал. Шпайер тащил мясо колбасу, маргарин, но бывало украдет голодный узник ломоть хлеба или пару картофелин, Шпайер как гончая, преследует несчастного, пока не размозжит ему палкой голову. Нет, несимпатичным вором был Шпайер. Где ему было тягаться с Вилли Брауном – истинным поэтом.
Jude – евреи. Евреи не нация, следовательно, они преступники, подлежащие аресту. Родился евреем – поезжай без лишних слов в лагерь. Национальность еврея определялась его подданством. В документах тюремщики так и отмечали: Haftart т. е. род преступления – еврей. Национальность: немец, француз, поляк русский, литовец и т. д.
Евреи на груди и на спине носили шестиконечную звезду.
Zigeuner – цыгане, как и евреи считались преступниками за одну свою национальность. Их забирали в лагерь за то, что они родились цыганами. Но цыгане носили почему-то красный треугольник и рассматривались как политические заключенные.
Из Литвы немцы пригнали в Штутгоф несколько цыганских семей. В наш блок приходил 17-летний цыганенок Станкевич. Раз в неделю он получал от нас хлеб и табак. Часть подарка Станкевич съедал тут же, другую прятал в карман. Он говорил, что отнесет матери, которая сидела за колючей проволокой в женском бараке.
– А жене разве ничего не дашь?
Он был женат. Его жена тоже сидела за проволокой.
– Что мне жена! Умрет – возьму другую. А мать мне никто не заменит.
В конце 1944 года в некоторых лагерях была введена совершенно другая классификация заключенных.
Русские и поляки все без исключения были отнесены в категории Auslandischezivilarbeiter – иностранные гражданские рабочие. А подданные других государств так и остались политическими заключенными. Однако нововведение нисколько не улучшило положения русских и поляков. Да и реформа эта была зафиксирована не во всех лагерных документах. Так и осталась в Штутгофе «двойная бухгалтерия» – старая и новая классификации мирно уживались.
Пресловутая реформа преследовала одну цель. Она должна была обелить преступников, почувствовавших близость расплаты за истязание иностранных граждан.
Ведь союзники тоже мобилизовали на разные работы иностранцев. Чем, мол, мы хуже? Для того и были заведены книги.
Смотрите, дескать, и у нас как у людей… Обратите внимание на гражданских рабочих русского и польского происхождения… О каких заключенных вы говорите? У нас, поверьте, все как у вас…
ЛАГЕРНЫЙ СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В лагере томились представители двадцати четырех-двадцати шести национальностей включая и народы СССР. Украинцы, белорусы, татары, мордвины, киргизы и т. д. считались в лагере русскими.
В количественном отношении первенство в лагере удерживали поляки. Лагерь был построен на польской земле и обслуживал преимущественно поляков. Поляки не случайно давали наибольший прирост населения Штутгофа. Их направляли сюда из разных отделений гестапо: из Гданьска, Кенигсберга, Быдгоща, Штаргарда, Плоцка Граузензе, Картузова, Торуни и прочих пунктов.
Второе место занимали русские, третье немцы, четвертое литовцы. В конце 1943 года немецкую и литовскую колонию неожиданно обогнали латыши. Они смело конкурировали по количеству даже с русскими и поляками. Как-то раз из Риги пригнали сразу трехтысячную партию – весьма разношерстную публику. Были тут и русские, но так как они являлись гражданами Латвии и говорили по-латышски, их записали латышами.
Латыши вначале вели себя высокомерно, кичились своим латышским происхождением. Держались они обособленно, собирались кучками, старались даже создать отдельные латышские рабочие команды. На досуге и на работе латыши распевали свои песни особенно одну, с таким запоминающимся припевом: «Дзимдзи-рим-дзим-дзим». Тянули они ее с упоением дружно налегая на «рим-дзим-дзим» несмотря на то, что благозвучный рефрен доставлял им немалые неприятности…
В марте 1944 года пришел приказ послать две тысячи заключенных в концентрационный лагерь Маугхаузен на особо тяжелые работы – дробить скалы. Подбор узников зависел от эсэсовских бонз, а также от заключенных, работавших в администрации. За три дня подобрали две тысячи человек и все они оказались латышами.
Какой бы вонючей дырой ни был Штутгоф, но он не шел ни в какое сравнение с Маутхаузеном – человеческой бойней в каменоломнях.
После отправки латышей литовцы опять выдвинулись на четвертое место. Число их особенно не изменялось, постоянно колеблясь в пределах трехсот человек. Одни умирали, на их место присылали примерно столько же новых. Баланс не нарушался.
Ранней весной 1944 года привезли 165 датчан. До ссылки в Штутгоф они как интернированные, жили в датских лагерях чуть ли не санаторного типа, У каждого была своя отдельная комната. Один датчанин, художник, театральный декоратор ухитрился там не только официально жениться, но и развестись со своей избранницей.
Датчане – рабочие, мастера, ремесленники, моряки – в большинстве своем были коммунистами или сочувствующими, социал-демократами или участниками гражданской войны в Испании. В датскую группу входили также несколько деятелей городского самоуправления, инженеры, адвокаты, один художник и один прекрасный шахматист. Немецкие власти решили, что в датском лагере им слишком хорошо жилось. Везли датчан в Германию в корабельных трюмах, набив битком, как селедку. На немецкой земле их пересадили в поезда. Три дня им не давали пить. Ни капельки. Проводник эсэсовец приносил и выплескивал на глазах у измученных жаждой ведро воды: смотрите, мол, как она поит землю… В Штутгофе датчане образовали свою колонию. Их поселили вместе, в одном блоке. По сравнению с другими заключенными они пользовались определенными льготами и поблажками. Их никто не бил бессмысленно, не гонял с места на место, не преследовал. Они даже получали датские газеты. Правда и печать Дании не была свободна от гитлеровской цензуры, тем не менее в датской прессе содержалось больше сведений, чем в немецкой. Датчане не кичились своим происхождением и выполняя рабские повинности, не распевали под охраной своих палачей народные песни… Никто над датчанами не смеялся. Все их любили и уважали. У нас, литовцев были с ними наилучшие отношения. Когда датчане прибыли в Штутгоф, мы уже были старыми каторжниками, постигшими премудрости лагерной жизни, и оказывали им посильную помощь.
Позже датчане стали регулярно получать посылки от своего Красного Креста и не остались перед нами в долгу. Некоторые датчане чувствовали себя в нашем блоке как дома.
В 1944 году, в конце лета, в Штутгоф пригнали около двухсот французов в эсэсовской форме! У их соотечественников, давно пребывавших в лагере волосы дыбом встали (среди них были вполне приличные люди!). Старожилы немедленно заявили о своем полном отмежевании от новичков. Прибывшие только позорят имя француза, заявили они, мы с ними не желаем иметь ничего общего.
Приезжие действительно представляли собой хлам, собранный на задворках Франции. Французы-эсэсовцы прекрасно понимали, что в возрожденной отчизне им не будет места. Они и не желали ее возрождения. Для немецких властей их умонастроение не было тайной. Знала о нем и администрация лагеря. Вскоре новичкам предложили свободу с условием, что они пойдут добровольцами на фронт. Большинство согласилось и тут же уехало. Около тридцати человек все же отказались. Они остались в лагере и были сносными товарищами.
Осенью 1944 года в Штутгоф опять стали доставлять латышей. На сей раз в полной эсэсовской униформе. Ими командовали свои фельдфебели и офицеры. Они поселились все вместе, под присмотром эсэсовского полковника, избивавшего их, как собак. Опять над лагерем поплыло злополучное «дзимдзи-рим-дзим-дзим».
Эсэсовской униформы и надоедливого рефрена оказалось вполне достаточно для того, чтобы общественность лагеря прониклась предубеждением против новичков.
Стали пригонять в лагерь и группы эстонцев. Однажды начальнику блока чем-то не понравился новичок-эстонец. Недолго думая, он трахнул его как в таких случаях полагалось трахать новичков. Эстонец недоуменно потряс головой: он не знал что начальник блока – важная шишка. Новичок не пришел в восторг от вольности пана блокового. Он нахмурился.
– Часто на тебя такое находит? – спросил он начальника блока и слегка дал ему сдачи.
Пан блоковой, получив в морду пришел в замешательство. Он рухнул под стол, улегся и застонал: «Ой-ой». На помощь пану блоковому поспешил шрейбер. Эстонец размахнулся – рраз, и писарь последовал туда же. Примостился под боком у пана блокового и тоже завопил: «Ой-ой». Оказалось, что эстонец был боксером тяжелого веса. Он уложил все начальство блока, вплоть до кухонной прислуги. Выломав окно, начальник блока улизнул и привел подкрепление. Тогда эстонец забаррикадировался. Началась шумная баталия. Сыпались стекла, трещали стены, в щепки превращались столы и стулья. Эстонец продолжал единоборство с превосходящими силами противника. Битва сошла новичку не совсем гладко, но не он один был ранен… Потом в лагере его больше никто не задевал. Боксера уважали. С почтением относились ко всем эстонцам вообще.
Аналогичная история произошла в нашем блоке с одним спортсменом-богатырем. Напал на него начальник соседнего блока, профессионал-разбойник. Блоковой вздумал дать спортсмену табуреткой по голове. Богатырь не сдрейфил, отнял табуретку, отбросил ее в сторону, а самого пана блокового схватил намертво покрутил несколько раз в воздухе и швырнул в лужу, да еще несколько раз ткнул носом в грязь. С того времени пан блоковой преисполнился уважением к нашему блоку и стал нашим закадычным другом.
В лагере содержались также бельгийцы, люксембуржцы, англичане, американцы, румыны, греки, сербы, шведы, норвежцы, финны, была даже одна японка – откуда она взялась, бог ее знает.
Когда Зеленке, бичуя порядки царящие в Бухенвальде, жаловался, что там нет единства среди заключенных, Бублиц многозначительно говорил:
– Единство заключенных – вещь вредная и нежелательная. Они должны между собой грызться, иначе их не обуздаешь…
В нашем лагере теория Бублица полностью применялась на практике. Заключенные вечно грызлись между собой, держались обособленно. Их не объединяли ни цвет треугольника, ни национальность. Уголовник мог мирно ужиться с политическим заключенным, равно как бибельфоршер с гомосексуалистом. Национальные особенности тоже не играли никакой роли. Изредка вспыхивали драки между заключенными, но не по национальному признаку или по злому умыслу, а скорей всего для разнообразия.
Перманентной войны не было. В общем, кое-как уживались.
ОСОБЫЕ КАТОРЖНИКИ
Весной 1944 года от территории нашего лагеря отрезали большой участок болотистой опушки и стали возводить вокруг него каменную стену, такую, какую обычно строят вокруг тюрьмы.
– Что за чертовщина? – диву давались каменщики и продолжали класть кирпич. Можно было подумать, что в военные годы в Германии не могли найти другого применения строительному материалу.
Стройка была странная и непонятная. Возводили стену в авральном порядке. Она съедала весь кирпич. Все другие работы были приостановлены.
Вокруг Штутгофа тянулся забор из колючей проволоки, заряженной электричеством. В проемах маячили башенки, оснащенные сторожевыми пулеметами. Казалось, для охраны лагеря ничего больше и не нужно. Правда, с электричеством не раз получались конфузы.
Удрал как-то из лагеря один русский. Его поймали. Приволокли обратно. Поколотили.
– Как же ты, псина, через забор перебрался? – спросил у него Майер.
– Обыкновенно. Перелез у сторожевой будки – и все…
– Перелез через забор, заряженный электричеством? Брешешь голодранец!
– Не вру. Вот тут и перелез, у самой вышки.
– Ну-ка покажи, червивое отродье, как ты перелез под носом у часового. Не покажешь – пеняй на себя.
Русский показал. Он надел галоши, ловко перекатился как кот через забор и благополучно вернулся назад. Электричество на него никакого действия не оказало.
Начальство долго проклинало беглеца и забор. Потом оно отвело душу поставило, еще два-три ряда колючей проволоки. Вскоре после этого в лагерь возвращался с работы эсэсовец. Он был навеселе. То ли у него в глазах потемнело, то ли он сквозь туман не заметил проволоки, только – хвать ее рукой. Ток ударил эсэсовца и начал трясти. Пьяница вмиг протрезвел и заорал благим матом. Два других эсэсовца попытались вырвать собутыльника из крепких объятий проволоки, но где там. И их начало трясти!
Эсэсовцы дружно откалывали бешеную польку и орали во всю глотку.
Плясали они и вопили до тех пор, пока кто-то догадался сообщить монтерам. Ток выключили и спасенные, ругаясь поплелись домой. К сожалению, ни одного из них не убило. Электричество оказалось явно не на высоте.
Не доверяя электричеству, и начали, наверно в лагере строительство стены из красного кирпича. Впрочем точно не ручаюсь.
Но опять же снаружи вдоль новой стены, поставили несколько рядов колючей проволоки, пропустили по ней ток высокого напряжения, чтобы к стене никто не смел подступиться… Все-таки от электричества не рискнули отказаться окончательно…
Внутри заботливо огороженного участка начали строить бараки. Ясно было, что в них кто-то будет жить.
В лагере, казалось, собрали всех незаурядных преступников. Какие же черти поселятся по ту сторону забора?
Может в благородных целях нашей безопасности от нас изолируют часть матерых разбойников?
Таинственный участок со своими бараками получил название «Sonderslager» – лагерь особого назначения. Вскоре сюда доставили первые партии новоселов заключенных из других лагерей. Мы сгорали от любопытства: что же это за бандиты, которых надо так тщательно изолировать? может быть людоеды?
Новоселы, однако, оказались простыми смертными мужского пола средних лет довольно интеллигентного вида, одетыми в рабочие костюмы, какие обычно носят монтеры. Одежда чистая, из добротного сатина, хорошо сшитая. Стоят новички, выстроившись у забора, и молчат. Мы заговаривали с ними по-польски, по-чешски, по-французски, по-русски, но они не отвечали. Наконец один из них признался:
– Мы немцы.
– Немцы? – служащие нашей канцелярии разинули рты от удивления. – Кто вы такие за какие грехи попали в лагерь?
Das durfen wir nicht sagen. – Этого мы не можем сказать, сдержанно ответил новичок.
Мы закурили самокрутки и уставились на новоселов. Когда часовой отвернулся, новичок осмелел. – Дайте затянуться…
Das durfen wir nicht. – Этого мы не можем – отплатили мы ему за молчание.
В книгах обитатели лагеря особого назначения характеризовались как Haudegen – члены рыцарского ордена воинствующих бандитов. Их прислали из познаньского гестапо. Доставка была обставлена весьма таинственно: где-то по дороге их переодевали и привозили в полном обмундировании. В лагере всех вновь прибывших ждала строжайшая изоляция. К ним никого не подпускали и их не пускали никуда. Даже часовые-эсэсовцы не имели права отлучаться из зондерлагеря. Кормили таинственных арестантов отлично. Пищей их снабжала специальная кухня. Ни на какие работы «рыцарей» не назначали. Давали им книги – исключительно нацистское пропагандистское чтиво.
В середине лета в зондерлагере огородили проволокой и каменной стеной еще два участка. От него отпочковались два лагеря «особо-особого» назначения но с еще более строгой изоляцией! Бараки в них оборудовали, можно сказать просто роскошно с особыми удобствами. Постлали ковры. Поставили великолепную мебель, выдали белье первого сорта. Была построена даже специальная кухня. Кушанья готовились на месте. В бараках поселились целые семьи. Впоследствии выяснилось, что это были опальные гитлеровские генералы, общественные деятели и их многочисленные чада. К ним, в частности, относились семьи генералов Герделера, Вицлебена и других. Высказывалось предположение, что там живет и бывший владыка Венгрии, адмирал Хорти с семьей. Такое предположение имело некоторые основания. Заключенные видели, как везли их сундуки с гербами и коронами.
Однажды обитательница зондерлагеря призналась одному из любопытствовавших заключенных, что разглашение сведений о них карается смертной казнью.
При эвакуации лагеря вся эта публика была тайно и заблаговременно вывезена в неизвестном направлении.
После покушения на Гитлера в июле 1944 года в Штутгоф начала прибывать особенно интересная публика.
Однажды в лагерь привезли весь бывший сенат города Гданьска во главе с вице-президентом. Имеются в виду, разумеется, все оставшиеся в живых. Государственные мужи были либо немощные старики, либо пузатые немцы, последние могикане старых левых партий вроде партии центра, ухитрившиеся до сих пор быть на свободе.
В лагере они находились в несколько привилегированном положении. Работа для них была необязательна. Однако следует помнить, что шла вторая половина 1944 года. Подули новые ветры. Старая мощь Штутгофа поблекла, иссяк его каторжный дух. Чего уж хотеть если новички прибывшие в лагерь, по месяцу отсиживались в блоках, ничего не делая, отбывая якобы карантин! Разве мыслимы были раньше в лагере такие вещи?
Некоторые новички приобретали за четыре недели карантина необходимый опыт безделья, входили во вкус и потом по четыре месяца не появлялись на работе. А после четырех месяцев пойди проверь могут они еще работать или нет!.. Но и этого мало. Для новичков был введен медицинский осмотр. Доктор Гейдель решал является ли прибывший lagerfahig – годным для лагеря или нет. Иными словами говоря по плечу ли ему тяготы лагерной жизни. Так как Гейдель не находил времени для таких осмотров, то от его имени диагноз ставили врачи-заключенные. Узник давал оценку такому же как и он заключенному: годен ли он для несения лагерной службы.
Нет, нет! К осени 1944 года Штутгоф совершенно выродился.
НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ…
К каждому блоку был прикреплен эсэсовец – Blockfuhrer – какой-нибудь сержант или фельдфебель. Он являлся верховным попечителем и воспитателем заключенных. Среди наших духовных наставников попадались редкие экземпляры которые украсили бы собой любую скотоводческую выставку.
Возьмем например, фельдфебеля СС Иоганна Майера. Майер был правой рукой Хемница. Чтобы не спутать его с однофамильцем Траугогом Майером, узники прозвали Иоганна Konfektionsmayer или Anzugsmayer – Майер-конфекционист или Майер-костюмер. Он прославился как самый выдающийся вор арестантской одежды. У меня есть основания думать, что Майер свистнул и мою довоенную экипировку. Это он вместе с Леманом градом оплеух принес нам в свое время первые поздравления по случаю нашего благополучного прибытия в лагерь.
Спившийся, пресыщенный женщинами, одряхлевший в свои тридцать лет, почти полоумный, Майер был редкостным убийцей-любителем, бандитом-спортсменом. Ему доставлял удовольствие сам процесс истязания. К тому же он еще виртуозно ругался и всегда оценивал по достоинству ругань заключенных, даже если она произносилась по его адресу.
Однажды Францишек Дзегарчик спросил меня:
– Когда же ты, профессор снова начнешь читать лекции в университете?
– Что? Читать лекции в университете? – вмешался в разговор «конфекционист» – Никогда. Он у нас тут через трубу вылетит.
– Ну-ну, – отозвался я – посмотрим, господин шарфюрер, кто из нас вылетит скорее – вы или я.
– Хо-хо-хо – заржал Иоганн, довольный моим глупым ответом. Он был убежден, что я последний болван… Сейчас мне кажется, что и труба явилась бы для него слишком большой честью. Вряд ли нашелся бы где-нибудь на земле уголок даже для его пепла…
«Костюмер» Майер мог ни за что ни про что избить арестанта палкой, пырнуть ножом и тут же галантно обхватив стан своей жертвы, пуститься в бешеный пляс, сплясать эдакую сумасшедшую польку.
Где только ни появлялся «костюмер» там немедленно вспыхивали драки, слышались проклятия и вопли. Веселенький был безумец! Но Майер преображался когда в гости к нему приезжала жена с детьми. Тогда «костюмер» смахивал на цыпленка, проклюнувшего скорлупу и благополучно вылезшего из-под наседки. Он становился примерным главой семьи, трогательным папочкой. Стоило супруге убраться восвояси и снова одна соломенная вдовушка за другой проходили через его руки.
Однажды Хемниц обнаружил в своем рабочем кабинете новую, весьма любопытную директиву властей о предоставлении отпусков. В ней предписывалось отправлять эсэсовских молодчиков в отпуск с таким расчетом, чтобы они попадали к своим половинам в такое время, когда нет никаких видимых и невидимых помех для зачатия потомства.
– Хо-хо-хо, – заржал «костюмер», прочитав указ и похлопав Хемница по плечу. – Mensch, ich habe Kinderг schon zu viel! – Человече у меня и так слишком много детей. «Костюмер» явно преувеличивал свои способности. Он постоянно болел подозрительными болезнями: далеко ему было до высококачественного производителя, до отца многочисленного семейства.
Петерс – высокий мускулистый субъект. В лагере он побил все рекорды глупости и заслуженно носил титул чемпиона. Ни один эсэсовец не мог состязаться с ним в идиотизме. Перед войной Петерс таскал в Гданьске на четвертый этаж уголь, а в свободное время в темных переулках убедительно доказывал необходимость подать ему милостыню. Сейчас он был нашим воспитателем, фельдфебелем СС. Речи Петерса узники слушали без головного убора, застыв и вытянувшись в струнку. Не желая стаскивать шапку перед таким как Петерс, я две зимы ходил в лагере без головного убора. Попробуй, не сделай перед рекордсменом мира по идиотизму «Mutzen ab» – он тотчас свернет тебе челюсть. Петерс был самым энергичным и пронырливым шпионом в лагере. Он не останавливался ни перед какими подлостями, не имел самых элементарных понятий о совести и стыде. Никто иной, как Петерс устроил холодный душ несчастному пьянчужке Миллеру. Вспомните, какими благородными соображениями он руководствовался:
– Ты, гад, весь спирт вылакал, мне ни капли не оставил!
Само собой разумеется, если бы Миллер уступил ему половину, они напились бы оба, и необходимость в холодном душе отпала бы.
Петерс расхаживал по лагерю с таким видом как будто благодарил господа бога за то что ноздри у него, идиота смотрят вниз, а не вверх. В противном случае болван-рекордсмен не мог бы задирать нос перед каторжниками в дождливую погоду: вода потоками хлынула бы в глотку и он бы захлебнулся.
Особенно жестоко расправлялся Петерс с новичками. Когда начальство не видело, он колотил палкой по головам даже тяжело больных…
Петерсен был полной противоположностью Петерсу. До войны он жил на границе с Данией и фактически являлся онемеченным датчанином. В конце 1943 года Петерсен понял, какую глупость он сделал, вступив в ряды СС. Перспективы войны и его личная участь были ему ясны. Но путь к отступлению был отрезан. Петерсен старался поддерживать с заключенными, особенно с норвежцами и датчанами, самые лучшие отношения, надеясь на их, заступничество после войны. Он рассказывал нам последние новости, сообщал известия, передаваемые заграничным радио, которые в лагере были особенно ценны и которые он сам тайком слушал.
Фот – крупный плотный пятидесятилетний мужчина с рыжеватыми космами и сизым, посиневшим от самогона носом. У него было крепкое хозяйство недалеко от лагеря – прекрасные лошади и коровы, крупная жена и четверо детей. Он сбывал Штутгофу продукты собственного производства. Бизнес был, по его словам неплохой. Фот умел, не моргнув глазом, убивать и истязать и за это, видно, пользовался расположением начальства.
Впоследствии Фота прозвали королем евреек. Ведая еврейским блоком в Штутгофе, он прослыл необыкновенным храбрецом. Невзирая на строгость расовых законов и своей жены, он поддерживал интимные связи с представительницами блока. Но королем евреек Фота называли по другой причине. Он давал приказания кого из них отравить, кого замучить, кого временно пощадить то есть гнать на работу.
Клаван – ах, этот горе-Клаван! Настоящий погорелец!
Даже «костюмер» Майер утверждал, что у Клавана не все дома.
Родился он и рос в Эстонии, работал у какого-то барона – немца и ухитрился усвоить его мировоззрение и перенять манеры. Бывший бермонтовец, кавалер медали «Железной дивизии», Клаван считал себя выдающимся военачальником и героем. Как репатриант, он в годы войны получил вблизи Познани небольшую усадьбу, хозяин которой – поляк – был замучен в лагере.







