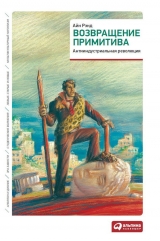
Текст книги "Возвращение примитива. Антииндустриальная революция"
Автор книги: Айн Рэнд
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Для остальных же граждан это предварительный просмотр на малом экране – в микрокосмосе научного мира – событий, которые могут ожидать в будущем всю страну, если сегодняшние культурные тенденции сохранятся без изменений.
То, что происходит в университетах, зеркально отображается в масштабах всего государства. Современная философия на практике породила смешанную экономическую модель с ее моральным нигилизмом, сиюминутным прагматизмом, безыдейной идеологией и поистине постыдным изобретением «консенсусного правления».
Правление групп влияния – это всего лишь прелюдия, подготовка общества к правлению толпы. Когда страна уже смирилась с уничтожением моральных принципов, прав личности, объективности, правосудия, разума и покорилась власти легализованной грубой силы, исключения понятия «легализации» тоже остается недолго ждать. Кто будет противиться этому и во имя чего?
Когда нравственность подменяется цифрами и ни один гражданин не может требовать соблюдения своих прав, зато любая партия может требовать всего, чего ей вздумается; когда единственная политика, которой можно ждать от властей, – это политика компромисса, а их единственная цель – сохранение имеющейся «стабильности» любой ценой, победителем становится тот, чьи требования оказываются наиболее несправедливыми и иррациональными; сама система способствует этому. Если бы в мире не существовало коммунистов или каких-нибудь других политических бандитов, такая система создала бы их сама.
Чем более чиновник предан политике компромисса, тем менее он способен чему-либо противостоять: в случае любой опасности его «инстинктивная» реакция и принцип действия – уступить, благодаря чему он становится легкой добычей.
Приняв в расчет эти соображения, мы увидим, что крайнюю степень простодушия и поверхностности проявили комментаторы, которые выражали удивление тем, что активисты студенческого движения избрали в качестве начального плацдарма для своих действий именно Беркли, а в качестве первой мишени – президента Керра, вопреки его репутации «либерала» и известного специалиста по урегулированию конфликтов. «Странно, но некоторые из менее опытных студенческих ораторов… пытались представить господина Керра нетерпимым и жестким администратором, – говорится в редакционной статье в The New York Times от 11 марта 1965 года. – Само собой, это выглядело совершенно нелепо, принимая во внимание то, как долго и отважно он боролся за университетские свободы и права студентов в непростой обстановке постоянного давления со стороны правых, которые всегда были крайне влиятельны в Калифорнии». Другие комментаторы рисуют мистера Керра невинной жертвой, оказавшейся между двух огней в схватке «консерваторов» попечительского совета и «либералов» преподавательского состава. Но ведь фактически и логически средний путь и не может вести ни к какому другому конечному пункту; так что совершенно ясно, что бунтовщики избрали Кларка Керра своей первой мишенью не вопреки, а благодаря его репутации.
А теперь попробуйте представить, что будет, если методику беспорядков в Беркли применить в национальном масштабе. Как бы фанатично ни верили адепты компромисса в то, что только с его помощью можно удовлетворить всех, на самом деле все происходит наоборот; компромисс приводит не к всеобщему счастью, а к всеобщему разочарованию; те, кто пытается стать всем для всех, оказывается никем ни для кого. Более того: если неправомерные требования оказались удовлетворены хотя бы частично, это придает требующим смелости идти дальше; если же справедливые требования остались хотя бы частично неудовлетворенными, пострадавший теряет решимость и желание бороться. Если целеустремленная, дисциплинированная партия сторонников тоталитарного правления решится бросить свои силы на ветхие развалины смешанной экономики, смело и открыто проповедуя принципы коллективизма, которые по молчаливому согласию уже давно приняты страной, то кто окажет ей сопротивление? Подавленное, деморализованное, озлобленное большинство продолжит пребывать в летаргическом безразличии, с которым оно встречает все происходящее в обществе. А многие встанут под знамена этой партии, вначале просто ради того, чтобы вырваться из бессмысленного круга разочарований, самовыразиться через протест – неважно, какого сорта, – удовлетворить подсознательную жажду любого действия, которое способно пробить брешь в удушающей безнадежности статус-кво.
Найдется ли хоть кто-то, кто ощутит нравственный подъем и готовность сражаться за «консенсус»? Был ли кто-нибудь готов до победного конца сражаться за правительство Керенского в России, или Веймарской республики в Германии, или за Национальное правительство в Китае?
Но как бы ни была деморализована и философски разоружена страна, для того, чтобы ее можно было заставить сменить частичную свободу на полноценную диктатуру, общество должно достичь определенной критической точки. В этом и состоял главный идеологический замысел лидеров студенческого восстания: подготовить страну к признанию силы как метода разрешения политических противоречий.
Взгляните на то, какие идеологические прецеденты стремились создать бунтовщики из Беркли: все они так или иначе были связаны с аннулированием прав и пропагандой насильственных действий. Все эти идеи выражались совершенно открыто, однако на их сущность не обратили должного внимания, и по большей части никакой реакции на них со стороны общественности не последовало.
Главной проблемой стала попытка заставить страну признать массовое гражданское неповиновение приемлемым и действенным инструментом политической деятельности. Эта попытка была далеко не первой, подобное многократно происходило в связи с движением за гражданские права. Но ситуации в прошлом существенно отличались от сегодняшней: негры действительно были жертвами легализованной несправедливости, и таким образом нарушение правопорядка было не столь категорически явным. Люди воспринимали его как метод борьбы за равноправие, а не как выступление против закона.
Гражданское неповиновение может быть в некоторых случаях оправданно – когда гражданин не соблюдает закон с целью довести дело до суда и создать прецедент. Подобные действия подразумевают уважительное отношение к правопорядку, а протест направлен исключительно на конкретный закон, несправедливость которого гражданин ищет возможность доказать. То же самое верно и в случае участия в деле группы граждан, если они берут на себя всю ответственность и весь риск и их действия никак не могут повлиять на других людей.
Но в цивилизованном обществе не может быть оправдан такой тип массового гражданского неповиновения, когда затрагиваются права других лиц, независимо от того, что является конечной целью нарушителей закона: благо или зло. Ничьи права не могут быть обеспечены за счет нарушения прав других. Массовое неповиновение – это подрыв самого понятия права: это вызов, который толпа бросает законности как таковой.
Насильственный захват чужой собственности или перекрытие государственных путей сообщения – настолько откровенное нарушение прав, что попытка оправдать подобные акции равносильна отрицанию морали. Гражданин не имеет права устраивать сидячую забастовку в доме или на рабочем месте человека, с которым он не согласен, и он не получает такого права, присоединившись к какой-нибудь группировке или партии. Гражданские права никак не связаны с количеством людей, и недопустимо как с точки зрения закона, так и с точки зрения нравственности, чтобы какая-то деятельность была запрещена отдельному гражданину, но разрешена толпе.
Толпа превосходит отдельного человека лишь в одном отношении – в обычной грубой физической силе. Смысл построения цивилизованного общества как раз и состоит в том, чтобы препятствовать разрешению социальных проблем путем применения физического насилия. Сторонники массовых актов неповиновения признают, что их цель – запугать противника. Общество, которое спокойно смотрит на устрашение как метод ведения дискуссии – физическое устрашение одних людей группой других, – не имеет морального права на существование как социальная структура, и его крах неизбежен и уже близок.
В политическом смысле акты массового гражданского неповиновения могут быть приемлемы лишь в качестве вступления к гражданской войне – в качестве заявления о полном крахе государственной политической системы. А наилучшей иллюстрацией сегодняшнего интеллектуального хаоса может послужить заявление одного «консервативного» калифорнийского чиновника, который поспешил сообщить, что осуждает беспорядки в Беркли, но признает гражданское неповиновение как достойную американскую традицию.
Если сущность актов гражданского неповиновения в контексте движения за гражданские права оказывается несколько размытой и в связи с этим отношение к ним государства не таким однозначным, то в случае сидячей забастовки на территории университета она становится вопиюще явной. Если университеты – которым положено быть оплотом разума, знаний, образования и цивилизации – можно заставить уступить грубой силе, то участь всей страны кажется предрешенной.
Чтобы людям было проще согласиться с применением силы, бунтовщики из Беркли придумали различать силу и насилие: сила, поясняют они, является приемлемой формой общественной деятельности, в то время как насилие – нет. Различие между этими понятиями они определяют таким образом: принуждение путем прямого физического взаимодействия – это «насилие», оно недопустимо; любая другая форма нарушения прав – это всего лишь «сила», которая представляет собой законный мирный метод коммуникации с противником.
К примеру, если бунтовщики занимают административное здание – это применение «силы»; а если полиция вытаскивает их оттуда – это «насилие». Когда Савио завладел микрофоном, которым не имел права воспользоваться, он применил «силу»; а когда полицейский попытался оттащить его от стойки, это был акт «насилия» с его стороны.
Попробуем представить, что будет, если люди начнут руководствоваться таким разграничением понятий при определении норм общественного поведения. Если однажды вечером вы приходите домой, обнаруживаете там незнакомца и отважно вышвыриваете его вон, то его действия представляют собой лишь мирный акт «силы», а вы будете обвинены в применении «насилия» и понесете за это наказание. Теоретический смысл этой исключительной нелепости в установлении моральной инверсии: в том, чтобы инициативу в применении силы считать моральной, а сопротивление силе – аморальным, то есть аннулировать право на самозащиту. Непосредственный же практический смысл заключается в поддержке деятельности политических проходимцев самого низкого пошиба – провокаторов, которые совершают акты насилия, а потом перекладывают вину на своих жертв.
Чтобы оправдать это жульническое разграничение, бунтовщики из Беркли попытались взамен отменить другое, вполне законное: между идеями и действиями. Они заявили, что свобода слова равнозначна свободе действия и что между ними нельзя провести четкой границы.
Например, если у них есть право защищать любые политические взгляды, заявляют они, они также имеют право устраивать на территории университета любые мероприятия, даже те, что являются противозаконными. Как выразился профессор Петерсен, они требовали права «на использование университета как убежища, откуда они могли бы совершать незаконные налеты на объекты за пределами его территории».
Разница между обменом идеями и обменом ударами очевидна. Граница между свободой слова и свободой действия определяется запретом на применение физической силы. Такая проблема может возникнуть лишь в том случае, если этот запрет аннулируется; однако, если аннулировать этот запрет, политическая свобода в любом виде станет абсолютно невозможной.
На первый взгляд может показаться, что «пакет требований» бунтовщиков должен послужить основой для дальнейшего расширения рамок свободы; однако фактически и логически результат оказывается прямо противоположным – злая шутка для тех неразумных юнцов, которые присоединились к движению ради «свободы слова». Если приравнять свободу выражения идей к свободе совершения преступлений, то очень скоро станет очевидно, что организованное общество не может существовать при таких условиях, и, следовательно, высказывать идеи будет трудно, а некоторые из них окажутся под полным запретом, аналогично преступным действиям.
На этот мотив указывают выдвинутое бунтовщиками требование неограниченной свободы слова на территории университета и ставшее его следствием «Движение за непристойные выражения».
Не может существовать такой вещи, как право на неограниченную свободу слова (или действия) на территории, находящейся в чьей-то чужой собственности. Тот факт, что университет в Беркли является собственностью государства, лишь осложняет дело, но ничего, по сути, не меняет. Собственниками государственного университета являются избиратели и налогоплательщики данного государства. Университетская администрация, назначенная (прямо или непрямо) избранным государственным чиновником, теоретически является представителем владельцев и должна действовать соответствующим образом, раз уж государственные университеты у нас существуют. (Должны ли они существовать – это уже другой вопрос.)
В любом предприятии или организации, состоящей более чем из одного человека, правила и приемлемые методы работы устанавливаются владельцем (или владельцами); остальные участники, если они с установленными правилами не согласны, имеют право идти на все четыре стороны и искать там правила, которые им подходят больше. Здесь нет места таким вещам, как поступки по собственной прихоти, как самовольное распоряжение данным предприятием (в частности, его территорией) во вред прочим его участникам.
Студенты, обучающиеся в университете, имеют право рассчитывать на то, что не будут выслушивать непристойности, за которые владелец бара среднего пошиба выбросил бы хулиганов на улицу. Правом определять, какие выражения можно употреблять на данной территории, обладает администрация университета – точно так же, как владелец бара в помещении своего предприятия.
Метод, который использовали калифорнийские активисты, характерен для сторонников тоталитаризма и заключается в том, чтобы, воспользовавшись преимуществами свободного общества, попытаться подорвать его же основы, продемонстрировав их мнимую «недейственность» – в данном случае «недейственность» права на свободу слова. Но то, что им удалось продемонстрировать на самом деле, максимально удалено от поставленной ими цели: они показали, что ни одно право не может быть применено без учета права собственности.
Лишь на базе прав собственности могут быть определена сфера применения любых личных прав в любой социальной ситуации. Без учета прав собственности невозможно разобраться и избежать хаоса в мире постоянно сталкивающихся интересов, взглядов, требований, стремлений и прихотей.
Администрация Беркли не могла адекватно отреагировать на действия бунтовщиков иначе, чем обратившись к правам собственности. Вполне понятно, почему ни современные «либералы», ни «консерваторы» не стали этого делать. Активисты студенческого движения воспользовались для достижения своих целей не противоречиями свободного общества, а противоречиями смешанной экономики.
А вот вопрос о том, какой политики следует придерживаться администрации государственного университета, не имеет ответа. У множества противоречий, связанных с понятием «общественной собственности», нет решений, особенно если эта собственность непосредственно связана с распространением идей. Именно это стало одной из причин, почему бунтовщики выбрали в качестве стартовой площадки для своего движения именно государственный университет.
Можно было бы устроить показательный процесс, связанный с тем, что государственный университет не имеет права запрещать пропаганду или распространение сведений о любых политических взглядах, например о коммунизме, поскольку часть владельцев-налогоплательщиков могут оказаться коммунистами. Но с тем же успехом можно было бы устроить показательный процесс, связанный с тем, что государственный университет не имеет права разрешать пропаганду или распространение сведений о любых политических взглядах, которые (как, например, коммунизм) представляют прямую угрозу собственности, свободе и жизни большинства владельцев-налогоплательщиков. В области идей неприменима власть большинства; личные убеждения не поддаются решению голосованием; однако ни отдельного человека, ни меньшинство, ни большинство нельзя заставлять поддерживать тех, кто хочет их уничтожения.
С одной стороны, государственное учреждение не имеет права запрещать высказывать какие-либо идеи. С другой стороны, государственное учреждение не имеет права предоставлять убежище, помощь или финансовую поддержку врагам государства (как это делали, например, сборщики средств в помощь Вьетконгу).
Источник этих противоречий лежит не в сущности прав личности, а в их нарушении институтом «общественной собственности», придуманным коллективистами.
Тем не менее решать эти вопросы следует в сфере конституционного права, а не на территории университетского городка. У бунтовщиков, как у студентов, нет в государственном университете каких-то особых прав по сравнению с университетом частным. Как налогоплательщики они также не обладают какими-то особыми правами по сравнению с миллионами других налогоплательщиков Калифорнии. Если они не согласны с политикой, проводимой попечительским советом, они не могут воздействовать на ситуацию никаким другим путем, кроме голосования на следующих выборах – если смогут набрать достаточное количество сторонников. Шанс на это весьма призрачен – и это хороший аргумент против «общественной собственности» любого вида. Но в любом случае это не тот вопрос, который решается насилием.
Важно здесь то, что бунтовщики – которые, мягко говоря, никак не относятся к защитникам частной собственности, – отказываются считаться с той стороной власти большинства, которая имеет отношение к общественной собственности. Именно против этого они выступают, когда говорят о том, что университеты стали придатками, обслуживающими «финансовую, индустриальную и военную элиту». Они пытаются аннулировать права именно этих конкретных групп налогоплательщиков (право иметь голос в управлении государственными университетами).
Если кому-то нужно доказательство того, что защитники общественной собственности стремятся не к «демократическому» управлению этой собственностью по решению большинства, а к управлению диктаторскому, – вот вам одно из вполне красноречивых доказательств.
Бунтовщики попытались применить новую вариацию на старую тему, которая уже долгие годы была в арсенале всех сторонников тоталитарно-коллективного правления: стереть различия между личными и правительственными действиями, приписав гражданам специфические нарушения, конституционно запрещенные для правительства, и таким образом уничтожив индивидуальные права, одновременно освобождая правительство от всяких ограничений. Наиболее часто встречающийся пример использования такого метода – обвинение частных лиц в «цензуре» (понятие, применимое только в отношении государства) и, таким образом, лишение их права на несогласие.
Новая вариация, придуманная бунтовщиками, состояла в протесте против так называемой двойной ответственности. Выглядело это так: если студенты совершают незаконные действия, они должны понести наказание согласно решению суда и не могут, таким образом, быть наказанными за те же проступки администрацией университета.
«Двойная ответственность» – понятие, применимое исключительно к государству, причем исключительно к одной ветви государственной власти – к правосудию, и только к определенным ее действиям: оно означает, что один человек не может быть дважды осужден за одно и то же преступление.
Приравнивать личные суждения и действия (или, как в данном случае, суждения и действия государственного чиновника) к судебному решению – более чем абсурдно. Это вопиющая попытка аннулировать право на моральные суждения и моральные действия. Это заявление о том, что нарушитель закона не должен нести гражданской ответственности за свое преступление.
Если такой подход применить полноценно, то люди не будут иметь права ни оценивать поступки других, ни действовать в соответствии со своими взглядами и ценностями. Они должны будут дожидаться, пока суд признает их виновными или невиновными, и даже в том случае, если вина будет доказана в суде, никто не будет иметь права изменить свое поведение по отношению к преступнику, и его наказание будет исключительно прерогативой государства.
К примеру, если банковский служащий будет признан виновным в хищении денег и отбудет назначенное ему судом наказание, банк не будет иметь права отказать ему в возвращении на ту же должность, потому что такой отказ означал бы «двойную ответственность».
Или другой пример: государственный служащий не будет иметь права следить за законностью действий своих подчиненных или устанавливать правила, а будет вынужден ждать, пока суд не признает, что кто-либо из них действительно нарушил закон, а затем принять нарушителя обратно на работу после отбытия наказания за злоупотребление служебным положением, взяточничество или государственную измену.
Идея морали как монополии государства (и конкретно одной ветви власти или части правительственной структуры) настолько откровенно является составляющей идеологии диктатуры, что приверженность ей бунтовщиков просто шокирует.
Требование бунтовщиков отдать управление университетами в руки студентов и преподавателей – это явное, открытое выступление против того же, против чего остальные их требования направлены скрытым образом: против частной собственности. Из всего разнообразия вариантов тоталитарно-коллективистских систем та, которую они выбрали в качестве своей цели, является наименее действенной с политико-экономической точки зрения; наименее устойчивой – с интеллектуальной; наиболее позорной – с моральной. Речь идет о гильдейском социализме.
Гильдейский социализм – это система, не позволяющая гражданину проявлять индивидуальные способности с помощью объединения людей в группы согласно направлению их профессиональной деятельности и передаче всей работы в полное ведение группы, с тем чтобы группа устанавливала правила, стандарты и методы выполнения работы, а также конкретных ее исполнителей.
Гильдейский социализм – это ментальность дикарей, поднятая до уровня общественной теории. Точно так же, как племя дикарей захватывает кусок территории джунглей и объявляет его своим на том основании, что оно здесь находится, гильдейский социализм устанавливает монополию – только уже не на лес или источник воды, а на завод или университет, руководствуясь не способностями, достижениями или даже «общественным долгом» человека, а исключительно фактом его нахождения в данном месте.
Подобно тому как у дикарей отсутствуют понятия причин и следствий, прошлого и будущего, а также понятие силы за исключением мускульной силы своего племени, так и гильдейские социалисты, обнаружив себя в центре индустриального общества, рассматривают его институты как явления природы и не видят причин, по которым какая-то группа не может захватить их.
Если существует какое-либо доказательство некомпетентности человека, то таким доказательством является застойное мышление рабочего (или профессора), который, выполняя какую-то мелкую рутинную работу в составе огромного предприятия, не заботится о том, чтобы заглянуть за пределы рычагов своего станка (или кафедры в лекционной аудитории), не желает знать, как его станок (или аудитория) очутились здесь или что дает ему возможность работать, и при этом объявляет руководство предприятия бесполезными паразитами. Управленческая работа – организация и интеграция человеческих усилий в осмысленную, масштабную, долговременную деятельность – это в сфере действия то же самое, что способность к концептуальному мышлению в сфере познания.
Можно считать, что самый прямой способ признать собственную посредственность – это готовность отдать свой труд в абсолютную власть группы, особенно группы коллег по роду деятельности. Из всех форм тирании эта – самая страшная; она направлена против единственного сугубо человеческого качества – разума и против единственного врага – новатора. По определению новатор – это человек, который покушается на традиционные методы своей профессии. Отдать профессиональную монополию любой группе – значит принести в жертву человеческие способности и уничтожить прогресс; защищать подобную монополию – значит признать, что тебе нечего принести в жертву.
Гильдейский социализм – это правление посредственности во имя посредственности. Его корни – в интеллектуальном коллапсе общества; его последствия – кошмар стагнации; его историческим примером может служить цеховая система Средневековья (или, в нашу эпоху, итальянское фашистское государство Муссолини).
Требование бунтовщиков предоставить управление университетами и выбор учебных программ студентам (и преподавателям) – совершенная нелепость. Если невежественный юнец приходит в образовательное учреждение ради того, чтобы получить знания в определенной области, то как может он сам определять, что ему требуется и чему его нужно учить? (В процессе обучения он может судить лишь о том, понятно или непонятно излагает материал преподаватель, логична ли его подача или противоречива; он не может сам выбирать содержание и методику курса, не обладая знанием предмета.) Совершенно очевидно, что студент, который требует права управлять университетом (или решать, кто будет им управлять), не обладает необходимыми для этого знаниями о концепции знания; его требование противоречит само себе и автоматически свидетельствует о его непригодности для данной деятельности. То же самое верно – только в этом случае груз морального прегрешения куда тяжелее – и в отношении профессора, который научил студента выдвигать такие требования и который поддерживает их.
Хотели бы вы лечиться в больнице, где методы лечения выбираются путем голосования среди врачей и пациентов?
Но в этом примере абсурдность просто более очевидна, чем в стандартном коллективистском требовании отдать рабочим власть над предприятиями, которые были созданы людьми, чьих достижений им никогда не понять и никогда не повторить. Основные философско-моральные предпосылки и принципы здесь совершенно идентичны: отказ от мышления уничтожает смысл реальности, что, в свою очередь, уничтожает смысл достижений, что уничтожает смысл различия между заработанным и незаработанным. Тогда непрофессионалы могут захватывать руководство заводами, невежды – руководство университетами, громилы – руководство научными лабораториями, – и в человеческом обществе не останется ничего, кроме власти произвола и кулака.
Гильдейский социализм – это более жестокая (но ничем не отличающаяся по сути), чем большинство прочих, тоталитарно-коллективистская теория, потому что именно он представляет другую, обычно остающуюся без внимания, сторону альтруизма: это голос не тех, кто дает, а тех, кто получает. В то время как большинство теоретиков альтруизма провозглашают в качестве оправдания «общественное благо», защищают служение «обществу» и ничего не говорят об истинной природе тех, кому именно приносятся жертвы, сторонники гильдейского социализма откровенно заявляют о том, что это они сами являются получателями благ, и предъявляют свои требования обществу, которое должно им служить. Они заявляют, что, если они хотят получить монополию на определенную профессию, прочие граждане лишаются права заниматься ею. Если они хотят получить университет, общество должно им его предоставить.
Если же, с точки зрения альтруистов, «эгоизм» означает принесение других в жертву себе, то мне бы очень хотелось, чтобы они привели мне более отвратительный пример этого, чем слова одного юного коллективиста из Беркли, который заявил: «Мы считаем, что любой университет состоит из преподавателей, студентов, книг и идей. В буквальном смысле администрация нужна лишь для того, чтобы обеспечивать чистоту дорожек. Она должна обслуживать преподавателей и студентов».
О чем же забыл в своем представлении об университете этот юноша? Кто платит зарплату преподавателям? Кто обеспечивает средствами к существованию студентов? Кто издает учебники? Кто строит учебные корпуса, библиотеки, общежития – и, кстати, дорожки?
Кто – помимо администрации университета – играет роль безгласной, бесправной «прислуги» и подметальщика дорожек для преподавателей и студентов? Нет, это не только те гениальные производители, которые создали материальные средства, благодаря которым существуют университеты, не только «акулы большого бизнеса», не только «финансовая, промышленная и военная элита», но и каждый налогоплательщик штата Калифорния. Это каждый человек, который трудится, чтобы жить, роскошно или скромно, каждый гражданин, который обеспечивает себе средства к существованию.
Посмотрите на сложность, иносказания, хитрости, извращения и интеллектуальную акробатику, исполняемую этими заявленными адвокатами стихийных чувств, и на идеологическую твердость тех активистов, которые заявляют, что у них нет никакой идеологии.
Первый раунд студенческих волнений прошел не слишком удачно. Несмотря на бесплатную рекламу в прессе, отношение к ним публики представляло собой смесь непонимания, безразличия и антагонизма. Безразличия – из-за уклончивой размытости журналистских репортажей, которые не приносили никакой пользы: люди не понимали, к чему это все, и не видели, о чем им стоит беспокоиться. Антагонизма – потому что американское общество до сих пор испытывает огромное уважение к университетам (к тому, чем они могли бы быть и должны бы быть, но на самом деле больше не являются) и потому что наполовину хвалебные, наполовину снисходительные банальности комментаторов насчет «юношеского идеализма» не смогли обелить того факта, что в университетских стенах стала применяться грубая физическая сила. Из-за этого у людей возникло смутное ощущение обеспокоенности, чувство неопределенного, опасливого осуждения.
Попытка бунтовщиков захватить другие кампусы также оказалась не слишком результативной. Этой весной еще слышались некие позорные заявления со стороны университетских руководителей, но никакой явной общественной симпатии заметно не было.








