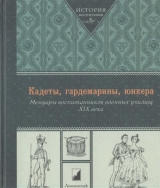
Текст книги "Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары воспитанников военных училищ XIX века"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
После утренней молитвы и завтра, состоявшего из булки и кружки сбитня, мы шли в классы, где и оставались от 9 до 12 часов.
В 12 часов выводили нас на внутренний дворик <…>, и начиналось фронтовое ученье, которое в неранжированной роте ограничивалось рекрутской школой, то есть стойкой, поворотами и учебными шагами. Ничего не было скучнее и несноснее, как эти ученья, особливо если кому-нибудь приходилось выходить на них с тощим желудком, о чем сужу потому, что мне иногда случалось бывать в таком положении. Помню, как однажды, – это было в свежий и ясный сентябрьский полдень – я стоял в шеренге и машинально повертывался по команде унтер-офицера У-мова то направо, то налево; оставленный в тот день за что-то без завтрака, я был голоден и думал только об одном: как бы дождаться обеда. Запах печеного картофеля, разносившийся по двору из открытых окон подвального этажа, где жили служители, усиливал мои мученья <…>.
После ученья мы обедали, потом до 3 часов были свободны, от 3 до 6 – вечерние классы, затем до 8 часов опять рекреация, потом ужин, перекличка по ротному списку, чтение приказа по корпусу, вечерняя молитва, и спать. <…>
Воскресные и праздничные дни проходили несколько иначе. Поутру, после завтрака, рота приходила в движение и снова начиналась неизбежная чистка: готовились к церковному параду, назначавшемуся на 9 часов. После церемониального марша, повзводно которым проходили мимо батальонного командира Святловского, мы отправлялись в церковь к обедне. <…> После обедни, если не было назначено развода, начальство наше расходилось, и мы в течение остального дня имели столько свободного времени, что, несмотря на всю нашу резвость, не знали, куда девать его. Набегавшись и наигравшись, некоторые группировались по уголкам и заводили речь о «страшном» или пересказывали друг другу предания о том времени, когда еще были только две роты, и чего-чего тут не рассказывалось! <…>
В 1835 году я отбыл первый лагерь, который устраивался у нас в полутора верстах от села Коломенского, при деревне Ногатиной. В лагерь выступали в половине июня. В день выступления кадеты с утра одевались в походную форму – в шинели и белые брюки, что нас, новичков, то есть в первый раз выступавших в лагерь, очень занимало. С этими шинелями шла возня до самого обеда; хотя они еще за неделю были на нас «пригнаны», но многие оставались недовольны пригонкой каптенармуса и теперь старались исправить то, что кому не нравилось. Заботились больше всего о том, чтобы шинель не казалась мешком, а сидела бы ловко, чтоб была видна талия, а назади все складки были бы собраны аккуратно. Все это достигалось посредством различных приспособлений – пересадки крючков, пуговиц, перешивки тесемок и проч.
Здесь я должен заметить, что солдатское щегольство это вызывалось отнюдь не требованием начальства, которое (надо отдать ему справедливость), наблюдая за чистотой и опрятностью, было далеко от таких тонкостей, за исключением разве одного Гросвальдта. У нас были судьи другие – некоторые из своих же товарищей, преимущественно те, которые были мастерами по фронту, «фронтовиками», и потому пользовавшиеся по своей специальности общим у нас авторитетом. Эти если, бывало, увидят на ком-нибудь завалившийся набок или на затылок кивер, или опустившуюся амуницию, или неподтянутый приклад, тотчас же скажут: «Эх ты, шмара!» И хоть никто не понимал, что такое шмара, однако ж не совсем равнодушно относились к такому прозвищу и всячески старались избегать его не только из ребяческого самолюбия, но и потому, что иметь во мнении фронтовика репутацию «шмары» было невыгодно. Им наравне с унтер-офицерами поручали на одиночном ученье обучать новичков, и если кто из последних казался фронтовику «шмарой», то такому уже нечего было ожидать снисхождения.
Вот пример. На первых порах, по переводе меня из неранжированной во 2-ю мушкетерскую роту, я был тоже «шмарой». Помню, однажды (дай как забыть это!) меня обучал стойке ефрейтор Д-сов 1-й; не привыкнув еще к тяжести ружья и простояв несколько минут «под приклад», я искривился и выпятил правый бок. Не догадался Д-сов дать мне отдохнуть, а заметил только, что я стою кренделем; само собой разумеется, что одно его замечание не могло распрямить мою фигуру. Что же Д-сов? Не говоря дурного слова, поднял свое ружье и двинул меня в бок прикладом. <…> Пусть извинит меня читатель, если я отрываюсь иногда от рассказа и вдаюсь, скажут, может быть, в мелочи. Но вот в том-то и дело, что это не мелочи, а крупные штрихи в картине тогдашнего нашего быта, затушевывать которые я не вижу никакой надобности. Возвращаюсь к рассказу.
Через час после обеда, который в этот день назначался несколько раньше, вокруг стен корпуса раздавался бой генерал-марша. Кадеты надевали походную амуницию, строились по батальонному расчету и выводились ротными командирами на большой двор, где уже стоял столик с водосвятной чашей и был в готовности священник с остальным причтом для служения напутственного молебствия перед выступлением «в поход».
Пока батальон выстраивался и равнялся, двор наполнялся многочисленной публикой, пестревшей разнообразными дамскими нарядами и зонтиками, что придавало всей сцене праздничный вид. Это были родители, родственники и знакомые, приехавшие проститься с детьми; были и просто зрители, каких обыкновенно во множестве видим на военных парадах. <…>
Но вот показывается знамя, раздается бой гвардейского похода, батальон отдает честь. Через несколько минут подходит директор. Снова команда: «На караул!», снова грохочут барабаны, гремит музыка. <…> Обойдя фронт, директор приказывает построить каре. Пока батальон перестраивается и исполняется команда: «На молитву – кивера долой», священник с диаконом надевают ризы, и дьячок раздувает кадило. Начинается молебен тихим, согласным пением причта: Царю Небесный…
Восемь лет сряду приходилось мне присутствовать при таком молебствии, и всякий раз умилительные слова: Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды– приводили меня в благоговейный восторг, создававший в воображении моем лик Небесной Заступницы. Чиста и светла молитва юности.
Молебен кончается, священник обходит фасы каре, кропит нас святой водой, и батальон снова развертывается в линию. Батальонный командир, младший штаб-офицер и адъютант садятся на лошадей; раздается команда: «По отделениям направо заходи», и потом: «Скорым шагом марш», – и мы под звуки горнов и грохот барабанов оставляем на два месяца Головинский дворец. Пестрая толпа сопровождает нас, кто в экипажах, кто пешком; по пути присоединяются босоногие мальчишки и другой праздный люд, группируясь преимущественно около музыкантов. <…> Музыка, игравшая во все время, пока мы шли в черте города, развлекала нас, <…> притом же по мостовой идти было гораздо удобнее, между тем как за Проломной заставой тотчас же начиналась грунтовая дорога, обдававшая нас облаками пыли, что при невыносимой вони от находившихся поблизости боен составляло истинное мучение, особливо когда погода стояла жаркая.
Под Симоновым монастырем батальон останавливался, ружья ставили в козла, снимали ранцы и делали привал. Тут нам раздавали по булке и по кружке сбитню, а кого провожали матушки и тетушки, те усаживались с ними угощаться лимонадом, чаем, молоком, пирожками, апельсинами и проч., у кого что было запасено. <…> После двухчасового отдыха дежурный барабанщик ударяет повестку, мы поднимаемся, надеваем ранцы, берем ружья и по бою «фельд-марш» идем дальше. <…>
Наконец, усталые и покрытые с ног до головы толстым слоем пыли, приходим в лагерь. В последний раз батальон выстраивается на батальонной линейке для отдания чести знамени, при относе его в палатку батальонного командира; затем разводят поротно, делают расчет по палаткам, а мы расползаемся по всему лагерю, как муравьи в муравейнике. Наибольшее скопление и движение замечалось в унтер-штабе: это позади лагеря, около палаток служителей. Там старались раздобыться водой, чтоб утолить жажду и умыться, а затем захватить побольше хворосту для устройства себе кроватей, потому что палатки отводились совершенно пустые.
Кровати были главной заботой в этот вечер, несмотря на усталость и желание отдыха. Долго еще после ужина возились мы с кольями, хворостом, соломой, подушками и все-таки проводили ночь кое-как; работа продолжалась и на другой день; а кто был поплоше да помешковатее, так у тех и на третий. По приходе в лагерь давали нам трехдневный отдых, и в эти-то три дня мы должны были окончательно устроиться в лагере.
Когда кровати были поделаны, начинались хлопоты об остальном хозяйстве: надо было достать где-нибудь кувшин, чтобы ходить за водой, припасти тертого кирпича для чистки медных вещей, отыскать какую-нибудь посудинку или просто черепок для ваксы и тому подобное. У кого были в Москве родные, тот заранее, перед выступлением в лагерь, запасался иголками, нитками, разного рода щетками и уж непременно складным садовым ножом, без которого в домашнем обиходе никак нельзя было обойтись.
К числу всех этих хозяйственных потребностей надо отнести также маленьких животных и птиц, которыми обзаводились кадеты преимущественно 2-й и 3-й рот.
Откуда что бралось: не успеешь прийти в лагерь, как появлялись кролики, морские свинки, щенки, прирученные галки, воробьи, молодые совы, коршуны и проч.
В палатку ставили по четыре человека – иногда по согласию, а то и просто по назначению фельдфебеля; в последнем случае малознакомых товарищей общая нужда и взаимные услуги иногда так тесно сближали в течение двухмесячной лагерной стоянки, что приязнь и дружба оставались на все время пребывания в корпусе. Самыми несчастными были те, которым приходилось стоять с унтер-офицерами: и воды ему принеси, и пуговицы вычисти, и туда сходи, и сюда; а попробуй не послушаться!..
В год, когда мне пришлось в первый раз отбывать лагерное время, житье было суровое. Умывальников не было – ставили по два ушата с водой и ковшами; а так как для целой роты такой способ умыванья был слишком медлен, то приходилось самим ходить за водой и помогать друг другу умываться. Обедали под открытым небом из деревянных чашек и деревянными ложками, без вилок и ножей. В палатках во время жары духота, а при дожде – сырость, от которой не спасали никакие приспособления: ни подшиваемые наверх простыни, ни канавки, ни валики вокруг палаток.
Место для лагеря было выбрано чрезвычайно неудачно – кругом почти везде песок и ни одного деревца, ни одного кустика, которые разнообразили бы эту «сахару». Помню, что как-то, гуляя однажды по плацу и собирая на нем камешки, заметил я в стороне небольшую лужайку, которая посреди тощих песков красиво выдавалась и бросалась в глаза своей растительностью. Понравилось мне это местечко, и я любил ходить туда, сиживал там один-одинешенек по часу и более. Присматриваясь к неправильным очертаниям краев лужайки, я уподобил ее не оазису, а острову, которому дал какое-то название, а себя воображал <капитаном> Куком. Фантазия моя так развернулась, что я однажды пришел туда с бумагой и карандашом, чтобы описать свой остров; но ничего из этого не вышло: оказалось, что гор на нем не было, так же как и замечательных заливов – так, разве бухточки небольшие. Произведения трех царств природы тоже не отличались особенным богатством и разнообразием: щавель, тмин, розовая кашка, из которой можно было высасывать мед, и еще какая-то трава с желтыми цветами, которой стебли имели острый вкус, отчего и называли ее дикой редькой, – вот все, что было из царства прозябаемого; кузнечики, стрекозы, шмели, пчелы и божьи коровки разных цветов – из царства животных, а ископаемые ограничивались окаменелостями и кремнями, к которым я присоединил еще простые обыкновенные речные раковины и ракушки, находимые по песчаным берегам. Хотя географическая наука не обогатилась описанием открытого мной острова, но он все-таки казался мне самым приятным уголком во всем лагере.
Впоследствии, когда лагерь перевели из Ногатина в Коломенское, все переменилось. Приходя из Москвы, мы находили просторные и хорошо устроенные шатры, в которых помещалось по целому взводу; были устроены кровати, рукомойники и навес над столами; появились тарелки, ножи, вилки и другие удобства; но в 1835 году все было так, как я сказал выше.
После трех дней отдыха начинались лагерные занятия. Вставали мы в 6 часов, а в 7 были уже на ученьях, которые в первую половину лагеря бывали одиночные, шереножные и ротные, а во вторую большей частью батальонные. Какое бы ни шло ученье, Святловский всегда бывал на плацу, зорко и строго следил за наукой. «Чему не научимся теперь, тому уж поздно будет учиться зимой», – обыкновенно говаривал он, и нас учили; а притом, в силу русской поговорки, что за битого двух небитых дают, пороли. Ученье продолжалось два часа, после того развод, ординарцы и топографическая съемка; в час обед, до 6 часов отдых, от 6 до 8 опять ученье, потом ужин, в 9 заря, и в 10 ложились спать.
Когда перешли в Коломенское, то распределение времени было изменено. Так, например, после утреннего ученья, кто не участвовал в разводе, тех посылали на гимнастику, после которой всех усаживали в столовой за книги, чтобы повторить пройденное в минувшем курсе и подготовиться к будущему. Предметы для занятий были необязательны, кто чем хотел, тем и занимался: историей, географией, математикой, но больше всего занимались русским языком, то есть, ничего не делая, болтали всякий вздор. Да правду сказать, могли ли идти в голову занятия мальчикам, путем не выспавшимся, утомившимся и проголодавшимся после разных экзерциций, да еще в полуденную пору, хоть бы и под навесом? С обеда до 4 часов давали отдых и в Коломенском, но он нередко уходил на разборку и чистку ружей, амуничной меди и проч. С 4 часов кадет старших возрастов занимали стрельбой в цель, приемами при артиллерийских орудиях, работами в артиллерийской лаборатории и разбивкой какого-нибудь полевого укрепления.
Каждое воскресенье и праздник, когда кадеты освобождались от обыкновенных ежедневных занятий, назначался утром церковный парад, после которого батальон отправлялся в Коломенское, в церковь Казанской Божией Матери к обедне. Возвратясь в лагерь, мы освобождались на весь день и проводили время, кто как знал. Развлечений нам и здесь никаких не делали; по крайней мере ничто не давало заметить, чтобы начальство об этом заботилось, а между тем у нас под боком были Коломенское и Царицыно с их дворцами и садами. Из черты лагеря никуда, бывало, ни на шаг, разве только на купанье поведут; это было единственным нашим развлечением, да и то с горем пополам. До Москвы-реки надо было пройти версты полторы; пока удовольствие впереди, идешь бодро и весело, а поведут назад, опять раскиснешь, как будто и не купался. <…>
Поневоле, бывало, слоняешься по лагерю, не находя себе дела и ища развлечения в каких-нибудь шалостях и школьных выходках. Так, я помню, <…> случалось, что от скуки, от безделья сойдутся двое-трое и уговорятся идти на «фуражировку» за огурцами на крестьянские огороды. Мужикам не жаль было огурцов, но досадно было разоренье и притаптывание гряд, что неминуемо случалось, потому что «фуражирам» второпях некогда было рассуждать, что огурцов они возьмут на грош, а попортят на рубль. Иногда охотникам до огурцов удавались их экспедиции, а иногда и нет. Увидит их какая-нибудь баба, работающая в грядках, и закричит раскатистым голосом: «Ах вы, разбойники, да что ж это вы делаете?!» Сломя голову, бегут в лагерь хищники и нередко натыкаются на кого-нибудь из начальства. Улика налицо, и запираться трудно, и вот «фуражиры» остаются не только без огурцов и редьки, но и без обеда, а подчас бывало и хуже.
Грубы и жестоки были наши нравы в первой половине 1830-х годов. Помню, что однажды, под вечер, чуть ли не в какой-то праздник (вероятно, для того, чтобы на другой день не отнимать времени от ученья), на площадку, находившуюся между палатками, стали сводить роты, а когда все заняли свои места и водворилась общая тишина, Святловский приказал исправлявшему должность адъютанта поручику Денисову прочесть приказ Статковского, из которого узнали, что двое из кадет старших рот уговорили служителя принести им штоф водки и роспили его.Не знаю, почему последние слова обратили на себя особенное наше внимание, и мы, подражая голосу Денисова, повторяли потом: «и роспили его». Виновных наказали вслед за чтением приказа, но отчего им пришла эта блажь в голову? <…>
Так проводили мы время в лагере. Чистый воздух был, кажется, единственным благом, которым пользовалась наша юность. <…> В последних числах июля директор делал батальону смотр, поверял, чему научились в лагере, и затем начинались толки о возвращении в Москву. В первых числах августа мы выступали из лагеря, а в половине месяца начинался новый курс.
Статковский часто ходил по классам, присматривался и прислушивался к учителям и внимательно следил за ответами кадет, спрашиваемых в его присутствии; вообще, к умственному образованию воспитанников он относился весьма серьезно. Ни при одном из директоров леность и «неуспешность» в науках не преследовались так настойчиво и так строго, как при нем, даже, можно сказать, чересчур строго. <…>
Особенную услугу Московскому корпусу оказал Статковский приглашением способных и сведущих преподавателей, в которых тогда был крайний недостаток. <…> Большая часть преподавателей в первой половине 30-х годов были свои же офицеры, бывшие воспитанники кадетских корпусов Александровского царствования, между которыми если и встречались некоторые с основательными сведениями, то разве только по математике, а между тем, кроме Закона Божия, физики, химии, не было предмета, за преподавание которого они не брались бы. Нечего и говорить, что ученость их была весьма сомнительна, почему и выезжали они на щелчках да на толчках. Поверки познаниям и учительским способностям их тогда никакой не было, а потому попасть в преподаватели было очень легко – была бы только охота <…>. Впрочем, и то сказать, само высшее начальство на жалованье, выдаваемое корпусным офицерам за преподавание наук, смотрело как на «сердобольное пособие».
В 1836 году было высочайше утверждено «Положение о службе по учебной части в военно-учебных заведениях». Положение это <…> имело громадное влияние на учебную часть в кадетских корпусах. Действительно, служба учителей была поставлена в такие выгодные условия, что могла привлекать на эти должности людей вполне достойных, опытом доказавших свои познания и способности. Этим воспользовался Статковский <…>.
С особенной признательностью вспоминаю я об одном из своих учителей того времени – Михаиле Ивановиче Хоткевиче. Это был первый учитель, у которого мне пришлось учиться географии. Ему обязан я, что такой, по-видимому, сухой предмет на первых же порах не опротивел мне, как это случается с некоторыми; напротив, география показалась мне предметом весьма любопытным, и я полюбил ее. <…> Штатские учителя были вообще гуманнее и учтивее…
А. К. Воспоминания московского кадета// Русский архив. 1879. Кн. 2. №7. С. 304–326; 1880.
Кн. 1. № 2. С. 449–473; 1882. № 2. С. 358–376.
П. П. Карцов
Из воспоминаний
Новгородский кадетский корпус. 1833–1839 годы
По воле и непосредственным указаниям императора Николая I в начале 1830 года был составлен проект учреждения губернских кадетских корпусов. Цель этой меры состояла в доставлении возможности малолетним дворянам различных губерний воспитываться для военной службы вблизи их семейств и родителей. <…> Первым губернским корпусом, основанным согласно высочайше утвержденного проекта и получившим прочное, самостоятельное устройство, должен считаться Новгородский кадетский корпус.
Основание его было ускорено тем, что генерал от артиллерии граф А. А. Аракчеев в 1833 году внес в Сохранную казну 300 тысяч рублей ассигнациями с тем, чтобы на проценты с этого капитала воспитывалось в Новгородском корпусе 17 кадет, уроженцев Новгородской и Тверской губерний. <…> Штат корпуса был утвержден на 400 кадет, но довести его до комплекта предполагалось в течение четырех лет, то есть к концу 1837 года, принимая ежегодно по 100 кандидатов. Это было сделано с той целью, чтобы директор мог приготовить все обзаведение исподволь, с осмотрительностью, не спеша с определением чиновников и учителей. По этому же поводу были составлены главным начальником Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка <великим князем Михаилом Павловичем> правила для постепенного приема кадет. Они были утверждены государем.
Хотя на основании этих правил все приемы были назначены в январе месяце, но кандидатов привозили в течение всего года и, не стесняясь их познаниями, принимали всех без исключения. <…> К 15 марта 1834 года [21]21
15 марта 1834 г. – день официального открытия Новгородского кадетского корпуса в присутствии великого князя Михаила Павловича и графа А. А. Аракчеева. – Примеч. сост.
[Закрыть]было уже налицо 69 кадет. В продолжении 2 ½ месяцев, то есть с 1 января по 15 марта, нам уже успели придать военную осанку и настолько подготовить к встрече гостей, что мы показались достаточно выправленными и умеющими отвечать по-военному. Для этого обучения кроме своих офицеров было взято несколько унтер-офицеров учебного полка. Вообще, этот полк оказывал зарождающемуся корпусу полное во всем содействие <…>.
В первые три месяца по открытии корпуса классные занятия не были еще вполне регулированы. Кадеты находились в классах всего от 7 до 9 часов утра и от 3 до 5 после обеда. Остальное время употреблялось на обучение фронту, сигналам, общему пению и танцеванию. Эти занятия официально назывались тогда обучением приятным искусствам.
С наступлением весны жизнь кадет несколько оживилась. В свободное время их выпускали для прогулки и игр в небольшой сад, находившийся между корпусными флигелями и манежем. Там были поставлены качели, столб для гигантских шагов и гимнастические машины. Игры, существовавшие в других корпусах, весьма скоро ввелись и в новом: городки, лапта, большие пузырчатые мячи, подбрасывать которые ногой выучил кадет учитель рисования <Николай Николаевич> Аберда, – все это сделалось любимым препровождением времени. Немалое развлечение доставляли кадетам ученья учебного карабинерского полка, проводившиеся на корпусном плацу. Особенно интересовали ученья с порохом и церемониальный марш под превосходный хор полковой музыки. Иногда командир полка < флигель-адъютант полковник Бибиков> приказывал ему играть в саду собственно для кадет. Случалось, что вслед за полком пристраивали кадетскую роту, чтобы пропустить ее под музыку, что производило общую радость.
В первый же год существования корпуса обнаружилось, что избранная для него местность имеет много неудобств для служащих в нем. Отсутствие малейшего признака торговли заставляло за всякой мелочью домашнего быта ждать случая посылки за 28 верст в Новгород.
Но неудобство, испытываемое служащими, с лихвою окупалось той пользой, которую представляло уединение корпуса воспитанию и образованию кадет. Долго в нем держались те патриархальные, семейные отношения кадет к офицеру и учителю, которые нравственно влияли на юношей гораздо более, чем официальные методы и правила. Долго новгородские кадеты были чужды тем привычкам и шалостям, которые получили гражданство в столичных корпусах. С другой стороны, те же офицеры и учителя, не имея ни посторонних знакомств и занятий, не имея никаких развлечений, находили его единственно в стенах заведения. Всякая свободная минута проводилась ими среди кадет, где бы они ни были, и приносила пользу, потому что кадеты видели в своих офицерах и учителях людей нравственных, преданных долгу, желающих не только по обязанности, но и по любви к ним даже в частных разговорах и беседах принести пользу и словом, и примером. Входя в возраст, кадеты, конечно, не могли не замечать в этих людях некоторых недостатков или смешных сторон, не могли воздержаться от рассматривания той или другой странности. Столь сродная юношескому возрасту насмешка высказывалась или гласно, или в виде письменной сатиры, но никогда не имела характера ненависти и озлобления. Кадеты в большинстве любили и уважали офицеров и учителей первого состава.
В следующем 1835 году корпус был впервые осчастливлен посещением государя Николая I вместе с великим князем Михаилом Павловичем. Это было 27 апреля, в ясный весенний день, между двумя и тремя часами дня. Государя ожидали с утра; <…> с полудня стоял почетный караул от учебного полка и при нем съехавшиеся из окрестностей генералы. Все это возбуждало детское любопытство кадет, которых своевременно повели к обеду, во время которого прискакал передовой фельдъегерь. Кадеты моментально разбежались по камерам и стали у своих кроватей, где пришлось прождать полчаса. Несмотря на запрещение никому не выглядывать в коридор, находились смельчаки, взбиравшиеся при малейшем шуме на высокие подоконники в надежде первыми взглянуть на царя. Само собой разумеется, что в этот день чистота камер была доведена до совершенства. Кадеты в новых с иголочки куртках, белые как снег с пунцовыми каймами одеяла, чистые и разглаженные чехлы на изголовьях, полы, налощенные как зеркало, – все это придавало праздничный вид заведению. В ожидании прибытия государя то один, то другой из начальства входил в камеры с различными торопливыми подтверждениями и приказаниями. Офицеры в своих отделениях то репетировали, как отвечать государю, то поверяли выправку; одному приказывали еще раз пригладить волосы, другому обтянуть куртку, третьему показать, чист ли у него платок, и т. п.
Наконец, сначала отдаленный, а потом все ближе и яснее слышный шум нескольких экипажей прекратил ожидание. Передовая коляска остановилась у корпусного крыльца. В ней государь с великим князем <Михаилом Павловичем>. Они вместе вошли в камеру 1-го отделения. Прежде чем поздороваться, Его Величество окинул взглядом кадет; они, казалось, затаили дыхание от желания услышать его голос, поймать его взгляд. Кто испытывал на себе этот магический взгляд, тот поймет значение этих слов и не припишет сказанным для фразы.
Государь появился веселым, с отражением удовольствия на лице. Первыми словами были: «Здравствуйте, дети!» Кадеты радостно и дружно ответили. Проходя в следующую спальню, Его Величество обратил внимание на налощенный пол и не прошел, а прошаркнул по нему как по льду, оставляя на полу след от запыленных на дороге сапог. «Вы так не катайтесь, – сказал он, обращаясь к кадетам, и затем, указывая на директора <генерал-майора Александра Ивановича> Бородина, прибавил: – А то он рассердится».
В третьей камере государь похвалил выправку, говоря: «Они стоят молодцами, не хуже петербургских», – останавливался, спрашивал фамилии, где служил отец, привык ли в корпусе и проч. У некоторых кроватей император отодвигал подушки или отдергивал одеяла, чтобы видеть чистоту белья и качество тюфяков. <…>
Сразу после обеда поданы были дорожные экипажи. Кадетам дозволено было выйти к подъезду; они окружили коляску государя. Садясь в нее, Его Величество благодарил директора за здоровый вид мальчиков, за их выправку и порядок в корпусе и затем, сказав: «До свидания, дети!» – уехал. <…>
С увеличением числа кадет, офицеров и учителей внутренняя жизнь с каждым годом делалась несколько разнообразнее и веселее. В ротах явились желающие учиться музыке на различных инструментах, для чего кадеты на свой счет нанимали учителей из музыкантов учебного полка. <…> Кроме того, к весне 1836 года образовался очень порядочный хор певчих <…>.
Еще большее участие воспитателей того времени к кадету доказывает то, что семейные офицеры и многие учителя по праздникам брали лучших учеников к себе в отпуск сразу после обедни и оставляли до вечерней зари. Не семейные же <…> почти каждое воскресенье приходили к кадетам: одни – прочесть вслух что-либо интересное и забавно-поучительное, другие собирали человек по пятнадцати и более и, с разрешения директора, отправлялись с ними гулять по берегу реки или в лес. В хорошую погоду подобные чтения и рассказы происходили в саду, где собравшаяся группа садилась в кружок на траву, с учителем в середине и с жадностью слушала его. Прогулки в лес или в деревню особенно любили <учителя> Нюккер и Нот. Дорогою кадеты, кто как умел, болтали с ними по-французски или по-немецки, слушали рассказы о заграничной жизни, бегали взапуски, прыгали через канавы, собирали полевые цветы и незаметно уходили от корпуса верст за восемь в какую-нибудь деревню, где обыкновенно делали привал. Тут учитель покупал несколько крынков молока и несколько фунтов черного хлеба и угощал своих спутников, с которыми в том же непринужденном порядке возвращался к ужину в корпус. <…>
В начале 1837 года директор Бородин заболел; в феврале он уже не выходил, а в марте просил уволить его от должности, почему и был отчислен состоять по военно-учебным заведениям. Это была утрата незаменимая. В какой мере Александр Иванович Бородин честно и добросовестно трудился для корпуса, как он искренно любил кадет, видно из последнего, прощального его приказа, отданного 16 марта 1837 года. Приводим из него извлечения.
«Крайне болезненное состояние заставило меня преждевременно расстаться с заведением, устройство которого было доверено мне монархом. Осчастливленный таким поручением государя императора, я ревностно, сколько сил моих было, старался доставить новому корпусу все необходимое для прочного устройства, ввести неизменный порядок, установить направление и ход воспитания детей и указать образ действий их начальникам. Я не смею и не должен все это приписывать себе одному. В душе моей навсегда сохранится признательная память о моих сотрудниках, разделявших труды общего нашего святого дела.
Любезные дети! По чувствам моим к вам и по любви, которые легче сознавать, чем высказать, тяжело мне расставаться с вами. Доброй своей волей и неуклонным стремлением к утверждению себе чести, наконец исполнением в точности делаемых вам ближайшими начальниками наставлений, вы каждого заставили полюбить себя душевно.
Простите мне, дети, что я не в состоянии прийти к вам, поблагодарить вас, побеседовать с вами, быть может в последний раз. Тяжкая болезнь, несмотря на все мое желание, не позволяет мне исполнить это. Чувствую, что я не в состоянии был бы перенести прискорбного для себя расставания с вами. Примите через этот приказ мое заочное прощанье и запечатлейте в сердцах ваших немногие слова, которые в последний раз и навсегда завещаю вам. Умоляю вас, друзья мои, дорогие моему сердцу кадеты! Будьте всегда такими же добрыми, честными и благородными, какими вы были при мне; будьте внимательны к вашим начальникам и наставникам, принимайте сердцем и исполняйте в точности все вам внушаемое; будьте прилежны к наукам, благородны и честны в поступках не по наружности одной, а по искренности душевных чувств, по сознанию чистой совести. Помните, что с юности вы должны приучать себя к неуклонному исполнению и дисциплине, дабы впоследствии быть полезными себе и отечеству и соделаться верными и достойными слугами своего государя!»






![Книга Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк] автора Олег Хазин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pazhi-kadety-yunkera-istoricheskiy-ocherk-256253.jpg)

