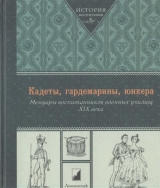
Текст книги "Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары воспитанников военных училищ XIX века"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Главными предметами, на которые обращалось особое внимание директора и которые читались от низших до первого верхнего класса, были: математика, история и география, а также языки русский, французский и немецкий с их синтаксисом и краткой историей литературы. Независимо от этого в четырех верхних классах преподавались артиллерия, полевая и долговременная фортификация, физика с химией, и сверх того, исключительно в первом верхнем классе, читалась история военного искусства. <…>
Чтобы достигнуть воинственной выправки и осанки, уметь хорошо делать ружейные приемы, уметь стройно маршировать в ногу, в особенности на руку дистанции, как обыкновенно проходили мимо царя на разводах, нужно было немало времени. А потому, начиная с неранжированной роты, в продолжение всей зимы, с 11 часов до половины первого, а иной раз и по вечерам, производились одиночные и шереночные ученья. Перед парадами же и выступлением в лагерь сначала делались ротные ученья, а потом сводился батальон для церемониального марша и разных построений. Батальонные учения производились во время холода и дождя в корпусном манеже, а в теплую и хорошую погоду – на корпусном плацу, входившем в состав огромного сада, в котором кадеты проводили в разных играх все свободное время от классных и строевых занятий. На этот плац собирались и другие военно-учебные заведения для общего церемониального марша и учений, что делалось, по преимуществу, перед выступлением в лагерь.
Фронтовое образование не требовало такого неусыпного наблюдения и побуждения, как научное. Каждый кадет второй и третьей рот, если он не был кривоножка или слабосильный, сам старался поскорее быть «фронтовиком», то есть попасть в строевой состав роты, потому что с того времени он приобретал право ходить на парады и в лагерь. <…> А это возбуждало немалое соревнование между кадетами этих рот, пожалуй, через это возбуждалась и зависть между ними. <…>
Еще сильнее волновались кадетские страсти вне стен корпуса, когда происходило состязание между военно-учебными заведениями в присутствии царя. Это состязание происходило в Петергофе, где, начиная с 1828 года, все корпуса [18]18
Петергофский кадетский лагерь составляли 1-й, 2-й и Павловский корпуса, сводный батальон из пеших юнкеров Школы гвардейских подпрапорщиков, воспитанников Пажеского корпуса и кондукторов Инженерного училища и два батальона Дворянского полка. Для линейного учения эти шесть батальонов делились на два полка. Сверх того в состав кадетского отряда входили: дивизион кавалерии, состоявший из Школы гвардейских подпрапорщиков, и дивизион орудий юнкеров Артиллерийского училища. – Примеч. М. Ольшевского.
[Закрыть]с половины июня до начала августа жили в палатках; каковое блаженное время для кадет я и намерен описать с некоторою подробностью.
С 1 июня изменялся, в некоторых отношениях, образ жизни кадет. Уже не раздавался ни по утрам, ни в два часа пополудни барабанный бой, сзывавший кадет в классы. С 1 июня классы закрывались, и место научного образования заступало фронтовое. С утра до вечера кадеты были заняты ротным и батальонным ученьем, а также пригонкой одежды и амуниции. На то и другое обращалось особенное внимание со стороны ротных командиров по той главной причине, что с выпуском в офицеры изменялся состав рот [19]19
Кадеты выпускались в офицеры по окончании экзамена в конце апреля или в мае. Годовые, переводные или выпускные экзамены начинались обыкновенно в марте и более месяца продолжались. Несмотря на такой короткий срок, экзамены производились основательно: 1) потому что они производились одновременно несколькими комиссиями, составлявшимися из преподавателей тех классов, в которых не было экзаменов, ратных командиров и дежурных офицеров, и 2) по той простой причине, что они производились без перерыва или отдыха на приготовление, <…> притом иные экзамены продолжались по утрам до обеда, а по вечерам до ужина. Директор корпуса и инспектор классов избирали экзаменующиеся классы по своему усмотрению и по важности предмета. – Примеч. М. Ольшевского.
[Закрыть]. Кроме ранжира и других мелочей, нужно было согласовать ружейные приемы и уравнять шаг. Кроме обновления и пригонки новой мундирной одежды, нужно было пригнать патронные сумы с перевязями, ранцы и лагерные кивера. Особенная деятельность в это время проявлялась между ротными командирами гренадерской и первой рот, которые изменялись в своем строевом составе почти наполовину.
Но с 1831 года для ротного командира гренадерской роты, которым был в то время подполковник Сивербрик, явилась новая, ни с чем не сравнимая забота – это блюсти за августейшим гренадером. В этом году государь император осчастливил корпус двумя высокими милостями: назначением себя, по кончине своего брата Константина Павловича, «шефом корпуса» и приказанием старшему сыну своему находиться в рядах гренадеров в продолжение лагерного времени и нести одинаковую службу с кадетами. Поэтому наследник всероссийского престола являлся с пунктуальной точностью в сопровождении своего воспитателя генерал-адъютанта <Карла Карловича> Мердера на все время ученья, совершал с кадетами походы, маневрировал с ними, стоял на аванпостах, проводил ночи на бивуаках. Несмотря на то, что прошло полустолетие, но я ясно представляю себе тот бивуак, когда, после утомительного перехода усталый цесаревич спал на соломе среди кадет, а престарелый его дядька дремал, сидя на складном стуле, под деревом, в нескольких шагах от своего августейшего питомца.
Да и сколько других благоговейных воспоминаний воскресает о лагерной жизни! <…> Кто не припомнит ласкового обращения царицы с кадетами, <…> которых она поила чаем, бросала конфекты и апельсины? Кто не помнит штурм каскада, что между фонтаном Самсона и Большим дворцом, когда царица раздавала часы, кольца и другие призы первым взобравшимся на верх каскада облитым водою кадетам?
И много других разнородных воспоминаний роится в моей голове…
Ольшевский М. Я.
Первый кадетский корпус в 1826–1833 гг.// Русская старина. 1886. Т. 49. № 1. С. 63–95.
А.Н. Корсаков
Из «Воспоминаний московского кадета»
Первый Московский кадетский корпус. 1830–1837 годы
Было свежее и ясное июньское утро. Беспечно и резво бегал я по маленькому нашему садику в Лефортове, когда меня позвали к матушке. Я нашел ее в спальной у окна с «Московскими ведомостями» в руках. «Ну вот, Алеша, и тебя определили в корпус», – сказала она, опуская газету к себе на колени. Это было в 1830 году, когда открывалось малолетнее отделение. Мне шел восьмой год.
4 июля около 10 часов утра в гостиной был поставлен столик, накрытый чистой скатертью с образом и миской, наполненной водой, тут же лежало несколько восковых свечей. <…> Отслужили молебен, бабушка благословила меня образом; перекрестила матушка, крепко-крепко поцеловала она меня, еще раз перекрестила, и мы с отцом вышли на крыльцо, где уже дожидались нас дрожки. Батюшка повез меня в главный корпус, находившийся в Головинском дворце, где меня водили в лазарет для осмотра телосложения.
Из главного' корпуса мы отправились на Немецкую улицу в малолетнее отделение. Как теперь помню ту минуту, когда я вошел с отцом в просторную светлую залу с четырьмя колоннами по углам, по которой бегали и резвились несколько десятков мальчуганов, будущих моих товарищей, кто уже в форменных курточках, а кто еще в домашних рубашечках. При входе нашем вся эта пестрая толпа бросилась было к нам, но звонок классной дамы —так назывались надзирательницы – разогнал их, и я остался с отцом вдвоем. Посидели, поговорили, и после троекратного осенения меня крестом и сердечного поцелуя батюшка простился со мной.
На другой день в календаре 1830 года на листке, вклеенном для отметок, против июля месяца явилась заметка красными чернилами: «4 Алеша поступил в малолетнее отделение». А я, простившись с отцом, бойко вмешался в толпу товарищей и, запряженный кем-то из них в «тройку», получил отчетливое наставление как, в качестве пристяжной, должен был гнуть голову, фыркать и бить копытом… Ни толчков, ни щипков – ничего не было, как говорят, бывает это с новичками в других заведениях; только некоторые подходили ко мне и спрашивали, не играл ли я дома в бабки? «Нет, не играл», – отвечал я, и спрашивавшие отходили от меня, не сказав ни слова. После узнал я, что вопрос этот предлагался каждому новичку, и если он говорил, что играл, то над ним смеялись. Надо сказать, что первыми кадетами малолетнего отделения были несколько человек, переведенных из главного корпуса как не достигшие 10-летнего возраста: они-то все и спрашивали у новичков о бабках. Теперь, вспоминая об этом, я дивлюсь, откуда взялась эта щепетильность между детьми хотя и дворянскими, но далеко не аристократическими?
Весь день прорезвился я, ни разу не вспомнив, что нахожусь между чужими; но вот солнце стало садиться… Веселость мою как рукой сняло; я задумался, сердце у меня сжалось, и я заплакал – по своем доме, по своем садике. Как грустно, как тяжело мне было тогда! «К<орсако>в, К<орсако>в! Тебя спрашивают», – раздалось вокруг меня несколько голосов. Я бросился к матушке и замер в ее объятиях, в ее поцелуях. Лишь только мы сели, как передо мной раскрылась белая камышовая корзиночка с крендельками и булками и свежей, душистой малиной, только что поспевшей в этом году и в первый раз собранной. Я не был голоден, но ел и крендели, и булки, и малину, да и как было не есть – ведь все было из дому!.. Заботливо расспрашивала меня матушка, каково мне на новоселье, и я, забыв грусть свою, с живостью бойкого ребенка рассказывал свои детские впечатления.
Так прошел мои первый день в чужой семье. Матушка навещала меня часто, а по праздникам я ходил домой и виделся с батюшкой. Скоро я так освоился с новым для меня миром, что уже не скучал по дому. Нашлись у меня и «друзья», с которыми я больше, чем с другими, проводил время в разговорах и больше играл <…>.
Малолетнее отделение было учреждено для воспитания и первоначального обучения детей от 7 до 10-летнего возраста,‘по достижении которого их переводили в главный корпус, где и зачисляли в самую младшую роту – неранжированную, или, как тогда говорили, резервную. Заведение это состояло под начальством директора главного корпуса, ближайшее же заведование им поручалось одному из двух штаб-офицеров, положенных по штату при корпусе.
Кроме этого штаб-офицера, который по отношению к малолетнему отделению был также поставлен как батальонный командир в корпусе, надзор за нравственным и физическим воспитанием детей поручался старшей надзирательнице и трем ее помощницам так точно, как в корпусе тот же надзор вверялся ротным командирам и их помощникам – субалтерн-офицерам. В лазарете была особая надзирательница. Прислуга была женская, за исключением некоторых должностей, как, например, писаря, двух фельдшеров, швейцара, нескольких поваров и дворников – эти все назначались из служительской роты корпуса. Затем при малолетнем отделении был священник с двумя причетниками и один из помощников эконома главного корпуса. <…> Для визитации больных ежедневно приезжал один из врачей главного корпуса.
Во время моего поступления директором корпуса был генерал-майор Петр Сергеевич Ушаков 3-й, который, впрочем, никогда к нам и не заглядывал, а заведующим малолетним отделением – подполковник Григорий Артемьевич Дорошинский, служивший прежде в артиллерии, потом в Дворянском полку, откуда, по сформировании в Московском корпусе пяти рот, был переведен к нам в корпус в должность младшего штаб-офицера. Это был добряк в полном смысле слова. Известно, что воспитанники учебных заведений имеют привычку давать некоторым начальникам, так же как и товарищам своим, прозвища или клички. Помнится мне, что и Дорошинского в корпусе окрестили кличкой – «Горячий», но почему, решительно не понимаю. Кажется, никому так не приходилась «не по шерсти кличка», как волоокому Григорью Артемьевичу В самом деле, никогда не приходилось мне видеть его горячившимся, кричавшим, выходившим из себя, и если он действительно имел горячий темперамент (не назовут же даром) и не мог иногда сдерживать себя, сидя в классе у кадет старшего возраста <…>, то тем более было ему чести, что он умел сдерживать себя с детьми. Правда, он посекал нас, но никогда в таких случаях не обнаруживал ни горячности, ни вспышки, и наказания его никогда не выходили за пределы строгости, обуславливаемой детским возрастом. Дети не бегали от него, как это случалось с нами потом в корпусе при виде начальников; напротив, они доверчиво окружали его и весело пускались в разговоры. Дорошинский хорошо рисовал и нередко н а шивал нам картинки <…>. Он хорошо знал башмачное ремесло и ни от кого не скрывал, что на жену и маленького сына шьет башмаки сам.
Старшей надзирательницей была Хомякова – женщина, как мне казалось, кроткого, мягкого характера, но болезненная. Так как она была вдова генерал-майора, то ее называли «генеральшей», к чему все так привыкли, что когда вместо нее (она недолго служила) была определена баронесса Елизавета Ивановна Корф, то и ее величали «генеральшей», да еще и директрисой —обстоятельство, ставшее потом причиной больших для нее неприятностей.
Дело в том, что баронесса Корф, женщина умная, с самостоятельным характером и барскими замашками, вообразила себе, что она – главное лицо в малолетнем отделении, как директор в главном корпусе. Благодаря этому заблуждению она так и держала себя или по крайней мере старалась поставить себя в положение главной начальницы. Дорошинский или не замечал этого, или не хотел обращать на то никакого внимания, чрез что действительно как будто стушевывался перед ней. Была ли тому причиной вежливость, которую он находил нужным оказывать светской баронессе и ее хорошенькой племяннице <…>, мирный ли нрав его или отсутствие служебного самолюбия – не знаю. Еще менее могли замечать претензии баронессы Корф такие директора, как Ушаков <…>, но когда был назначен <Александр Осипович> Статковский, то он тотчас же дал заметить ей, что директор – он, а она, баронесса, не более как старшая надзирательница. Баронская гордость не вынесла афронта и величественно удалилась из заведения. Баронессу Корф заменила сперва княгиня Шаховская, а после нее одна из надзирательниц – Матрена Савишна Чурашева, женщина с не меньшим умом, как и баронесса Корф, но без ее заносчивости, ловкая, предусмотрительная, с замечательным тактом, словом сказать, тонкий политик в зеленом платье. <…> Матрена Савишна пережила семь директоров и только при восьмом оставила службу, да и то лишь оттого, что по преклонным летам своим лишилась зрения и самое малолетнее отделение было упразднено. <…>
Обращаюсь к нашему учению в малолетнем отделении. Классов было три, из которых первый был старший. Я поступил в третий, так как познания, приобретенные мной дома, были весьма ограниченны. Несмотря на то, что мне шел восьмой год, я ничего больше не знал, как только читать по-русски и списывать с прописи, очень плохо – нумерацию, хотя и делал сложение и вычитание целых чисел, знал кое-что из Священной истории Ветхого Завета <…>. По-французски и по-немецки дома я не учился.
Помнится мне сцена одного осеннего вечера. Третий класс рассадили во втором, а второй увели в третий. В комнате стоял стол, покрытый красным сукном, на столе горели две восковые свечи, а в креслах сидел седенький старичок <…>. Старичок страдал удушливым катаром и потому очень часто закашливался продолжительным судорожным кашлем, наклоняясь над поставленной у его кресла песочницей; потом он несколько секунд тяжело дышал и утирался платком, который так и не клал в карман, а держал возле себя на столе. Это был инспектор классов главного корпуса коллежский советник Степанов, в молодости, как мне сказывали, служивший под знаменами Суворова, о чем он и любил рассказывать старшим кадетам. Он приехал к нам делать экзамен.
Степанов вызвал меня и, открывая книгу, спросил: умею ли я читать по-французски? «Нет, я только азбуку знаю», – почему-то отвечал я, хотя не знали азбуки. Он открыл ту страницу, на которой была азбука, и стал спрашивать буквы вразбивку. После весьма непродолжительного опыта оказалось, что я ничего не знаю. «Ну хорошо, душечка, сядь на место», – сказал мне Степанов, и затем я уже ничего не помню, как продолжался и чем кончился наш экзамен.
На другой день надзирательница Дмитриева увела меня в лазарет и стала учить меня по-французски; всякий день я ходил к ней и под ее руководством научился азбуке, складам и, наконец, стал читать. <…>
В третьем и во втором классах учили историю Ветхого Завета и Нового Завета <…>, а в последнем – краткий Катехизис <…>; по русскому языку – в младших классах чтение и письмо, а в последнем – грамматика <…>, причем вне классов должны были приготовлять письменный этимологический разбор нескольких строк, что я весьма охотно делал, так как занятие это меня интересовало. Не то было с арифметикой, которую преподавал И. П. В-в. Его вспыльчивость, нетерпеливость и щелчки, которыми он удостаивал меня у большой черной доски, вселяли в меня страх и отвращение к арифметике, отчего, по переводе меня в корпус, я всегда шел по математике плохо. <…> В последнем классе учили также всеобщую историю <…> и географию <…>; но от той и другой оставались у меня смутные понятия, да едва ли и уместно было преподавать эти предметы в таком раннем возрасте. Особенно часты были классы чистописания, что, как мне кажется, было весьма полезно; ибо с прописей мы привыкали писать не только чисто и красиво, но и правильно, чем значительно облегчалась задача преподавателя русского языка. <…>
В августе до слуха нашего часто стало доходить слово, которого до того времени никогда не слыхивали, – холера! Мы не могли понять и того страха, который оно наводило на всех, а потому немало были изумлены, когда нас перестали отпускать к родителям, а их – к нам. Как теперь на моих глазах отец одного из наших товарищей, штаб-офицер гарнизонного батальона <…>, стоял на дворе и жадно смотрел на маленького своего сына, которого ему показывали через окно. Нежные улыбки и поцелуи передавались со двора в стены здания, но увы! – пропасть между отцом и ребенком лежала непроходимая…
Скучно и однообразно потянулись наши дни в четырех стенах, пропитанных неприятным запахом хлора, который расставляли во всех комнатах. В предупреждение расстройства пищеварительных органов было предписано для питья употреблять одну сухарную воду, а в пищу – суп из круп, дающих слизистый отвар, и кашицу из смоленской крупы. После каждой воскресной литургии пелись молебны Пресвятой Троице. Не помню, чтобы кто-нибудь, кроме добряка Дорошинского, имел желание развлекать нас в нашем уединении; но он забавлял нас, показывая сделанный им самим картонный театр. Игрушка эта так понравилась нам, что некоторые сами стали пытаться устраивать подобные же сценки: началось рисованье, вырезыванье, клеенье; в конце концов вышло то, что мы были заняты и меньше скучали.
Смутно припоминаю, как у нас заговорили о кончине великого князя Константин Павловича <в 1831 году> и, кажется, по этому случаю служили панихиду. Кто такой был Константин Павлович, я до того времени не имел никакого понятия, а тут узнал, что он был главным начальником всех кадетских корпусов. <…>
Кажется, в том же году, летом или в конце его, нас стали готовить к приезду великого князя.Это был Михаил Павлович, принявший начальствование над кадетскими корпусами. Так как у всех на языке было не столько его имя, как титул великого князя, то я в простоте своей думал, что к нам приедет большой, высокийкнязь. На самом-то деле оно так и оказалось, но заблуждение мое было поводом к тому, что надзирательницы стали разъяснять нам, что великий князь есть титул братьев и сыновей государя и что в разговоре с ними называют их Ваше Императорское Высочество<…>. Приготовляясь к посещению великого князя, учили нас, чтобы мы непременно целовали у него руку, если он кого-нибудь приласкает из нас.
За несколько часов до его приезда <…> классные дамы принарядились в светло-зеленые платья, осматривали нас, обдергивали, причесывали, а перед приездом великого князя поставили в шеренгу по обеим сторонам залы. <…>
Но вот в дверях залы показался высокий, плотно сложенный, сутуловатый генерал и <…> звучным голосом <…> сказал, смотря на нас сверху вниз: «Здравствуйте, карапузы!» – «Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!» – прозвенело около сотни тоненьких, металлических голосков. Классные дамы сделали низкий, почтительный реверанс. «Вот он какой, великий-то князь», – думал я, глядя во все глаза…
Недолго стояли мы в шеренге. Окинув нас взглядом, Михаил Павлович позвал к себе, и мы, как саранча, облепили его. Наставления классных дам относительно целования руки были у всех в памяти и исполнялись всякий раз, как только рука великого князя прикасалась к кому-либо из нас; но такое изъявление чувств, кажется, не очень нравилось Михаилу Павловичу, как я могу думать теперь<…>.
Не припомню, бывал ли у нас покойный государь <Николай Павлович>, но императрица Александра Федоровна, главный, так сказать, шеф Александровского малолетнего <Царскосельского кадетского> корпуса и нашего отделения, была при мне, кажется, раза два или три, и один раз провела несколько часов. Она сидела у нас в зале, долго разговаривала с баронессой Корф и другими надзирательницами, а мы были распущены, то есть не стояли в шеренге, как это всегда делалось при приездах высших начальствующих лиц; потом сидела за нашим обеденным столом, причем во все время обеда занимала за столом место надзирательницы первого отделения. Вообще, посещение императрицы имело в этот раз такой вид, как будто она благоволила быть у нас дежурной классной дамой. В тот же день вечером нам прислала государыня несколько фунтов отличнейших конфект. При отъезде своем она оставила повеление, чтобы вместо сбитня, которым до сих пор нас поили по утрам, давали бы габерсуп. Прекрасные, правильные черты лица, непроизвольное кивание головой и не совсем русское словоударение государыни остались у меня в памяти. <…>
Прислуга у нас была женская; но кроме нянек были еще дядьки – отставные унтер-офицеры <…>, все без исключения Георгиевские кавалеры. Днем они находились при нас и были как бы помощниками дежурной классной дамы. <…> Помнится мне, когда, бывало, строились идти к столу или в сад, дежурная классная дама скажет: à droit или à gauche [20]20
Направо или налево (фр.).
[Закрыть], мы повернемся и пойдем за ней, хотя и рядами, попарно, но немилосердно обтаптывая друг другу ноги; а тут прислали нам дядек; они становились перед нами и командовали сперва: смирно! – а потом: напра-во! скорым шагом марш!Дядьки учили нас «стойке», поворотам и маршировке, так что мы скоро уже привыкли ходить в ногу. <…>
Под влиянием ли бесед с дядьками или по чему другому, только игры наши в рекреационные часы, особенно летом, стали принимать иной характер, чем прежде: у нас появились самодельные знамена, палки заменяли нам ружья и пики, на головах показались бумажные шляпы с такими же султанами; мы играли в «казаки», в «оренбургские уланы» и т. п., а вскоре завелась и еще одна забава.
Однажды, когда мы после утренних классов ходили и бегали по зале, в нее вошел корпусный адъютант Николай Павлович Львов, а за ним маленький кантонист с барабаном. Мы все так и бросились к нему. Тогда Львов объявил дежурной даме, что барабанщик этот останется при отделении, а нам, что теперь мы будем строиться по барабанному бою, и тут же велел Зиновьеву пробить повестку, сбор к столуи общий сбор.Нечего говорить, что нововведение это нам очень понравилось, и скоро многие из нас обзавелись маленькими барабанами; а у кого их не было, то просто палками, которыми и выбивали старательно разные бои по деревянным скамейкам. <…>
В августе 1833 года я в числе других 25 кадет был переведен из малолетнего отделения в главный корпус и поступил в неранжированную роту. С тяжелым чувством приступаю к рассказу об этом времени. По правде сказать, мало отрадного вынесла память моя из детства, проведенного мной первые два года в главном корпусе. Я ли виноват в том или суровая обстановка, среди которой очутился я в новой школе, не знаю: пусть судят об этом другие, кому доведется читать рассказ мой.
Прежде всего скажу о главных лицах корпусного управления. Директором в то время был генерал-майор Карл Павлович Ренненкампф, высокий, флегматичный немец с кроткой, незлобивой душой, с мягким и добрейшим сердцем, человек, которого все любили – и кадеты, и офицеры. Он редко ходил по ротам, где за него бодрствовал батальонный командир полковник < Викентий Францевич> Святловский, но чаще бывал в классах.
Если ему случалось когда-нибудь делать замечания, то делал это спокойным, ровным голосом, без малейшего признака горячности. <…>
Теперь о ротных командирах. <…> Первой мушкетерской ротой командовал капитан Виктор Христианович Минут. Из юнкеров гвардейской артиллерии поступил он в Артиллерийское училище, откуда по окончании курса произведен прапорщиком в полевую артиллерию. В Московский корпус поступил он в 1826 году, имел классы математики и в 1834 году назначен помощником инспектора классов, сдав роту штабс-капитану Николаю Михайловичу Флейшеру.
Высокий, несколько сутуловатый, с бледным лицом и слегка ввалившимися щеками, серьезный, сосредоточенный, Минут внушал кадетам больше страха, нежели расположения к себе; ибо и само образование, которое отличало его от многих сослуживцев, не мешало ему, как мне рассказывали, пускать в ход свою табакерку по головам кадет, если кому-нибудь приходилось своей непонятливостью при объяснении математики вызывать его раздражительность.
Преемник его Флейшер получил образование в Юнкерской школе, находившейся, кажется, в Могилеве при главной квартире 1-й армии. Нечего и говорить, что это образование не могло бросаться в глаза; но недостаток его искупался, по крайней мере, здравым смыслом, добрым сердцем и душой, чуждой лукавства.
Добродушие Флейшера не мешало ему быть строгим, особенно с теми, которые в общем мнении слыли «старыми» кадетами – обыкновенно лентяями: тут уж у него каждое лыко шло в строку. Сколько могу припомнить, Флейшер перед всеми своими сослуживцами отличался особенной способностью изловить, накрыть, захватитьна месте преступления виновного в каком-либо проступке, как, например, в нюхании или курении табаку, чтении запрещенной книги и т. п. Все эти нюхальщики и курильщики были у него на счету и служили постоянным предметом подтруниваний его над ними, что он обыкновенно делывал в присутствии их товарищей; впрочем, эти насмешечки не только бывали безобидны, но, по особой манере Флейшера выражаться, казались более забавными. <…>
Гораздо отчетливее выдавалась личность командира 3-й роты Карла Ивановича Гросвальдта, аккуратного немца, высокого, стройного, красивого и отлично выправленного карабинера, поступившего в корпус из егерского фельдмаршала князя Остен-Сакена полка, в каком именно году – не знаю. Ничем нельзя было так угодить Карлу Ивановичу, как щегольством и опрятностью в одежде, в особенности если к этому качеству кадет присоединял еще уменье ловко являться ординарцем или вестовым или ловко танцевать – вообще блеснуть наружно. Таких он особенно жаловал, называя их «красавчиками-молодцами», чем всегда напоминал мне Суворова, называвшего своих соратников чудо-богатырями. Если «красавчику-молодцу» случалось провиниться, то Карл Иванович журил его с отцовской снисходительностью; но если же попадался какой-нибудь вахлак с непричесанными волосами, с разорванными штанами или курткой или какой-нибудь отъявленный лентяй, который то и дело попадал в журнал ленивых, тогда Карл Иванович выходил из себя и, раскрасневшись как индюк, с каким-то ужасом восклицал: «Ах ты, арнаут!» Но почему именно арнаут– это оставалось нам неизвестным. Боже мой, как теперь все это смешно; но ведь тогда-то далеко было не до смеха, потому что вслед за «арнаутом» могли быть и розги. <…>
С отрадным чувством благодарности и уважения перехожу к воспоминанию о последнем ротном командире той именно роты, куда я поступил. Это был капитан Александр Николаевич Черкез. Хотя в корпус он поступил в 1829 году из армии, но тотчас можно было заметить, что он воспитание получил в порядочном семействе, а не в солдатской казарме. В самом деле, мало было офицеров, которые имели бы охоту или уменье обращаться вообще как с взрослыми, так и с маленькими кадетами, и мне кажется, что для неранжированной роты нельзя было выбрать лучшего ротного командира.
Однако ж, если б кто-нибудь подумал, что начальство, назначая Черкеза командиром роты, состоявшей их 10-летних мальчиков, руководилось нравственными его свойствами, то он очень бы ошибся. Подобные соображения едва ли входили в голову батальонного командира. Доказательством тому может служить то, что в той же роте в числе отделенных офицеров был поручик Соколовский, которому не было места не только при маленьких детях, но и вообще в корпусе. <…> Гордый, надменный, с холодными чувствами, он был чрезвычайно высокого о себе мнения, отчего и не удостаивал внимания почти никого из своих товарищей-сослуживцев. <…> Это было сухое, черствое сердце, не смягчавшееся даже в обхождении с 10-летними мальчиками. Не то чтоб он был строг – это бы еще ничего, но он был просто зол, жесток. Я до сих пор не могу забыть С-ва, кадета его отделения; этот бедняга был буквально без висков, потому что волосы все были вырваны и развеяны Соколовским. Как такой человек мог быть воспитателем вообще, а тем более в младшей роте? <…>
Таковы были господа, к которым, по определенному порядку, должно было после классных дам перейти благопопечение о нашем воспитании. Тяжело было… Но ведь это же прошло…
Расскажу, как проходил день наш. Вставали мы в 6 часов утра и тотчас же должны были «чиститься» и «чиниться», то есть должны были вычистить себе сапоги и пуговицы и починить платье, для чего в особой комнате, называемой умывальной, служителями приготовлялись вакса в большой деревянной чашке, сапожные щетки, тертый кирпич и проч. Тут же сидел портной, который помогал «чиниться»; но так как один человек, несмотря на то, что он работал всю вторую половину ночи, все-таки не мог перечинить одежду, которая на мальчиках, как говорится, огнем горела, то починкой большей частью должны были заниматься сами; можно вообразить себе, что это была за починка. Вся эта операция, вместе с умываньем, продолжалась около часа, во время которого комната принимала вид муравейника: мальчики сновали туда и сюда, торопясь привести себя в порядок, говоря один другому: «Дай после» (то есть щетку); «Постарайся иголки» и т. п.
Затем строились по отделениям для осмотра. Унтер-офицеры осматривали платье и сапоги, повертывая кадет во все стороны и заставляя поднимать то руки, то ноги, чтобы увериться, не разорвано ли где под мышкой, крепки ли подошвы, вычищены ли закаблучья.
Унтер-офицеры назначались из старших рот и высших классов, а потому они держали себя начальнически: им говорили выи называли по имени и отчеству. Пользуясь таким почетом, некоторые из них, даже можно сказать большая часть их, употребляли во зло свое положение. Не думаю, чтобы начальство предоставило им власть оставлять кадет без пищи, драть за уши, давать толчки и т. п., – а все это было. Само собой разумеется, что в присутствии А. Н. Черкеза никто из них не смел этого делать; что же касается дежурных офицеров, то они смотрели на это сквозь пальцы.
Утренний осмотр был для нас первым испытанием: малейшая неисправность вызывала у унтер-офицера слова: без сбитня; без сбитня и без булки; без пирога; на один супи даже без обеда, на хлеб и воду.Трудно поверить этому, а еще раз повторяю: все это было… После унтер-офицеров осматривал кадет дежурный по роте офицер; при этом случае представлялось менее уже шансов подвергнуться упомянутым наказаниям, как потому, что предварительный осмотр унтер-офицерами устранял поводы к ним, так и потому, что офицеры все-таки были рассудительнее своих юных помощников.






![Книга Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк] автора Олег Хазин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pazhi-kadety-yunkera-istoricheskiy-ocherk-256253.jpg)

