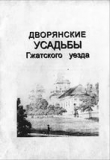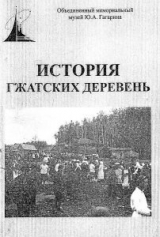
Текст книги "История Гжатских деревень (Сборник)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Прошлое и настоящее села Будаево
М.Ф. Кабанов, младший научный сотрудник историко-этнографического отдела СОГУК «Мемориальный музей Ю.А. Гагарина» (г. Гагарин)
В седую древность уходит история деревень бывшего Гжатского уезда Смоленской губернии. Упоминание о деревне Ветцы (в 2,5 км. от Будаева) относится к 1150 году как о волостном центре или «погост-округе» [1]. О селе Будаево, городище, как его называли прежде, таких ранних документальных упоминаний пока не найдено. Но в Летописи Стахия Львова Троепольского, в работах смоленского историка Д.И. Будаева оно упоминается. «В Гжатском уезде остались следы бывших крепостей, или замков, в виде правильно округленной насыпи, или искусственной горки, на которую идет довольно узкая дорога. Таких насыпей несколько, например, близ сел Колокольни, Будаева и сельца Варганова, все они однообразны, отстоят друг от друга на несколько верст и известны под именем жилищ Богатырей Русских, откуда они перекликались друг с другом» (Летопись Стахия Львова Троепольского).
Об этом же пишет и Д.И. Будаев: «До наших дней в Никольском, севернее села Будаево на левом берегу реки Алешни, юго-западнее деревни Кожино и в одном километре южнее деревни Костивцы сохранились городища – остатки укрепленных (огороженных) поселений первобытного человека, относящиеся к так называемому железному веку, отдаленному от нас целыми тысячелетиями [2].
Археолог профессор Шмидт Е.А., исследовавший Будаево городище, пишет: «Городище на северной окраине деревни Будаево, на левом берегу р. Олешни. Устроено на мысу коренного берега. Площадка округлой формы, размером 86x84м, с южной напольной стороны защищена валом и рвом. Культурный слой до 0,5м». Использовалось в качестве укрепленного поселения дважды: в первые века н.э. дьяковскими племенами, что подтверждается находками фрагментов лепных сосудов, украшенных ложногребенчатым орнаментом; в XII – XV веках древнерусским населением. С последним связаны находки железных ножей, ключей, замков, кресала и гончарной посуды [3].
Далее профессор Будаев Д.И. отмечает, что земли современного Гагаринского района в IX веке вошли в состав первого государственного объединения восточнославянских племен – Киевской Руси, неоднократно переходили из одного княжества в другое (Смоленское, Можайское, Вяземское); земли эти топтала и татаро-монгольская конница. К началу XV века по ним, оказавшимся на границе двух феодальных государств – Московского и Великого княжества Литовского – не один раз проходили войска враждующих сторон; русские отряды не раз беспокоили расположенные в южной части Гжатских земель волости князей Глинских, служившим литовцам [2,4].
XVI век для этих земель был относительно спокойным: русское государство к этому времени вернуло сначала Вязьму, а потом и Смоленск. Но уже в 1610-1618 годах польские паны неоднократно организовывали походы на Москву, вновь на этих землях разгорелись бои. И только в 1618 году по Деулинскому перемирию эти земли были навсегда возвращены Русскому государству.
Многих старинных деревень уже не было, в существующих – половина и более изб пусты, пашня не обрабатывалась. «Пашня лесом поросла» в селе Будаево Городище у речки Алешни и других местах» [5]. Прежде земля была «в раздаче за разными помещиками, а от разорения литовских людей лежала впусте». Через 40 лет она была приписана к дворцовым волостям, потому как прежние владельцы так и не вернулись.
Следующее документальное упоминание о Будаеве Городище относится к 1769 году: «В Можайском же уезде находятся 6 земляных городищ, из которых 3 пустые. При тех ныне имеются села, кои называются: 1. Будаево городище»...[6].
В 1775 году земли эти вливаются во вновь учрежденную Смоленскую губернию; в 1776 г. образуется Гжатский уезд. В «Экономических примечаниях Гжатского уезда 1786 г.» записано:
«40. Будаевской волости село Будаево городище с деревнями и пустотами ведомства Дворцовой канцелярии.
Село имеет 18 дворов, в них: 60 мужеска и 71 женска пола душъ. Лежит в 10 верстах от города, по течению на левом берегу речки Алешни, против устья Холопьевского ручья. Селу принадлежит 10 деревень с 132 дворами, а в них: муж. – 494, жен. – 518.
Земли 3789 дес. 794 саж., в т.ч. под поселением – 54 дес. 990 саж., пашни – 1913 дес. 414 саж., сенного покоса – 359 дес. 2150 саж., лесу дровяного 1399 дес. 514 саж., неудобных мест 62 дес, 1662 саж.
Деревни: Белоусово, Васильева, Ветцы, Кобылкино, Лушки, Мальцево, Нижняя Слобода, Орехово, Рябцево, Филосово, от города 8 верст (Васильева) до 14 верст (Белоусово, Ветцы), дворов от 3-х (Лушки) до 20 (Кобылкино, Нижняя Слобода), муж. от 17 (Лушки) до 66 (Нижняя Слобода), жен. от 11 (Лушки) до 80 (Нижняя Слобода).
Крестьяне состоят на положении казенного оброка и платят в казну в год два рубля с души. Землю обрабатывают всю на себя.
41. Внутри оной волости села Будаева церковная писцовая земля владения священно и церковно служителей. Лежит в 11,5 верстах от города по обе стороны ручья Холоповского. На оной земле церковь деревянная во имя Рождества Христова и дворы священно и церковно служителей.
Под поселением 10 дес. 360 саж., пашни – 71 дес. 1698 саж., сенного покосу – 7 дес. 750 саж. и неудобных мест – 1 дес. 1952 саж. Итого -90 дес. 236 саж.
42. Деревня Саматы с пустошами, владения полковника и дорогобужского дворянина депутата Ильи Михайловича Радвановского, жены его Катерины Васильевой 280 дес. 1317 саж., муж. – 68, жен. – 78. Дворов – 12. От города – 7,5 верст.
43. Сельцо Великое Поле, владение секунд-майора Ивана Родионова сына Аксакова и сестры его Ульяны Ивановой, дочери Бибиковой с детьми ее, прежних служб ректории, детей Андрея, Евсея и Михаилы Васильевых, детей Бибиковых – 123 дес. 1255 саж., муж. – 10, жен. – 11. Дворов – 3. От города – 14,5 верст. На суходоле, при колодезях, а дача по течению речки Тешутинки на левой стороне.
189. Пустошь Головина, владения Дворцовой Будаевской волости крестьян – 626 дес. 1255 саж.» [7].
В положении крестьян «государственных» и «помещичьих» были некоторые различия. Первые принадлежали не какому-то определенному помещику (как, в данном случае, крестьяне деревни Саматы и сельца Великое Поле), а феодальному государству и платили оброк за пользование «казенной землей, который был ниже тех повинностей, которые выполняли «помещичьи» крестьяне в пользу своих владельцев. Государственные крестьяне имели возможность более или менее свободно распоряжаться своим временем и трудом. Нельзя назвать положение их хорошим, однако помещичьи крестьяне, имевшие множество господских повинностей, нередко завидовали им, и иногда, особенно при переходе имения в другие руки, требовали перевести их в казну.
Крестьяне (мужчины) с. Будаево и окрестных деревень сельским хозяйством почти не занимались, они работали, в основном, каменщиками и плотниками в окрестных городах. Как пишет В.М. Афанасьев, «...плотницким ремеслом владели крестьяне целых волостей (Будаевской, Покровской и т.д.). Будаевские плотники в XVIII – XX в.в. славились на всю страну. Именно они уже в первой половине XX века строили деревянное здание ЦАГИ в Москве». Раньше, в период с 1718 по 1836-1850 г., когда по реке Гжать в Петербург сплавлялись барки с продовольствием и товарами, они, конечно, строили и эти барки.
Но были и земледельцы. Так, в сведениях о владеющих 50-100 и более десятинами земли в 1909 г. по Будаевской волости значится:
33. Крестьянин Павел Васильевич Легкий, с. Будаево, – 50 десятин, – землепашество;
34. Крестьянин Петр Иванович Белов, пустошь Храброво, – 242 дес, – кирпичный завод и зимой вывозка дров;
35. Крестьянин Александр Иванович Чудаков, пустошь Храброво – 100 дес, – землепашество;
36. Крестьянин Козьма Пальянов, пустошь Ямская, – 62 дес. . – землепашество;
37. Инженер – механик Александр Семенович Фатов, имение Бизерки, -272 дес. – землепашество;
38. Торговый дом в Москве Орехов и Большаков, имение Самково, – 1219 дес, – землепашество;
39. Дворянки Анна и Александра Каменские, имение Кузнечики – 805 дес, – землепашество;
40. Шувалов, московский мещанин, и Стрелков, крестьянин, имение Бизерки – 436 дес, – землепашество.
Надо полагать, что в имениях Бизерки и Самково при обработке земли и других сельхозработах использовался наемный крестьянский труд.
Еще ранее, в 1902 г., в сельскохозяйственном обзоре Смоленской губернии по сведениям, доставленным добровольными корреспондентами, отмечался некоторый прогресс в ведении сельского хозяйства: «...Увеличился посев трав клевера и тимофеевки, а также и обзаведение плугами и сортировками» – писал корреспондент из Будаевской волости.
Борьба крестьян за землю в той или иной форме велась всегда. «...Так, на собрании крестьян Будаевской волости было вынесено решение об изъятии земли у помещиков, священников и манастырей и разделе ее между крестьянами», – писала газета «Вперед» 3 декабря 1905 года. Особенно активизировалась эта борьба после февральской 1917 года революции.
В эсеровской газете «Голос солдата и гражданина» от 4 июня 1917 года сообщается, что 22 мая в Будаеве появился оратор, который призывал население к незамедлительному захвату земель, угодий, инвентаря помещиков. Далее газета с сожалением пишет, что призыв: «Нечего дожидаться Учредительного собрания, мы сами себе хозяева, а потому сейчас же отбирайте земли и делите» – нашел отклик у крестьян, и волость заволновалась.
Затянувшаяся война привела к истощению экономики, сокращению посевов, недостатку рабочих рук, лошадей и инвентаря. Во многих местах крестьяне вынуждены были вместо хлеба есть жмыхи. В некоторых волостях крестьяне пекли хлеб из льняной муки, смешанной с картофелем. Такая пища вызывала сильные желудочные и головные боли. В общественных лавках продавали муку или какой – либо хлеб, по два – три фунта на человека, и опять жди неделю, а то и больше, писала газета 11 октября 1917 года (теперь она называлась «Голос народа»).
Следующий этап – коллективизация. К 1941 году в Будаевском сельском совете в 15 населенных пунктах было 6 колхозов, 290 хозяйств, в т.ч. 256 – колхозников, 11 – единоличников и 23 – рабочих и служащих.
Населенные пункты: – Верхнее Будаево и Мальцево, колхоз «8-е Марта», 39 хозяйств (24 и 15 соответственно), в т.ч. 36 – колхозников и 3 – рабочих и служащих; – Городище и с. Будаево – 4 хозяйства рабочих и служащих (1 и 3 соответственно).
Рабочие и служащие, по-видимому, считались работавшие в сельисполкоме, молокоприемном пункте и в школе.
В октябре 1941 года вокруг с. Будаево разгорелись оборонительные бои наших немногочисленных частей с наступавшей на Москву 4-й группой армий фашистской Германии.
По воспоминаниям старожилов, погибло много красноармейцев у дер. Орехово и дер. Фелисово, в 1,5 – 2 км от Будаева на запад. Позже сильные бои разгорелись восточнее Будаева, где в бой вступили подошедшие 18 и 19 отдельные танковые бригады. Но силы были неравные, и 12 октября 1941 года вся территория Гжатского района оказалась в немецкой оккупации, продолжавшейся до марта 1943 года.
В этот период в Будаеве располагался какой-то немецкий штаб, скорее всего штаб полка. На западной окраине деревни в капонирах, перекрытых накатником, стояло около 10 немецких танков. Остатки капониров сохранились до сего времени. Примерно в 1-1,5 км южнее и юго-западнее в лесу и сейчас можно найти остатки блиндажей, окопов и траншей. Севернее Будаево, в 800 – 900 м (почти у автомагистрали Москва-Минск) располагалось кладбище погибших немецких солдат, на которое однажды в 1942 году привезли около 70 трупов из-под Батюшкова.
По-видимому, здесь проходила вторая линия обороны, так как «передовая» была восточнее, за дер. Величково (дер. Ивники), и там располагались основные укрепления, в т.ч. железобетонные доты, сохранившиеся до сих пор у дер. Величково.
Сильных боев в марте 1943 г. у с. Будаево не было, так как немцы заранее начали планомерное отступление.
На день освобождения в колхозе «8-е Марта» осталось населения -32 чел.; 73 угнано в немецкую каторгу, 12 – умерло от голода, холода и болезней. Немецкими оккупантами уничтожено 19 домов колхозников, 54 свиньи, 230 овец, 1500 голов птицы, 188 цт ржи, 1900 цт картофеля, 10 колхозных лошадей, 2 сенокосилки и другой сельхозинвентарь. Осталось 37 домов колхозников, 4 коровы, других животных совершенно не осталось.
Севернее Будаева, метрах в 300-х от автомагистрали Москва-Минск стояла церковь, которая за годы оккупации была разграблена, сумма ущерба составила 331,8 тыс. руб. (больший ущерб был нанесен только Казанской церкви в г. Гжатске – 390,4 тыс. руб.). У церкви этой особая история.
Деревянный храм Рождества Христова до 1782 г. подчинялся Епископу Переславскому и Дмитровскому; одноименный каменный храм с приделом в честь Сретенья Господня сооружен на его месте в 1811 г. на средства статского советника Семена Афанасьевича Шестакова; в 1828 году устроен придел во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1891 году – придел во имя Святого великомученика Уара, в котором находилась древняя чтимая икона с его изображением.
По рассказам старожилов, церковь была великолепная, видна была издалека, приход был богатый. В 1946 году так и не восстановленная церковь была взорвана по распоряжению председателя сельского Совета, обломки разбиты на кирпичи для строек. Старинное кладбище при церкви сравняли с землей, через него проложили дорогу. В начале 90-х годов вдоль дороги пытались сделать кювет, при этом были выворочены масса костей и надгробных плит. Местные «кладоискатели» находили здесь старинные медные и даже серебряные монеты. Рядом с дорогой сохранилась могила последнего священника церкви, заросшая кустами сирени; крест на могиле периодически окрашивается его потомками до сего времени.
Описание храма с. Будаево и его причта приведены в книге А.Я. Иванова «Храмы и причты Гжатского уезда Смоленской губернии (XIX -начало XX века); в этой же книге имеется еще одно интересное сообщение: «г.5. с. Будаево – здесь 19 февраля 1889 года в семье Ивана Николаевича Сахарова (1849 – 1918, сына арзамасского священника) и Марии Петровны Домуховской (1862 – 1941, дочери Смоленского дворянина) родился Дмитрий Иванович Сахаров (1889 – 1961, впоследствии физик, автор популярного задачника по физике), отец всемирно известного ученого, изобретателя водородной бомбы, правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова».
Сам А.Д. Сахаров об отце пишет так: «Мой отец Дмитрий Иванович Сахаров ... родился 19 февраля ...1889 года в деревне Будаево Смоленской области, где у бабушки и дедушки был дом, оставшийся от бабушкиных родителей. В раннем детстве Митя (так звали папу в семье) почти все время жил в Будаеве».
Вышеизложенный факт требует документального подтверждения.
Послевоенное укрупнение территориально-административных единиц и колхозов коснулось и Будаевского сельского Совета. К нему были присоединены территории бывших Коробкинского, Петрецовского, части Столбовского и Батюшковского сельских Советов, и после укрупнения колхозов и совхозов к началу 60-х годов на землях Будаевского с/с располагались: совхоз «Величково» (ранее «Коммунарка»), колхоз «Путь к коммунизму» и часть колхоза им. Радищева. К началу 80-х годов земли колхоза им. Радищева отошли к Никольскому с/с, а немного позже колхоз «Путь к коммунизму» вошел в состав совхоза «Величково». И колхоз, и совхоз были на неплохом счету в вопросах производства различной сельхозпродукции, не пустовало ни клочка земли. В последние 10-15 лет в бывшем совхозе почти ничего нет, как после «литовского разорения» поля зарастают бурьяном и мелколесьем, распродана почти вся техника и сельхозинвентарь, разрушены животноводческие комплексы, мастерские, зерносушилки и зернохранилища. Имеющиеся несколько тракторов и автомашин используются для обработки огородов местных жителей, для заготовки дров зимой и для заготовки сена на продажу.
В с. Будаево до 1983-1985 года располагался исполком сельского Совета и сельская библиотека, которые затем были переведены в дер. Мальцево, где располагалась контора совхоза «Величково». До начала 90-х годов на южной окраине села был большой животноводческий комплекс. До начала 60-х годов работала пилорама, молокоприемный пункт. В 70-80-е годы в Будаевской восьмилетней школе училось до 180 детей, в настоящее время – только 33. В эти же годы в личных подсобных хозяйствах будаевских жителей было более 30 голов крупного рогатого скота, много овец, свиней, домашней птицы. Кроме нескольких овец и коз да двух десятков голов птицы сейчас ничего нет. Да и постоянных жителей осталось не более 15 человек, в основном старики; проживают они в 8 домах, в остальных 27 домах – дачники из Москвы и Гагарина, проживающие «наездами» в основном в теплое время года. Мясомолочные и другие продукты жители приобретают или в дер. Мальцево в магазинах, или в приезжающих несколько раз в неделю в деревню автомагазинах.
Зимой после непогоды дорога к селу бывает непроезжей, школьники, учителя и местные жители ходят по ней по колено, а то и по пояс в снегу.
В деревне Мальцево, где сейчас центр Будаевской сельской администрации и контора акционерного общества «Величково», работают два магазина, клуб, библиотека, медпункт; один раз в неделю работает отделение связи, почта доставляется по деревне «оказией». Общественная баня не работает более 12 лет, разрушена.
В связи с новыми реформами в административном делении в ближайшее время исчезнет и название Будаевской сельской администрации, и территория эта будет называться уже Мальцевское сельское поселение.
Деревни Покров и Мишино
В.А. Кононов, консультант аналитического отдела информационно-аналитического управления аппарата Администрации Смоленской области (г. Смоленск)
Деревни Покров и Мишино, находящиеся в 20 километрах от Гагарина, разделяет небольшая речушка. Граница условная, и не только для приезжих, но и для самих жителей оба этих населенных пункта давно являются одним целым.
Некоторые данные по истории этих деревень содержатся в личном архиве И. И. Орловского (1869 – 1909), преподавателя Смоленского женского епархиального училища и известного историка-краеведа. На рубеже XIX -XX веков он рассылал письма сельским священнослужителям Смоленской губернии с просьбой дать краткое описание географии, истории и современного положения их приходов. Эти сведения в дальнейшем обрабатывались Орловским, описания многих сельских приходов вошли в его книгу «Краткая география Смоленской губернии» (1907), некоторые описания печатались в Смоленских епархиальных ведомостях, другие (в том числе, и анкета, заполненная священником Покровской церкви в 1903 году) так нигде и не были опубликованы. Сведения об истории образования в Михайловской волости, в которую входили села Покров и Мишино, можно найти также в отчетах губернского статистического комитета, в некоторых изданиях губернского земства и в работах активных деятелей земства (Ф. Ф. Шперк, М. В. Аксенов, Д. Н. Жбанков и др.)
Село Покров, по словам священника Покровской церкви В. Абрютина, древнее, «по преданию народному существовало во время войны Литовской... (очевидно, имеются в виду войны Московского государства с Великим княжеством Литовским 1507-1508 и 1512-1522 гг. – прим. авт.)»; находилось в «дремучих лесах, которых тогда было много в данной местности». До 1776 года село принадлежало к Можайскому уезду и к Переславской и Дмитриевской епархии. «Население прихода кроме духовных лиц исключительно крестьяне, исповедания православного, <...> раньше было много раскольников», – писал В. Абрютин. Основными занятиями жителей были земледелие, льноводство, а также садоводство и разведение пчел. Немногие занимались торговлей: «...едут в села на ярмарки и базары, где сбывают деревянную посуду». Интересны сведения священника Покровской церкви относительно уровня жизни прихожан: «раньше жили зажиточно, и Покров считался хлебным местом, но с шестидесятых годов (XIX в. – прим. авт.) приход обеднел. Теперь считается порядочным хозяином тот, у кого есть свои семена на посев ржи и овса. Причина сему: во-первых, семейные разделы, во-вторых, неурожай хлеба. Братья часто и при жизни родителей делятся, а по смерти – непременно, значит, в заработки ходить некому».
В селе имелась больница «с восемью кроватями, при ней врач, два фельдшера и акушерка». Вот как священник описывал нравы прихожан Покровской церкви: «Приход можно назвать религиозным: в воскресный день церковь полна молящихся», правда, «есть некоторые из пола мужчин, которые вовсе в церковь не ходят... Особых нравственных недостатков, кроме присущих простолюдинам – сквернословию и склонности к горячим напиткам, в приходе не замечается. К чести женского пола нужно сказать, что он ведет себя целомудренно. Отношение населения к школе сочувственное». Народное образование находилось в «отличном состоянии». На 24 селения волости с тремя тысячами жителей в 1903 году приходилось 4 школы (из которых 3 церковно-приходских и одна министерства народного просвещения) и две библиотеки (при министерской школе и при церкви). Кроме этого, еще шесть деревень и сел с населением около 700 человек нанимали своих учителей.
В середине XIX в. школа здесь была одна и имела статус церковноприходской. Храм, где она находилась, был устроен в XVII в. В первый раз его перестроили в 1728 г., второй – в 1871 г. Церковь была деревянной, на каменном фундаменте, через пристройки с двух сторон имела вид креста. Состояла из двух частей: «теплой, оштукатуренной» и «холодной, оклеенной внутри парусиной и окрашенной масляной краской зеленого цвета». Снаружи храм был обшит тесом, однако «ризницей не богат».
В церковно-приходской школе должны были изучаться чтение по славянской и гражданской печати, закон Божий, арифметика, русская история, русский язык, церковное пение. Однако, в связи с отсутствием квалифицированных учительских кадров, кроме закона Божьего и грамоты в школе с. Покров, ничего больше не преподавалось.
В 1860-х гг. при волостном правлении была открыта одноклассная народная начальная школа. В ней полный курс обучения составлял три года. Помимо закона Божьего, дети в такой школе уже в обязательном порядке изучали грамоту, чистописание, арифметику. С 1874 г. на ее основе было открыто двухклассное училище (два класса, первый из которых состоял из 3-х – 4-х отделений, второй – из 2-х отделений), срок обучения в которой составлял 5 лет, а программу дополнительно были включены «начатки истории», география, естествознание. В январе 1875 г., согласно Ведомости о состоянии народных школ в Смоленской губернии, в Мишинском двухклассном народном училище обучалось 42 мальчика и 10 девочек. Учебные занятия в школах (в церковно-приходской в том числе), как правило, проводились в период с 1-го сентября по 1 мая. Иногда учебный год начинался позже (с начала октября), что было вызвано работами детей на наделах своих родителей.
Церковно-приходские школы Михайловской волости содержалась на средства прихода. Народное двухклассное училище имело несколько источников финансирования: «народный», земский и частный.
В Михайловскую волость в конце XIX в. входило 46 селений, составлявших 20 «сельских обществ» (т. е. крестьянских общин): мишинское, соинское, колесниковское, родионовское, щекинское, вешковское, стариковское и т.д. Характерной чертой всех этих «обществ» данной волости являлось то, что уже в 1870-х гг. все крестьяне здесь были собственниками земли, на которой «сидели» (в других волостях Гжатского уезда часто встречались «оброчные» крестьяне). Всего земельных наделов в Михайловской волости было 1802; самая большая – соинская община (130 наделов), самая маленькая – родионовская (70 наделов). С каждого надела (кроме тех общин, которые нанимали своих учителей), вне зависимости от того, были ли здесь учащиеся школы или вообще дети школьного возраста (надо при этом заметить, что бездетных крестьянских семей попросту не было – так, в Гжатском уезде на 1900г. средний размер крестьянской семьи составлял 5 человек), «по приговору» взималась определенная сумма на содержание школы. В 1874/75 учебном году эта сумма составила 8,5 копеек с надела. Таким образом, крестьянские общины на обучение детей собирали около 150 рублей в год.
Жалование учителя в школе в это время составляло порядка 15 рублей за каждый учебный месяц (120 – 135 руб. в год). Видно, что одних только средств, собираемых от крестьян, на полноценное финансирование школы не хватало (необходимы были еще книги, канцелярские принадлежности, дрова, т.п.). Решать эту проблему должно было уездное земство, но именно в этом году по каким-то причинам, оно Мишинской школе ничего не выделило. Возможно, это было связано с утверждением в 1875 г. «Инструкции для двухклассных и одноклассных сельских училищ Министерства народного просвещения». В ней, в частности, говорилось, что 1/3 общей суммы затрат на содержание школы выплачивает непосредственно министерство просвещения. Земства могли превратно истолковать инструкцию в том смысле, что раз платит министерство, то их финансовая помощь школам больше не нужна. Однако данное положение распространялось лишь на школы, переданные министерству, Мишинская же школа станет министерской только в 1903 г. Так или иначе, ни от одного ведомства школа в 1874/75 учебном году материальной поддержки не получила.
По данным гжатского уездного исправника Григорьева, недостающие средства на содержание школы были выделены в виде единовременного пожертвования распорядителя школы «местного волостного старшины Ивана Иванова (50 руб.) и крестьянина с. Покрова Ивана Сергеевича Курочкина (100 руб.)». Крестьянин Курочкин после этого события стал почетным попечителем школы (в обязанности попечителя, избиравшегося на три месяца, входили «заботы о материальном благосостоянии заведения»). Периодически и другими частными лицами школе оказывалась материальная помощь («иногда дают бесплатно письменные принадлежности»).
В следующем, 1875/76 учебном году, количество учащихся народной школы увеличилось: обучались 74 мальчика и 9 девочек. Из них «приходящих» – 63, «живущих при школе» – 20. Соответственно было увеличено жалование учителя (Андрея Васина) до 20 рублей в учебный месяц; кроме того, введена должность помощника учителя (первым помощником стал Иван Шестериков «...из Смоленской духовной семинарии»). Содержание последнему – 10 руб. в учебный месяц. От Гжатского уездного земства школе в этом году было выделено 200 руб., «по приговору» собрано от крестьян 204 руб. 70 коп.
Говоря о жаловании учителя в мишинском народном двухклассном училище (а оно отличалось не только в разных уездах, но и в разных волостях одного уезда), необходимо соотнести эту заработную плату с ценами на товары. Фунт черного хлеба (409 г.) стоил в то время зависимости от сорта 3-6 коп., фунт говядины 6-30 коп., фунт осетрины 25-80 коп. Жалование учителя в данной школе было таким же, как заработная плата разнорабочего в Москве. К слову, официальное содержание священника (в это время им был Григорий Стефанов), составляло 144 руб. в год, дьякона – 54 руб. в год, псаломщика – 36 руб. в год.
Общий процент грамотности детей в возрасте от 7 до 16 лет в Гжатском уезде (по отношению ко всему количеству детей учебного возраста) в конце XIX в. составил: мальчиков – 51,2%; девочек – 18,9%. По сравнению с остальными уездами Смоленской губернии – уровень достаточно высокий. Уверенность крестьян в необходимости образования подкрепляла и близость Москвы: большая часть мальчиков, достигнув 14-летнего возраста, уходила туда в «отхожие промыслы», а предпочтение при приеме на работу отдавалось грамотным. Кстати, этим же объясняется и следующая тенденция: практически во всех школах Гжатского уезда, и, в том числе, в мишинской, почти полностью отсутствовали учащиеся мужского пола, которым было бы более 14 лет. Низкий же процент грамотности среди девочек объясняется, во-первых, патриархальностью русской крестьянской семьи и, во-вторых, тем обстоятельством, что девочки очень рано становились помощницами матери по хозяйству, причем с 12 лет и до замужества они были практически незаменимыми.
В 1903 г. Мишинское двухклассное народное училище было преобразовано в двухклассное Министерское начальное училище. Школа при приходе двумя годами раньше была преобразована в школу грамоты, находившуюся в ведении Святейшего синода. Это была школа «самого низшего типа», плохо организованная и ограничивающаяся преподаванием «низшей грамоты, счисления и закона божьего». Качество образования лучшим было в «светской» школе, так как, ко всему прочему, в школах грамоты чаще всего преподавали неквалифицированные учителя: «преподавателями (здесь – прим. авт.) состояли низшие члены причтов или лица, назначаемые приходским священником».
В Мишинском училище насчитывалось уже 6 отделений, продолжительность обучения составляла 6 лет. В 1915 г. в школе обучалось 167 человек (91 ученик и 76 учениц). Дополнительно преподавались пение, рисование, гимнастика. В школе проводились и внеклассные занятия: чтения ученических журналов, беседы по литературе, вечерние занятия. Соответственно вырос штат учителей: один учитель, две учительницы, один законоучитель, пение преподавал псаломщик Покровской церкви. Специальных условий для «приходящих» учеников не было: ночевали они прямо в помещении школы, не готовилось «горячих завтраков» – питались тем, что принесут сами.