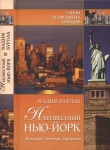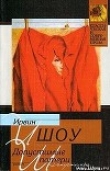Текст книги "У него ко мне был Нью-Йорк"
Автор книги: Ася Долина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Письмо себе двадцатитрёхлетней
Привет. Сейчас март того года, когда тебе двадцать три. Москва. «Динамо». Беспощадный серый снег хлещет в лицо, горожане в одинаково безликих тёмных шапках прячут лица в воротники. Так резко стемнело, ты идёшь навстречу вьюге и хочешь с ней слиться.
Ты на четвёртом месяце беременности. Ты в этот день поняла, что, скорее всего, останешься с этим фактом одна. Ты будешь тем, кого в угрюмой российской реальности называют матерью-одиночкой. Общество не терпит другого сценария. Ты только что впервые попыталась воспринять мысль, что будущий отец ребёнка, вероятнее всего, не останется с тобой. Ты не знаешь ещё, что ваш путь будет состоять из сотен таких попыток разойтись и восстановиться. Позже ты познакомишься с терминами «круги насилия», «качели абьюза», «холодный душ и сахарное шоу».
Но тогда, в тот момент, этот переворот в отношениях на 180 градусов происходит впервые. Правила за несколько часов меняются на противоположные, и ты должна им следовать, хотя тебя попросту забыли уведомить о переменах. Тем более – их согласовать.
«Сердцу не прикажешь». Ты пытаешься исправить ситуацию.
Ты – старые сбрендившие механические часы, у которых все стрелки идут в разные стороны с дикой скоростью и кукушка не затыкается.
Как ощущается тот март?
Как факт: в жизни случился раскол далеко за пределами твоего понимания. Твоего представления о мире. О том, как людям можно или нельзя обращаться друг с другом. Терапевтка Света позже рассказывала, что именно так психика реагирует на травму – непониманием, как работать, будто бы какой-то механической поломкой. Просто рассердиться или огорчиться – это не травма. Травма – это невозможность обнаружить в своём арсенале необходимый для адекватной реакции инструментарий. Травма значит сломаться.
Как факт: судьба бросила тебе пугающий вызов.
Как факт: надо быть сильной, какой ты не была никогда, но ты ведь беременна, тебе бы – созерцания и нежности.
Как факт: ребёнок, растущий в тебе, станет талисманом. Светом, который проведёт через тьму того жуткого марта.
Я смотрю на тебя из будущего и поверить не могу, что судьба – такая колючая, несправедливая, беспощадная и непостижимая в тот момент – приведёт тебя в результате туда, где ты находишься сейчас.
Что ты будешь жить в далёком городе со взрослеющей дочерью, что рядом с вами будет твой Д., что тебе будут под силу крутые, волевые решения.
Что ты станешь самостоятельной. Что ты нарастишь свой профессионализм, научишься зарабатывать деньги, узнаешь, что такое привязанность, дружба, сострадание, поддержка, сила, слабость, глубина, энергия.
Сейчас это не получится осознать.
Но в итоге ты не то что не будешь ни о чём жалеть. Ты будешь поражаться остроумию Бога, будешь чокаться с ним игристым и благодарить за то, что всё сложилось именно так.
А пока тебе двадцать три, будущая мама, у тебя круглые щёки, каре каштанового цвета, грустные глаза, серое шерстяное пальто и замёрзшие пальцы, ты наступаешь в слякоть злой Москвы и ты беременна, кто бы тебя обнял.
Прямо в кровь
Летним утром того же года станешь мамой. Слёзы смоет чистейшим высококачественным окситоцином, впрыснутым прямо в кровь. А молоко увлажнит подушку.
Природа неспроста положит тебе в объятия именно крохотную бархатную девочку, С.
Глядя на неё, ты впервые почувствуешь, как много значит твоё присутствие на земле. Ты увидишь, что оно началось с прозрачной, чистой беззащитности. И поймёшь, насколько высока твоя цена, раз ты можешь наполнить собой целую маленькую жизнь, мама. Чем так важна твоя роль. Ты молодец. Впереди – много благородной, созидательной работы.
И какое это искажение, сбой в системе – считать, что беременность, роды и молоко – это главы, которые не жалко пропустить, что это страницы, которые мужчине можно пролистать. Которые всегда будут важны только женщине. Что в отношения можно вернуться только пару лет спустя, когда ребёнок подрос.
Будешь вспоминать месяцы, когда осталась с грудным ребёнком одна, как самые важные в жизни. Сюжето-образующие. Личность-формирующие. Душу-раскрывающие. Сознание-расширяющие. Возможности-дарящие.
Материнство – это сила, радость и свет. Свет, сила и радость. Радость, свет и сила.
В школьной раздевалке
Мы с Д. познакомились, когда мне ещё было тринадцать, он был немного старше. Мы вешали мешки для физры в одной школьной раздевалке. А потом как-то встретились глазами и разговорились.
И стали дружить. Это был возраст и время, когда отношения просты. Моя дочка С. утверждает, что взрослым подружиться трудно, а детям достаточно заговорить друг с другом. Так и случилось с нами, в какой-то позапозапрошлой жизни.
Всё, что царило тогда в нашей распускающейся подростковой вселенной, было выражено музыкой. Клипы на MTV, группы «Blur», «Radiohead», «Smashing Pumpkins», «Faith No More», «Garbage», «Red Hot Chili Peppers». Мы много пели, мы запоминали слова наизусть, мы разрешали этим мелодиям определять нас и менять наше сознание, мы были гибкими, как растопленный пластилин.
Жадно взрослеешь, стремишься как можно скорее обрести независимость, вырваться из родительского гнезда, найти собственный мир и систему координат, а потом – опыт-опыт-опыт, мудрость, уроки, гнев, смирение, переломанные крылья.
И вот взрослой встречаешь того, с кем душа зацепилась ещё в детстве, в начале начал, и хочется плакать.
Я хотела делить с ним наушники.
Так странно. Мы ходим на концерты этих групп двадцать лет спустя в Нью-Йорке. Допустим, на «Radiohead» в Мэдисон-сквер-гарден. Это наш способ прожить те годы, что мы были порознь?
Он – взрослый мужчина с сигаретой в зубах, я – женщина, которая чудом не погибла. Кошка, что исчерпала свои девять жизней, но стала так мудра, что хоть библию пиши, свою, кошачью.
Наш роман вышел рваным и непутёвым, а потом он улетел в Америку. Нам тогда, в школе, было отведено всего три года. И мы встретились снова в следующем веке.
Меня греет мысль, что мы с ним с детства. А с другой стороны, это не имеет значения. Можно всю жизнь за одной партой просидеть и так и не совпасть.
Концерт «Radiohead»
Кстати, после того концерта мы, абсолютно пьяные, горланили песни «Radiohead» в каком-то рандомном баре на 34-й улице.
Во всех барах вокруг Мэдисон-сквер-гардена после концерта «Radiohead» щедро ставили Тома Йорка, вот мы и орали до часу ночи. И танцевали. Нашей раскованностью заразился весь бар, и незнакомые люди тоже пели. Даже видео про нас, психов, сняли.
Это я когда-то дала Д. аудиокассету с их альбомом «The Bends», сердито уверяя, что «Radiohead» лучше, чем «Oasis». Именно эта группа нас соединила, её мы слушали детьми. Наше поколение слушало «OK Computer», изучая слова и последовательности аккордов наравне с науками в школе. Выход этой пластинки совпал с вылетом в открытый космос пубертата.
Том Йорк рос и развивался вместе с нами, как любимый умный старший брат. Вторым таким братом был Дэймон Албарн из «Blur».
Когда я поступила в университет, я так увлеклась электронной музыкой и трансовыми вечеринками, что мне было не до «Radiohead». Потом было техно. Потом мне опостылели танцы, и я снова вернулась к гитарной музыке. Но уже было не до того. Я не могла попасть на концерт Тома Йорка в Праге в 2008-м, потому что только родила и было не до поездок. Я не могла попасть на его концерт в Берлине в 2015-м, хотя уже были куплены билеты, но жизнь диктовала новые правила.
И как-то ни один человек вокруг не догадался, как мне важно было на них всё-таки попасть в этой жизни. А Д. догадался.
«Fake Plastic Trees» из альбома «The Bends». И «Karma Police». И «Exit Music». И «No surprises». И «Idioteque». «There There». «Daydreaming». «The Numbers».
Я даже видео снять толком не смогла, потому что моя душа была слишком занята. А потом мы накидались коктейлями в первом попавшемся баре и пели песни до утра.
А я позже тоже догадалась впервые отвести Д. на концерт Пола Маккартни на стадион «Barclays». Мы сидели так близко, что пели «Hey Jude» и видели мимику сэра Пола. Она была всё та же. Узнаваемая. Он как будто навсегда остался мальчиком.
Сохрани в себе мальчишество
Сохрани в себе мальчишество, my love. Пронеси его морским стёклышком, спрятанным в кармане, через бурю, зной, метель и засуху. Достань его в конце странствия и дай мне увидеть: оно всё ещё с тобой, оно ни на минуту тебя не покидало.
Береги этот изумрудный камень в сердце, как ребёнок бережёт вовсе не дорогую гоночную машину в пластиковой упаковке, а шишку, палку и ракушку – находки, добытые самостоятельно в диалоге с миром, подаренные природой.
Твоё мальчишеское – клад. Вижу искры озорства в твоих больших глазах, несмотря на седину у висков. Такие же точно, какие я улавливала в твоём взгляде в девятом классе. Во дворе около школы. Когда мы ловили снежинки ртами. Сохрани в себе худенького, ранимого, ласкового, колючего мальчика с запада Москвы.
Эти преображения вечером дома – из делового джентльмена в костюме-тройке тонкой шерсти в дурашливого шалопая в клетчатых пижамных штанах. Эти танцы со шваброй под треки Канье Уэста. Наша эйфория перед сном, когда смеёшься, пока не выключится сознание.
Сохрани в себе мальчишеское, даже когда судьба заставит взрослеть.
Даже когда она навесит грузы ответственности на твои плечи и прикажет действовать увереннее, быстрее и жёстче. Думать об инвестициях, фьючерсах и налогах. Когда бахнет коронавирус. Когда в тебе проснутся все разом предки по мужской линии и захочется стукнуть кулаком по столу. Когда придёт время выбирать, как надо действовать, чтобы не ударить в грязь лицом, и как стоит жить, чтобы не было потом мучительно стыдно.
А ты закрой глаза, вспомни о стёклышке на дне кармана джинсов и спроси себя четырнадцатилетнего с плеером, двенадцатилетнего с мячиком, пятилетнего с мамой за ручку: как он там?
Как вырасти из мальчика в мужчину и не потерять связи с собой? Как не затвердеть, не утратить чувствительности, не стереть способности слышать и слушать. Сопереживать. Владеть эмпатией как инструментом.
Сохрани в себе мальчишеское. Обнаружь его в песке на пляже Южной Каролины, куда я уехала от тебя в командировку и скучаю, донеси в кармане до дома, положи в коробку, спрячь на далёкую полку и храни – до мига, когда судьба заставит взрослеть.
Оголяясь перед ним
Она вообще существует? Любовь, от которой не больно?
Это правда, что, любя, мы непременно страдаем? Живём на самом изломе, на острие ножа? Что мы не можем иначе?
Оголяясь перед человеком, мы снимаем с себя защитные оболочки. Отдаваясь ему эмоционально, рискуем получить удар прямо в сердце. Занимаясь с ним сексом, сбрасываем заслонки, кожа к коже, и моментально входим в зону предельного риска – уязвимости.
Каким ты выберешь быть со мной? Какой я выберу быть с тобой?
Элинор
Жизнь вдали от семьи и от родного города, как бы ты ни старалась, оборачивается подсознательным стремлением обрести маму, какой-то её суррогат. А может быть, жизнь и вовсе является таким стремлением, и преуспевающим в ней считается тот, кто быстрее справился с этим неизбывным комплексом ребёнка в поисках чьего-то там безусловного принятия и понимания.
Как бы то ни было, в Нью-Йорке меня магнитом притянула к себе Элинор Стейнберг. Она годилась мне в матери. Она была психотерапевткой, которую я никогда не смогла бы себе позволить: такие дают консультации за тысячи долларов, а их клиентами становятся кандидаты в президенты, главы корпораций-монстров и их холёная родня.
Но я знала, что придумаю способ связать с ней судьбу, задолго до переезда в Америку, когда ещё в Москве прочитала её первую статью. Тогда переводную, на русском.
Элинор писала о сложном – о дисфункциональных отношениях, когда ты в них уже живёшь, находишься внутри и не можешь выйти. Она писала о нарциссическом расстройстве личности. Она умела быть лучом света, разрезающим непроглядную тьму, и я была её поклонницей.
Я представляла себе, что слышу её успокаивающий голос и рассудительный тон, когда читала перед сном написанные ею, наполненные поддержкой строки о ссорах, вспыхивающих как спички; о резкостях, брошенных друг другу за помпезными семейными ужинами даже в самых роскошных домах; о нарциссизме, рядом с которым, по её мнению, можно научиться жить, но он ранит при этом до крови.
Когда я устроилась работать журналисткой в Нью-Йорке, я стала искать возможность погрузить свой любопытный нос в мир Элинор под профессиональным предлогом. Предлог обнаружился – мне надо было снять очерк о психологах, и я попросила её о короткой реплике для видео. Сердце забилось быстрее, когда я нашла контакты и поняла, что она теперь – в нескольких станциях метро от меня.
Почему она согласилась дать мне интервью? Я до сих пор не знаю. Элинор была закрытой для журналистов. Но в своём письме я написала ей честно, что её тексты помогли мне уехать не оглядываясь. Что в моей жизни были долгие месяцы серого неба над Москвой, а её статьи – тем единственным, что согревало и заставляло просыпаться утром. Даже во время депрессий. Я рассказала, как читала их в далёком российском городе и они тысячу раз объяснили мне трудное.
Так тихим холодным майским полднем обыкновенного нью-йоркского вторника я, в красном пальто поверх белоснежной футболки, оказалась в её чудесном доме в районе Верхний Уэст-Сайд. Она открыла двери сама. Окна монументального трёхэтажного браунстоуна смотрели на Центральный парк, на его медитативную, нетуристическую северную часть; по дорожкам стремились вдаль бегуны в ярких кроссовках.
Кабинет Элинор был с пола до потолка уставлен книгами, а сама она сидела у зажжённого камина в старинном кресле, на её плечи была накинута зелёная шерстяная шаль. Шаль контрастировала с копной рыжих кудрей и жемчужной кожей. Из-за очков на меня смотрели озорные зелёные глаза американской шестидесятницы, пропустившей через сознание эпоху психоделиков и хиппи; от неё веяло свободой, вечным иммунитетом к старости.
Читая умные, чуткие и тёплые статьи Элинор Стейнберг в Москве, я и представить себе не могла, что столкнусь нос к носу с 63-летней красавицей и путеводной звездой, которая обнимет меня при встрече, как подругу. Предложит занять удобное место в её дамблдорском кабинете, сделает нам с оператором кофе в хрупких итальянских чашках и, когда мы включим камеру, начнёт разговор со мной, как волшебник Изумрудного города с Элли. В ней тоже был гипноз, но она, в отличие от него, не была мошенницей.
В старой нью-йоркской квартире, наполненной учебниками по психиатрии и психологии, в ламповом мире американской учёной леди с заветными буковками «PHD» на двери мне будто открылся портал в другое измерение. Где человек родительского поколения чуть ли не впервые за всю жизнь говорил со мной на языке, в котором не было ни обвинений, ни осуждения, ни долженствований, ни непонимания, ни испуга.
Элинор смекнула, что я пришла к ней как журналистка только формально. Она догадалась, что у меня много более глубоких вопросов к ней, по тому, как я взяла кофе из её рук. И она лечила меня словами. Объясняла, слушала, рассказывала истории женщин, которых судьба столкнула с нарциссизмом: о жёнах влиятельных брокеров с Уолл-стрит и обладателей трастовых фондов, о судьбах художников, актёров, писателей, учёных, бизнесменов, юристов.
Все они тоже не сразу знали, как вести себя в ситуации, когда партнёр резко меняет поведение от приторно-сладкого до режуще-ледяного. Спина многих, как и моя, изогнулась за годы в уродливую закорючку знака вопроса, несмотря на ум, талант и статус. Элинор говорила, что считывает клиентов сразу же, когда они входят в её прекрасный старый дом, видят книги, камин и зелёную шаль, когда им предлагают устроиться поудобнее.
Во мне же она увидела себя в молодости. Она сказала: я узнаю тревогу в твоём сердце, я понимаю, какой ценой тебе дался мажор. Я спросила её, почему она занимается нарциссическим расстройством личности, ведь ни один человек не выберет эту тему просто так. А она ответила, что такой была её мама и её первый муж. Она хотела разобраться в самых близких людях, которые резали её как хорошо отточенными ножами. И стала самым сильным в Нью-Йорке терапевтом по этой теме.
Так вместо короткого видео я получила полтора часа интимного разговора о том, что прежде хранилось для меня под замком, я получила сессию, которая стоила миллион долларов. Разговор о тайнах за семью печатями. Полмира пролететь, чтобы в каменном доме около Центрального парка найти родственную душу – и она внезапно утешит, как несуществующая идеальная мама, эталонный психотерапевт, который накроет меня принятием, зелёной шалью покоя и безопасности.
Скажет: пережитое было нормальным.
Скажет: ты никогда не была виновата.
Скажет: теперь тебе обеспечен полёт.
Элинор смеялась, ставила песню «I’ll do it my way» Фрэнка Синатры и говорила, что это гимн всех нарциссических личностей мира. Она околдовала меня умом и иронией. Именно она и сняла с меня окончательно заклятие прошлой жизни. И, выйдя из её дома тем холодным майским утром, я расправила плечи и поняла, что готова к другой версии любви.
Видео с синхроном Элинор вышло через две недели, из полутора часов в интервью вошло только несколько минут, но я и не переживала. Мне, наоборот, жадно хотелось оставить её слова себе. Эта украдкой вырванная у судьбы терапевтическая сессия с самой могущественной ведьмой мира была только моей, рыжеволосая и зеленоглазая Элинор улыбалась в то утро одному человеку, её слова больше никому не нужны были так.
А спустя месяц я получила от Элинор письмо. Она сообщала, что ей хотелось бы стать моим другом и что она была бы рада прогулке по Центральному парку в компании мужей. Что она мечтает познакомиться с моим Д. Что общение могло бы стать интересным приключением для всех. Послание заканчивалось словами: «Хочу пожелать тебе никогда больше не подвергать себя сомнению». Я не волшебница, Элинор, только учусь. Но, кажется, у меня получается. Например, у меня появилась такая подруга.
Как разъярённая волчица
Быть женщиной. Говорили – быть нежной, полупрозрачной, шёлковой, чтобы голос мурлыкающий и вечно волшебное настроение, чтобы прикосновение твоё было словно кончиком пёрышка по коже, вставшей пупырышками.
Оказалось, быть женщиной – это уметь давать отпор и говорить «нет», сжимать кулак, даже если и внутри кармана в данный момент. В Америке используют классное прилагательное tough – «таф»: быть сильной, жёсткой, быть, если нужно, злой, стоять за себя, защищать, отпугивать идиотов сурово изогнутой бровью. Знать свои границы.
Говорили, быть женщиной – это искать и успешно находить себе любимого. Чтобы ласковый был и добрый, чтобы, как обещала моя мама, «хороший мальчик», книги, там, на полках, правильная кассета в плеере, и чтобы не курил сигареты, и разговаривал учтиво, чтобы было на чью широкую грудь положить вечером голову.
Оказалось, быть женщиной – это уметь справляться даже с самым сложным и скалиться, как разъярённая волчица, если того требуют обстоятельства, получать удовольствие и даже удовлетворение от самой себя, зажигать вечером душистую свечку и бесстыже кайфовать, даже если нет никого, кому положить голову на грудь.
Говорили, быть женщиной – это материнство, мол, придёт день, и станешь мамочкой. При папочке. Нет же для женщины дня счастливее, и проснёшься в роддоме королевой: я смогла, инициация пройдена, и теперь весь мир падёт к моим ногам, я привела в этот мир человеческую душу, преклоните колено, как перед Кхалиси, подарите бриллиант.
Оказалось, материнство – это знать, что каждый час, каждую минуту и секунду этой жизни ты можешь остаться с ребёнком одна, наглухо ненужная второй половине события, просто так это устроено, and that’s the way it is[1]1
Ничего не поделаешь. Здесь и далее пер. с англ.
[Закрыть]. Материнство – это умение замкнуть на себе обе энергии, мужскую и женскую.
Говорили, быть женщиной – это вечно присутствовать таинственным гулким эхом, уметь соответствовать, эффектно оттенять, подчёркивать его достоинства, быть спутницей, подругой жизни и элитным выбором.
Оказалось, быть ей – дорога рыцаря, путь самурая. Пусть и бархатного временами, и с нежным голосом, и пёрышком по коже тоже можем. Было бы желание. И цель.
Холодное сердце
Память рисует зиму в Москве, серую мглу во дворе, мою белую замёрзшую за ночь машину. Я завожу её, чтобы грелась, сажаю четырёх-, пяти-, шестилетнюю дочку С. на заднее сиденье в детское кресло, включаю ей саундтрек из «Холодного сердца» и сцарапываю толстую наледь с лобового стекла.
Как много раз мы оставались одни. В холоде новогодней Москвы, укрываясь мамско-детскими объятиями, как тяжёлым пуховым одеялом. Помнишь, такое, особенно тёплое, бордовое, доставала из шкафа бабушка ближе к декабрю, и ты сама ребёнком в нём будто бы утопала?
Ты уже не ребёнок, ты мама, и пуховое одеяло – это та важная эмоция, оставшаяся в родном городе, интимная, шёпотом, серебряной ниточкой зимы, связью мамы и дочки, живущих большую часть времени вдвоём. Мир одной маленькой семьи, так долго продержавшейся молодцом на девчачьих ногах. Розовые детские зимние сапоги-дутики на липучках.
Мы несёмся по январской Москве, открыв окна автомобиля, и горланим «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце». Хочу никогда не забыть, как много магии я высекла сама из себя тогда, будучи одинокой мамой в Москве десятых годов.
Символом свой одинокости тогда назначаю лязгающее техно в клубе «Солянка» – единственную вечеринку, куда я умудрилась выбраться на два часа за два первых года. Когда малышка достаточно подросла, чтобы я иногда могла оставить её у родителей. Помню своё материнское откормившее тело на танцполе и недоумение в каждом его мускуле – привычные когда-то движения стали мне будто бы малы, я выросла из тех ритмов, которые нравились мне до родов. Я тогда пыталась как-то подобрать пароль к старым ощущениям, но не смогла. Те ощущения больше не работали. В итоге я замерла одна посреди этих танцев, пробралась к выходу через толпу, а потом вышла из громыхающего клуба, поймала такси и поехала к ребёнку. И слушала по дороге домой «Отпусти и забудь» в плеере. Я тогда отчётливо поняла, что слишком сильно изменилась и искать счастье по старым адресам бесполезно.
Символом своей неодинокости назначаю момент, когда я приехала той ночью домой и посмотрела в кроватку, где спала моя дочка. Почему не пишут книги о том, как много ярчайшего, насыщенного, ядрёного удовлетворения в той любви, которую приносит материнство, пускай даже и без партнёра в данный период жизни? Почему так клеймят этот и без того робкий, чудесный свет, который возникает в маленькой семье, где один родитель?
И даже если опять плачешь, ты видишь своего ребёнка, уже проснувшегося, прибежавшего с утра показать тебе рисунок, например с принцессой Эльзой – и боль как будто заливает теплом, и подступившие слёзы уходят.
Всесильные чары, невидимые никому в эти полярные ночи. Только тебе и твоему ребёнку. Только мамы-воины знают, какова реальная цена материнскому намерению во что бы то ни стало защитить.
Чего бы это ни стоило, показать жизнь всё-таки волшебной, полной тепла, смеха. А не жестокости, глупости и бесстыжего равнодушия. Только мамы, которые оставались с детьми вдвоём, ощущают, какова реальная цена партнёрству.
Не такому, которое давно мёртво и пытается притворяться живым. Которого и не было никогда. А такому, из которого рождается семья. В ней сердца этих двух девочек и правда оттают. Сколько доверия и беззащитности было в наших с дочкой взглядах тогда и сколько уверенности – сейчас.