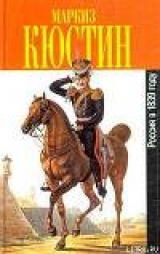
Текст книги "Россия в 1839 году"
Автор книги: Астольф де Кюстин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 39 страниц)
Быть может, я не испытываю достаточной благодарности за те показные заботы, какими русские окружают всякого известного чужестранца; просто я вижу их потаенные мысли и, сам того не желая, говорю себе: все это усердие – проявление не столько благожелательства, сколько скрытого беспокойства. Они хотят, следуя благоразумному предписанию Мономаха,[50]50
См. эпиграф к книге и «Краткий отчет о путешествии».
[Закрыть] чтобы чужеземец удалился из страны довольный.
Не то чтобы русскую нацию в целом заботило, что о ней говорят и думают, нет; но несколько самых влиятельных родов снедаемы ребяческим желанием перекроить европейскую репутацию России.
Заглядывая еще дальше, приоткрывая завесу, какой любят здесь окутывать любые предметы, я обнаруживаю вкус к тайне ради самой тайны; это результат привычки и сложившихся нравов… Сдержанность здесь в порядке вещей– как неосторожность в Париже.
В России повсюду властвует секрет – административный, политический, общественный; скрытность, полезная и бесполезная, умолчание об излишнем ради того, чтобы умолчать о необходимом, – таковы неизбежные плоды исконного характера этих людей, упроченного воздействием здешнего образа правления. Всякий путешественник нескромен; за иностранцем с его вечным любопытством надобно наивежливейшим образом приглядывать – иначе он, чего доброго, увидит вещи такими, каковы они есть, ведь это было бы в высшей степени неприлично. Короче, русские – это переряженные китайцы; они не желают сознаваться, что питают отвращение к наблюдателям из дальних стран, но если бы, подобно настоящим китайцам, осмелились пренебречь упреком в варварстве, въезд в Петербург был бы нам заказан точно так же, как в Пекин: русские принимали бы к себе только мастеровых людей, стараясь затем не отпустить работника обратно на родину. Вы сами видите, отчего хваленое русское гостеприимство кажется мне не столько лестным или трогательным, сколько досадным; под предлогом покровительства меня связывают по рукам и ногам; но из помех разного рода невыносимее всего кажется мне та, на которую жаловаться я не вправе. Благодарность, которую я испытываю за усердную заботу, предметом коей себя ощущаю, есть благодарность насильно завербованного солдата: я, человек прежде всего независимый, то есть путешественник, все время чувствую на себе иго – моим мыслям стараются придать определенное направление… Здесь не ведают ничего, кроме учений, и умы совершают маневры наподобие солдат; всякий вечер, возвращаясь к себе, я себя ощупываю, чтобы понять, какой на мне мундир, и делаю смотр своим мыслям, выясняя их звание, ибо в этой стране все идеи разбиты на классы в зависимости от положения человека: находясь в определенном звании, человек видит – или притворяется, что видит, – вещи определенным образом, и чем выше этот человек поднимается, тем меньше он думает, иными словами, тем меньше осмеливается говорить. Я всеми силами избегал завязывать с вельможами дружеские узы и рассмотрел как следует только двор; мне не хотелось утратить свои права независимого и нелицеприятного судьи, я боялся обвинений в неблагодарности или в неверности; более же всего я боялся, как бы ответственность за мои личные мнения не легла на местных жителей. Но при дворе я произвел смотр всему обществу.
Первое, что поразило меня, – это приверженность французскому тону при отсутствии духа французской беседы. Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастический, насмешливый; в непринужденной беседе он показался бы мне забавным, но никогда не внушил бы мне ни чувства безопасности, ни расположения к себе. Однако ум свой русские также скрывают от иностранцев. Поживи я здесь подольше, я бы сорвал маски с этих кукол: мне тошно смотреть, как они повторяют все французские ужимки. В моем возрасте у притворства уже ничему не научишься; только одна правда интересна всегда, ибо дает знание; только она всегда нова. Потому-то я и старался как можно реже прибегать к гостеприимству людей из высшего света; с меня вполне хватило неизбежного гостеприимства чиновников и служащих всякого звания; мне отвратительна их слежка, которую они пытаются приукрасить патриархальным названием, – это чистое лицемерие. Скажите, ведь есть же страны, где гостеприимство еще не превратилось в неизбежный налог! когда его оказывают там, оно ценится как особая милость. Я с самого начала приметил, что всякий русский простолюдин, от природы подозрительный, ненавидит чужестранцев по невежеству своему, вследствие национального предрассудка; затем я обнаружил, что всякий русский из высшего сословия, не менее подозрительный, боится их, потому что почитает за врагов; он заявляет: «Все эти французы и англичане уверены, будто превосходят остальные народы», – русскому для ненависти к иностранцу достаточно одной этой причины; подобным образом во Франции провинциал опасается парижанина. Большинством русских в их отношениях с жителями других стран движут дикая ревность и ребяческая зависть, которые, однако, ничем нельзя обезоружить; и поскольку эту нерасположенность к общению вы ощущаете повсюду, то в конце концов, хоть и не без сожаления, сами начинаете испытывать то же недоверие, какое внушаете другим. Вы заключаете, что если доверие неизменно остается односторонним, то это уже смахивает на обман, и с этой минуты становитесь холодны и сдержанны, подобно людям, в сердцах которых вы читаете помимо своей и их воли. Во многих отношениях русский характер – полная противоположность немецкому. Именно поэтому русские утверждают, что они похожи на французов; но подобие здесь чисто внешнее: души их, в глубине своей, нисколько не близки. Вы можете, коли вам так нравится, восхищаться в России восточной пышностью и величием, можете изучать греческое коварство, – но остерегайтесь искать там галльской непосредственности, общительности, любезности, естественной для французов; признаюсь, еще меньше обнаружите вы здесь германского чистосердечия, основательности в знаниях, отзывчивости. В России вы встретите доброту, ибо она есть повсюду, где живут люди, – но никогда не встретите добродушия.
Всякий русский – с рождения подражатель, а значит, прежде всего человек наблюдательный; скажу честно, нередко сей дар, свойственный народам в их детском возрасте, вырождается у русских в довольно подлое шпионство; отсюда докучливые, невежливые вопросы, которые они задают и которые в устах людей, что сами неизменно замкнуты и отвечают одними лишь увертками, кажутся совершенно неуместными. Я бы сказал, что здесь даже в дружбе есть что-то от слежки. Как же не быть начеку, имея дело с людьми столь осмотрительными и скрытными во всем, что касается их самих, и столь дотошно выпытывающими все о других? Когда б они заметили, что вы обходитесь с ними естественнее, нежели они с вами, они бы решили, что им удалось вас обмануть; остерегайтесь же обнаруживать перед ними свою непосредственность, выказывать им доверие: люди, лишенные чувств, развлекаются, наблюдая за переживаниями других; но я не люблю, когда меня используют для подобного рода забав. Смотреть, как мы живем, – для русских величайшее удовольствие; если им позволить, они бы наслаждались, читая в наших сердцах, разбираясь в наших чувствах – словно на представлении в театре.
Чрезвычайная недоверчивость всех, с кем имеете вы здесь дело, независимо от сословия, – напоминание о том, что вам следует держаться настороже: по страху, внушаемому вами, вы можете судить об опасности, которой подвергаетесь. На днях один трактирщик в Петергофе потребовал с наемного слуги, собиравшегося отнести скверный ужин в мою актерскую ложу, деньги вперед. Заведение сего предусмотрительного человека находится, заметьте, в двух шагах от театра. Одной рукой вы подносите еду ко рту, а другой должны за нее заплатить; если вы закажете что-нибудь у купца, не дав задатка, он решит, что вы шутите, и ничего для вас не сделает; никто не вправе выехать из России, не предупредив о своих планах всех кредиторов, иначе говоря, не объявив о своем отъезде через газеты трижды, с перерывом в неделю. Следят за этим строго – правда, если заплатить полиции, этот срок можно сократить, но одно или два объявления в печати появиться должны непременно. Без свидетельства властей, удостоверяющего, что вы никому ничего не должны, вам не дадут почтовых лошадей.
Подобные предосторожности выдают царящую в стране всеобщую недоверчивость; а поскольку до сих пор русским редко лично приходилось общаться с чужестранцами, обучиться хитрости им было не у кого, кроме себя самих. Опыта они набрались в общении друг с другом. Эти люди не дадут нам забыть остроту, произнесенную их любимым государем Петром Великим: «Чтобы обмануть одного русского, потребны три жида». Здесь вы на каждом шагу сталкиваетесь с теми византийскими интригами в политике, что были описаны историками времен крестовых походов и снова обнаружены императором Наполеоном в императоре Александре, про которого он частенько говаривал: «Настоящий византиец!..»
С людьми, чьи наставники и образцы для подражания всегда были враждебны рыцарству, не следует, по возможности, вести вообще никаких дел; умы их – рабы собственной корысти, зато безраздельные господа своему слову; не устаю повторять: до сих пор во всей Российской империи лишь один-единственный человек показался мне искренним – государь император. Говоря по правде, самодержцу откровенность обходится дешевле, нежели его подданным. Изъясняясь без обиняков, он являет свою власть; если абсолютный монарх лжет, он от власти отрекается.
Но ведь несть числа тем, кто небрег в этом отношении и всесилием своим, и достоинством! Души подлые никогда не считают, что ложь ниже их достоинства, а значит, даже человеку всемогущему нужно быть благодарным за его искренность. В императоре Николае откровенность сочетается с учтивостью; два этих качества, взаимоисключающие у простонародья, отлично подкрепляют друг друга у государя. У тех из вельмож, кто имеет хорошие манеры, доведены они до совершенства: в этом можно всякий день убедиться в Париже и в иных местах. Но светский русский, не достигший настоящей учтивости, то есть легкости в изъявлении неподдельной любезности, душою настолько груб, что из-за ложного изящества его поведения и речей это возмущает вдвойне. Русские эти, дурно воспитанные, но уже хорошо обученные, хорошо одетые, решительные, самоуверенные, следуют по пятам за европейцами и превращают их изысканность в карикатуру, ибо не ведают, что изысканность в привычках ценна лишь постольку, поскольку возвещает нечто лучшее в сердцах людей, ею наделенных; ученики в мастерской моды, они принимают видимость вещи за нее саму; глядя на этих дрессированных медведей, я сожалею о медведях диких – русские покуда еще не просвещенные люди, но уже испорченные дикари.
Раз уж Сибирь существует, и ей по временам находится известное вам употребление, то мне бы хотелось переселить туда молодых скучающих офицеров и красавиц с расстроенными нервами. «Вы испрашиваете паспорт в Париж, так вот вам паспорт в Тобольск».
Я бы хотел, чтобы император прописал именно такое лекарство от мании путешествовать, которая с пугающей быстротой распространяется в России среди подпоручиков с воображением и ипохондрических дам. Когда бы он одновременно перенес столицу империи в Москву, он бы исправил зло, причиненное Петром Великим, – насколько один человек в силах умерить заблуждения нескольких поколений.
Петербург был возведен не так для России, как против шведов, и должен был стать всего лишь одним из морских портов, русским Данцигом; вместо этого Петр I выстроил для своих бояр ложу с видом на Европу; заперев в бальной зале своих скованных по рукам и ногам вельмож, он позволил им издали и с завистью взирать в лорнет на цивилизацию, усвоить которую им было запрещено: ведь заставлять копировать – значит мешать сравняться с оригиналом! Потом он заявил им: «Под страхом смертной казни вы будете называть меня Петром Великим, ибо это я принес вам цивилизацию – ценою жизни моего народа и моего сына!» Во всех предприятиях своих Петр Великий совершенно небрег человечностью, временем и природой. Подобное заблуждение, отличающее упрямую и всевластную посредственность, другими словами, тиранию, чьей печатью заблуждение это неизбежно отмечено, непростительно для человека, почитаемого своим народом за гения-творца. Чем дольше всматриваешься в Россию, тем крепче утверждаешься во мнении, что государя этого превозносили сверх меры все, даже и иностранцы; избыток восхищения может лишить потомков чувства справедливости. Когда бы царь Петр был так превосходен, как рассказывают, он избегнул бы неверного пути, на который толкнул свой народ, он бы предвидел, какой легковесности в мыслях и поверхностности в образовании обрек он его на века, и возненавидел бы эти роковые свойства. Возможно ли простить ему издержки его деспотического правления – ему, повидавшему Европу XVIII столетия?
Своими преимуществами он воспользовался не столько как законодатель, сколько как тиран, перемесив всю нацию по прихоти своей воли. К несчастью, то оказалась воля скорее кудесника, нежели человека обширного и основательного ума. Великие люди отнюдь не отменяют прошлого ради созидания будущего; они считаются с прошлым, дабы в чем-то изменить его последствия. Русским надобно не обожествлять, как прежде, этого ненавистника их натуры, а осыпать его упреками, ибо по его вине они лишены какого-либо характера; именно его влияние, затянувшееся из-за бездумного восхищения потомков, и поныне мешает им породить в области искусств и наук такого человека, чья слава прогремела бы среди чужеземных народов.[51]51
Русские во всем поверхностны и глубоко овладели лишь искусством притворства.
[Закрыть] Законодатель вроде Конфуция не мог прийти на смену такому реформатору, каков был саардамский плотник и придирчивый путешественник, на чье варварство тогдашняя Европа взирала с ужасом, хотя и восхищаясь той сверхъестественной силой, что скрывалась под этой грубой оболочкой. Сей венценосный миссионер на какой-то миг подчинил себе природу, ибо это он умел, но этим его умения и исчерпывались… Когда бы он и в жизни был тем, чем предстал в истории из-за народных суеверий и писательских преувеличений, как бы он поступил? он бы выждал; и терпеливостью своей заслужил звание великого человека. Петр же предпочел обзавестись сим званием загодя и заставить при жизни причислить себя к лику святых. Все идеи его, равно как и недостатки характера, из которых идеи эти вытекали, были раздуты еще сильнее в последующие царствования; император Николай первым начинает идти против течения, возвращая русских к самим себе. Мир придет в восхищение от подобного предприятия, когда поймет, сколь мощный и несокрушимый ум замыслил его. Воссоздавать из той России, какой оставил ее император Александр, после таких царствований, каковы были царствования Екатерины и Павла, – русскую империю, говорить и думать по-русски, признаваться, что ты русский душою, оставаясь притом во главе двора, где вельможи наследуют фаворитам Северной Семирамиды, – это ли не доблесть!.. Осуществится подобный план или нет, он принесет славу тому, кто его начертал. У царских придворных нет никаких признанных, обеспеченных прав, это верно; однако в борьбе против своих повелителей они неизменно берут верх благодаря традициям, сложившимся в этой стране; открыто противостоять притязаниям этих людей, выказывать на протяжении длительного уже царствования то же мужество перед лицом лицемерных друзей, какое явил он перед лицом взбунтовавшихся солдат, есть, бесспорно, деяние превосходнейшего государя; эта борьба повелителя одновременно против свирепых рабов и надменных придворных – красивое зрелище: император Николай оправдывает надежды, зародившиеся в день его восхождения на престол; а это дорогого стоит – ведь ни один государь не наследовал власти в более критических обстоятельствах, никто не встречал опасности столь неминуемой с большей решимостью и большим величием духа!..
После мятежа 13 декабря г-н де Ла Ферронне воскликнул: «Я сейчас видел цивилизованного Петра Великого!» – слова его имели немалое значение, ибо в них была немалая доля истины; наблюдая, как тот же человек настойчиво и неустанно развивает у себя при дворе идеи национального возрождения, притом без всякого чванства, без всякого шума и насилия, можно с еще большим правом воскликнуть: «То возвратился Петр Великий, дабы исправить зло, причиненное Петром Слепым».
Намереваясь судить о государе этом со всей возможной беспристрастностью, я обнаружил в нем столько похвального, что не позволяю говорить о нем ничего такого, что могло бы поколебать меня в моем восхищении. Бедные правители подобны статуям: их изучают столь придирчиво и тщательно, что малейшие недостатки, поименованные критикой, затмевают в них самые редкие и неподдельные достоинства. Но чем сильнее восхищаюсь я императором Николаем, тем несправедливее становлюсь, быть может, в отношении царя Петра. Однако ж я, как могу, стараюсь оценить те усилия воли, благодаря которым он сумел поставить на болоте, замерзающем на восемь месяцев в году, такой город, как Петербург. Впрочем, едва, на свою беду, вижу я перед собой какой-нибудь из тех жалких пастишей, которыми одарила Россию страсть Петра к классической архитектуре, разделяемая и его преемниками, как чувства мои и вкус восстают и все, чего я достиг посредством рассуждений, идет насмарку. Античные дворцы служат казармами для финнов; римские колонны, карнизы, фронтоны и перистили из белого гипса разбросаны под полярным небом, и при том каждый год их все надобно полностью обновлять, – согласитесь, что от такой пародии, от такой Греции и Италии без мрамора и солнца во мне вполне может снова вспыхнуть гнев; впрочем, я с тем большим смирением отказываюсь называться беспристрастным путешественником, что убежден, что имею на это право. Грозите мне хоть Сибирью, я все равно не устану повторять: когда постройке в целом недостает здравого смысла, а отдельным деталям ее – законченности и соразмерности, это невыносимо. В архитектуре гений призван отыскать наикратчайший и наипростейший способ приспособить здания к тому употреблению, к какому они предназначаются. Так скажите же на милость, чего ради в стране, где девять месяцев в году жить можно лишь при герметически закупоренных двойных стеклах, некие здравомыслящие люди нагромоздили такое количество пилястров, аркад и колоннад? В Петербурге надо было бы гулять, укрываясь за крепостными валами, а не за воздушными колоннадами. Не лучше ли вам построить туннели и сводчатые галереи – они бы служили вашим дворцам прихожей, передовым укреплением, защитой?[52]52
См. описание Москвы.
[Закрыть] Небо враждебно вам, так избегайте самого его вида; вам не хватает солнца – живите при свете факелов; оборонительные укрепления и казематы принесут вам более пользы, нежели открытые всем ветрам гульбища. Со своей южной архитектурой вы являете всем притязание на теплый климат, и от этого еще невыносимей становятся для меня ваши летние дожди и ветры, не говоря уж о тех ледяных иголках, какие вдыхаешь, стоя вашей нескончаемой зимой на вашем великолепном крыльце. Петербургские набережные – одна из прекраснейших вещей в Европе; почему так? потому что роскошь их состоит в прочности. Благодаря гранитным плитам, уложенным на мелководье взамен земли, благодаря вечному мрамору, что противостоит разрушительной мощи мороза, у меня возникает представление о какой-то разумной силе и величии. Великолепные парапеты, в которые заключена Нева, и защищают Петербург от реки, и служат ему украшением. Раз нет у нас почвы под ногами, мы соорудим каменную мостовую и на ней воздвигнем столицу; от этих тягот у нас погибнет сто тысяч человек – а нам и дела нет: зато мы получим европейский город и станем называться великим народом. И здесь, по-прежнему сожалея о том, что слава эта добыта столь бесчеловечной ценой, я не могу помешать восхищаться ею – и восхищаюсь сам, хоть и поневоле!.. Еще меня приводят в восхищение виды, открывающиеся с площади перед Зимним дворцом. Дворец сей возведен на так называемом Адмиралтейском острове; ныне это самый красивый квартал в городе. Вот описание его, сделанное Вебером году, кажется, в 1718-м, – читал я его только у Шницлера, а он не указывает точной даты. «Квартал, смежный с Летним садом, ниже по течению Невы, есть так называемый Адмиралтейский остров, он же Немецкая слобода, ибо там поселилось большинство иностранцев. Первым делом здесь видишь (там, где Мойка вытекает из Невы) большой почтовый двор и здание, построенное для персидского слона, где, однако, позже поместили глобус из Готторпа. В этой части острова, именуемой также Finnische Scheeren, ибо населяют ее по большей части ссыльные из Финляндии и Швеции, находится лютеранская церковь, принадлежащая финнам, и церковь католическая, обе деревянные. Унылые хижины этого квартала походят более на клетки, нежели на дома. Найти здесь нужного вам человека затруднительно, принимая в расчет, что ни одна улица не имеет названия и все они обозначаются по имени какой-либо из живущих на них знаменитостей. Однако ж дома на Миллионной и на набережной Зимнего дворца уже красивы с виду».[53]53
См. «Россию, Польшу и Финляндию» г-на Ж.-А. Шницлера. Париж, изд. Жюля Ренуара, 1835, стр.93 – Должен раз и навсегда заявить, что это прекрасное и полезное сочинение, получившее одобрение в Петербурге, до крайности пристрастно, во всяком случае по форме своего языка: это необходимое условие для человека, желающего, чтобы в России снисходительно отнеслись к тому, что он пишет об этой стране.
[Закрыть]
Вот что являл собою чуть больше столетия назад самый красивый квартал нынешнего Петербурга.
Несмотря на то, что и самые большие здания в этом городе теряются на пространстве, более достойном называться равниной, нежели площадью, сам дворец выглядит внушительно, стиль его архитектуры, восходящий к эпохе Регентства, не лишен благородства, а песчаник, из которого выстроены его стены, приятен для глаз. Александрийская колонна, Главный штаб. Триумфальная арка в глубине полукругом расположенных зданий, кони, колесницы, Адмиралтейство со своими изящными небольшими колоннами и золоченым шпилем, Петр Великий на скале, министерства – те же дворцы, наконец, удивительный храм Святого Исаака, что расположен напротив одного из трех перекинутых через Неву мостов, – все эти памятники, затерянные на просторах одной-единственной площади, выглядят некрасиво, но на удивление величественно… Это застроенное замкнутое пространство и есть так называемая Дворцовая площадь, которая на самом деле состоит из трех сведенных в одну громадных площадей – Петровской, Исакиевской и площади Зимнего дворца.[54]54
Перечень памятников, их размеры и всю техническую сторону дела можно найти у Шницлера, стр. 200
[Закрыть] Я вижу здесь много такого, что заслуживает критики, однако ансамбль этих зданий, хоть и затерянных на просторах площади, вместо того чтобы ее обрамлять, приводит меня в восхищение. Я поднимался на медный купол собора Святого Исаака. Церковь эта – из самых высоких в мире; одни леса ее уже памятник архитектуры. Строительство еще не закончено, поэтому я не могу составить себе представление о том, как она будет выглядеть целиком.
Оттуда виден весь Петербург и прилегающие к нему равнины; везде, сколько хватает глаз, одно и то же; чтобы здесь жить, человек должен постоянно делать над собой усилие. Результат сих невиданных затей, печальный и пышный, отбил у меня вкус к рукотворным чудесам; надеюсь, он послужит уроком для тех государей, которые, выбирая место для возведения своих городов, снова вознамерятся не посчитаться с природой. Нация в целом никогда не впадает в подобные заблуждения, они, как правило, суть плод самодержавной гордыни. Самодержцы полагают, будто в их власти создать нечто великое там, где Провидению не угодно было создавать вовсе ничего; лесть они принимают за чистую монету и мнят себя творцами всего сущего. Менее всего государи опасаются пасть жертвой собственного себялюбия; они не доверяют никому, кроме себя самих.
Я заходил в несколько храмов; церковь Троицы красива, но внутри стены ее голы, как и в большинстве греческих церквей, которые я здесь видел; снаружи соборы, наоборот, выкрашены в лазурный цвет и усыпаны ослепительными золотыми звездами. Казанский собор, выстроенный Александром, обширен и красив; но для того чтобы соблюсти религиозный закон, по которому греческий алтарь должен быть непременно развернут на восток, вход в него сделан с угла. Поскольку улица, именуемая Проспектом, имеет не то направление, какое требуется по этому правилу, церковь поставили наискось; люди искусства потерпели поражение, верх взяли правоверные, и один из красивейших памятников России оказался испорчен в угоду суеверию.
Самая большая и богатая из петербургских церквей – Смольная; принадлежит она общине, своего рода капитулу, состоящему из дам и девиц и основанному императрицей Анной. Размещаются вес эти женщины в нескольких громадных зданиях. Когда обходишь по периметру этот благородный приют, монастырь величиной с целый город, притом с архитектурой, какая пристала больше военному учреждению, нежели духовному ордену, перестаешь понимать, где находишься: перед вашим взором – не дворец и не монастырь: это женская казарма.
В России все подчинено военному положению; армейская дисциплина царит и в Смольном, этом дамском капитуле.
Неподалеку виден небольшой Таврический дворец, выстроенный за несколько недель Потемкиным для Екатерины; дворец этот изящен, но заброшен, а все заброшенное в этой стране скоро ветшает, ибо здесь даже камни крепки лишь до тех пор, покуда за ними ухаживают.
Боковая часть здания целиком отведена под зимний сад; нынче лето, и эта великолепная теплица пустует; думаю, она пребывает в запустении и в остальные времена года. Здесь все дышит старинным изяществом, лишенным, однако, того величия, каким время отмечает все истинно древнее; старинные люстры служат свидетельством тому, что во дворце этом устраивали празднества, что здесь когда-то танцевали, ужинали. Думаю, что бал по случаю бракосочетания великой княгини Елены, супруги великого князя Михаила, – последний из тех, что видел и когда-либо увидит Таврический дворец.
В одном из залов в углу стоит Венера Медицейская – говорят, настоящий антик; вы знаете, что римляне часто воспроизводили этот тип статуи. На пьедестале ее взору вашему предстает надпись, сделанная по-русски: ДАР ПАПЫ КЛИМЕНТА XI ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ I
1717 или 1719 Статуя Венеры, посланная папой римским государю-схизматику, да еще известным образом одетая, – дар необыкновенный, что и говорить!.. Царь, издавна замышлявший увековечить схизму, отобрав у русской Церкви последние свободы, должно быть, улыбнулся, когда получил сей знак благорасположения со стороны римского епископа.[55]55
См. письмо двадцать третье. 12 А. де Кюстин, т. I 353
[Закрыть]
Еще я видел картины, собранные в Эрмитаже, но описывать их не стану, оттого что завтра мне ехать в Москву. Эрмитаж! не правда ли, несколько претенциозное название для царского жилища, расположенного в центре столицы, подле обычного дворца? Из одного дворца в другой попадают по мосту, перекинутому через улицу.
Вам, как и всем, известно, что там собраны сокровища главным образом голландской школы. Но… я не люблю смотреть живопись в России, точно так же, как не люблю слушать музыку в Лондоне, ибо величайшие таланты и возвышеннейшие шедевры там принимают так, что у меня пропадает вкус к искусству. В такой близости от полюса освещение неблагоприятно для картин, а поскольку зрение у всех слабое либо из-за белизны снега, либо из-за слепящих, косых лучей незаходящего солнца, никто здесь не способен наслаждаться волшебными оттенками мастерского колорита. Зал Рембрандта, конечно, восхитителен, и все же мне больше нравятся те полотна этого мастера, что я видел в Париже и в других местах.
Кроме того, заслуживают упоминания полотна Клода Лоррена, Пуссена и несколько картин итальянских мастеров, особенно Мантеньи, Джамбеллини, Сальватора Розы.
Однако собрание это весьма проигрывает из-за большого числа посредственных картин, о которых следует забыть, чтобы получать удовольствие от шедевров. Приобретая картины для галереи Эрмитажа, создатели ее не скупились на имена великих мастеров, но это нимало не мешает подлинным их произведениям быть здесь редкостью; и подобные пышные крестины весьма заурядных полотен исполняют любопытных нетерпения, но не возбуждают у них восторга. Когда в собрании произведений искусства прекрасное соседствует с прекрасным, они подчеркивают друг друга, дурное же соседство наносит шедевру вред: заскучавший судья неспособен выносить суждение – от скуки всякий делается несправедливым и жестоким, Картины Рембрандта и Клода Лоррена производят в Эрмитаже некоторое впечатление только потому, что в залах, где они вывешены, больше ничего нет.
Галерея эта прекрасна, однако, как мне кажется, теряется в городе, где слишком мало людей могут наслаждаться ею. Неизъяснимая печаль царит во дворце, превратившемся в музей после смерти той, что одушевляла его своим присутствием и умела жить в нем с толком. Самодержица эта лучше, чем кто-либо, знала цену приватной жизни и нескованной беседе. Не желая мириться с одиночеством, на которое обрекает всякую государыню бремя ее положения, она смогла сочетать уступчивость в частном разговоре с самовластием в управлении государством – иначе говоря, соединять два взаимоисключающих преимущества; боюсь, однако, что этот своеобразный подвиг принес больше пользы императрице, чем ее народу. Самый прекрасный из существующих ее портретов висит в одном из залом Эрмитажа. Еще я отметил для себя портрет императрицы Марии, супруги Павла I, кисти госпожи Лебрен. Есть здесь античный гений, пишущий на щите, той же художницы. Полотно это – одно из лучших у живописца, чей колорит, не боящийся ни здешнего климата, ни времени, делает честь французской школе. При входе в один из залов обнаружил я за зеленым занавесом то, что вы прочтете чуть ниже. Это распорядок кружка, собиравшегося в Эрмитаже, и предназначался он для тех, кто был допущен царицей в сию обитель имперской свободы…
Я велел дословно перевести мне сей внутренний устав, пожалованный этому некогда сказочному месту по прихоти государыни; его переписывали для меня на моих глазах.
ПРАВИЛА, КОИХ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ВЗОШЕДШЕМУ
1. Всяк, взойдя сюда, да оставит у дверей чины свои и звание, как оставляет он шляпу и шпагу.
2. Все притязания, в основании коих лежит превосходство в рождении, гордыня либо иные подобного же рода чувства, также за порогом должны быть оставлены.
3. Веселитесь; однако ж ничего не бейте и не портите.
4. Сидите, стойте, ходите, делайте все что вам заблагорассудится и ни на кого внимания не обращайте.
5. Говорите воздержно и не чересчур много, дабы не мешать остальным.
6. Споря, не гневайтесь и не горячитесь.
7. Удаляйте от себя вздохи и зевоту, дабы не нагонять скуки и никому не быть в тягость.
8. Коли один из членов общества предложит сыграть в невинную игру, другие должны согласиться.
9. Ешьте не спеша и с аппетитом, пейте воздержно, дабы всякий уходил отсюда своими ногами.
10. Оставьте все ссоры за дверью; прежде, нежели переступить порог Эрмитажа, все, что входит в одно ухо, следует выпустить в другое. Буде кто нарушит вышеуказанный распорядок и два человека будут тому свидетели, то за каждую провинность принужден будет выпить стакан простой воды (не исключая и дам); независимо от того, прочтет он вслух целую страницу из «Телемахиды» (поэма Тредиаковского); тот же, кто в протяжении одного вечера нарушит три статьи сего распорядка, обязан будет выучить наизусть шесть строк из «Телемахиды». Тот же, кто нарушит десятую статью, навеки изгнан будет из Эрмитажа.
Прежде чем прочесть это произведение, я полагал, что ум у императрицы Екатерины был не таким тяжеловесным. Если оно не более чем шутка, то шутка скверная, ибо шутки всегда чем короче, тем лучше. Не менее, нежели безвкусица, явленная статьями этого устава, удивила меня та бережность, с какой здесь хранят его, словно некую драгоценность. Но больше всего насмешило меня в этом своде правил, под стать тем урокам учтивости, что давали своим подданным император Петр I и императрица Елизавета, употребление, какое делается в нем поэме Тредиаковского. Горе поэту, увековеченному государем!








