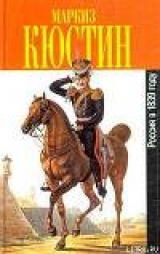
Текст книги "Россия в 1839 году"
Автор книги: Астольф де Кюстин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
Она не может перенести, чтобы император удалился от нее хотя бы на миг. Государи – люди железные!.. Благородная женщина не желает быть подверженной человеческим недугам и иногда мнит, что ей это удается; но из-за недостатка покоя, физического и морального, отсутствия каких-либо регулярных занятий и дел, нехватки сколько-нибудь серьезных собеседников, постоянно возникающей необходимости предаваться положенным ей по рангу развлечениям, – из-за этого всего ее снедает лихорадка; подобный ужасающий образ жизни стал для нее и пагубен, и неизбежен. Теперь она не может ни оставить его, ни выдержать дальше. Ей грозят чахотка, общее истощение, особенно опасаются врачи воздействия на нее петербургской зимы; но ничто не заставит ее провести полгода вдали от императора.[44]44
На следующий год эмсские воды вернули императрице здоровье.
[Закрыть]
Глядя на эту привлекательную, но изнуренную страданием женщину, что бродит, словно привидение, на празднике, который называется ее праздником и который она, быть может, видит в последний раз, я чувствую, как у меня сжимается сердце; и как бы ни ослепляло меня человеческое величие, я обращаюсь мыслью к изъянам нашей природы. Увы! с большой высоты больнее падать. Уже в этом мире люди благородные за один день искупают все лишения бедняка на протяжении всей его долгой жизни.
Неравенство сословий стирается под недолгим, но тяжким гнетом страдания. Время – это всего лишь иллюзия, от которой избавлена страсть; сила чувства, удовольствия или боли – вот мера реальности… Реальность эта рано или поздно приводит к возникновению в самой легкомысленной жизни серьезных идей; но вынужденная серьезность столь же горька, сколь сладостна была бы серьезность иного рода. Будь я на месте императрицы, я бы не согласился, чтобы вчера отмечали мой праздник, – если бы, впрочем, в моей власти было избавить себя от этого удовольствия, навязанного этикетом.
Даже самые высокопоставленные особы не испытывают особого вдохновения, если им положено развлекаться в строго назначенный день. Дата, торжественно отмечаемая каждый год, позволяет лишь острее ощутить ход времени благодаря сравнению прошлого и настоящего. Юбилеи, хоть их и отмечают разного рода празднествами, всегда наводят нас на множество грустных мыслей; едва минет первая молодость, как мы начинаем клониться к упадку; к приходу повторяющегося из года в год торжества у нас всегда оказывается на несколько радостей меньше и на несколько сожалений больше – и сколь же тягостен такой обмен! Разве не лучше было бы позволить дням нашим протекать в тиши? Дни рождения – это тоскливые голоса смерти, эхо времени, что доносит до душевного нашего слуха одни только слова муки. Вчера по окончании бала, описанного мною, был ужин; потом все, обливаясь потом, ибо в помещениях, где теснилась толпа, жара стояла невыносимая, расселись по придворным каретам, именуемым линейками, и поехали в ночной непроглядной тьме, по росе, чья свежесть, по счастью, умерялась горящими лампионами, осматривать иллюминацию. Вы даже представить себе не можете, какая жара струилась по аллеям этого зачарованного леса – настолько нагревают парк бесчисленные фонари, светом которых мы были ослеплены! Линейки представляют собою экипажи с двумя рядами скамей, на которых удобно рассаживаются спина к спине восемь человек; общий их вид – форма, позолота, античная упряжь лошадей – не лишен величия и оригинальности. Это поистине царская роскошь, что для Европы нынче вещь редкостная.
Количество этих экипажей весьма значительно – в нем также проявляется пышность петергофского празднества; их хватает на всех приглашенных, за исключением крепостных и мещан, что ради торжественного случая расставлены по дворцовым залам.
Церемониймейстер указал мне, в какую линейку сесть, но у выхода царил беспорядок и никто не мог попасть на свое место; не обнаружив ни слуги, ни плаща, я в конце концов забрался в одну из последних линеек и уселся подле некоей русской дамы, которая не была на балу и приехала сюда из Петербурга, чтобы показать своим дочерям иллюминацию. Дамы эти, казалось, близко знались со всеми придворными семействами; беседа с ними была откровенной и потому нимало не походила на беседу с людьми, состоящими при дворе. Мать сразу же обратилась ко мне; непринужденность тона и хороший вкус выдавали в ней знатную даму. Тут я вновь убедился в том, что успел уже заметить раньше: если русские женщины не притворяются, то речи их не отличаются ни кротостью, ни снисходительностью. Она перечислила мне всех, кто проезжал мимо нас, – ибо в продолжение этой волшебной прогулки линейки нередко едут друг другу навстречу; половина экипажей движется по одной аллее, тогда как другая половина – по соседней, в противоположную сторону. Аллеи разделены полосою подстриженных деревьев с широкими просветами в форме аркад, так что царственный кортеж производит смотр самому себе.
Когда бы не боязнь утомить вас и, главное, внушить вам своими восторгами известное недоверие, я бы сказал, что никогда не видел ничего изумительнее этих портиков из лампионов; когда вдоль них по парку, столь же заполненному толпой, как минутою прежде были заполнены селянами залы дворца, проезжают в торжественной тишине все придворные экипажи, зрелище это потрясает воображение.
Целый час мы странствовали по зачарованным боскетам; мы объехали вокруг озера, именуемого Марли, что находится у оконечности петергофского парка. Более столетия Версаль и все прочие дивные творения Людовика XIV занимали умы европейских государей. Иллюминация на озере Марли показалась мне изумительнее всех прочих. У самого края водного пространства (я едва не написал «золотого убранства», настолько вода здесь светозарна и блестяща) высится дом, где жил Петр Великий; он тоже освещен фонарями, как и все вокруг. Более всего поразил меня оттенок воды, в которой отражался свет тысяч лампионов, зажженных по берегам этого огненного озера. Вода и деревья сообщают иллюминации дополнительное и необычайное великолепие. Проезжая через парк, мы видели гроты, освещенные изнутри так, что свет преломлялся через пелену воды, падавшую перед входом в сверкающую пещеру; переливы каскада, заслоняющего собою огонь, производили сказочное впечатление. Императорский дворец, возвышаясь над всеми этими удивительными водопадами, предстает как бы их источником; он единственный оставлен неосвещенным; он белый, но благодаря громадному пучку огней, что поднимаются к нему из всех частей парка и отражаются от стен, начинает переливаться разными цветами. В сиянии лучей столь же ослепительных, как лучи солнца, меняют свой цвет камни и зелень деревьев. Ради одного только этого зрелища стоило совершить прогулку в Петергоф. Если когда-нибудь случится мне вновь оказаться на этом празднике, я ограничусь тем, что поброжу пешком по садам.
Прогулка эта, вне всякого сомнения, самое большое удовольствие, какое можно получить на празднике в честь императрицы. Но, повторю еще раз, волшебство еще не веселье: здесь никто не смеется, не поет, не танцует; все говорят тихо и развлекаются с оглядкой; похоже, что подданные русского императора, искушенные в учтивостях, даже и к удовольствию своему относятся с величайшим почтением. Одним словом, в Петергофе, как и повсюду, не хватает свободы. К себе в комнату, то есть в ложу, я вернулся в половине первого. С наступлением ночи любопытные пустились в обратный путь, и покуда сей бурный поток тек у меня под окнами, я сел писать к вам – все равно уснуть посреди подобного столпотворения невозможно. В России шуметь дозволяется только лошадям. Лавина карет самой разной формы и величины и самого разного сорта продвигалась по дороге в четыре ряда сквозь огромную толпу – пеших женщин, детей и мужиков; после условностей царского празднества начиналась естественная жизнь – словно группа узников сбросила с себя оковы. Народ на большой дороге – уже отнюдь не дисциплинированная толпа в саду. Сей вихрь, вновь обретя изначальную дикость и устремляясь с устрашающей мощью и быстротой в сторону Петербурга, напомнил мне картины отступления под Москвой; эта иллюзия усиливалась оттого, что многие лошади по пути падали замертво.
Едва успел я раздеться и броситься на кровать, как уже снова надо было подниматься и бежать во дворец: ожидалось, что сам император будет производить смотр кадетскому корпусу.
С величайшим удивлением я обнаружил, что весь двор уже на ногах и приступил к исполнению своих обязанностей; женщин украшали свежие утренние туалеты, мужчины вновь облачились в костюмы соответственно своим должностям. Все в условленном месте ожидали императора. Нарядная толпа эта горела желанием выказать свое рвение: всяк был так резов, словно ночное великолепие и усталость ложились бременем лишь на одного меня. Я устыдился своей лени и понял, что не рожден быть добрым русским царедворцем. Пусть цепь и позолочена, от этого она не кажется мне легче. Едва успел я пробраться сквозь толпу, как появилась императрица; я еще не занял своего места, а император уже обходил ряды своих малолетних офицеров, императрица же, столь утомленная вчерашней церемонией, ожидала его в коляске посреди площади. Мне было больно за нее, – впрочем, от ее подавленности, поразившей меня вчера, не осталось и следа. Так что жалость моя обратилась на меня самого: я чувствовал, что один измучился за всех, и с завистью взирал, как даже самые престарелые из придворных с легкостью несут тяжкий груз, угнетающий меня. Честолюбие здесь – условие жизни; не будь этой дозы показной деятельности, все оставались бы угрюмыми и печальными. Император громко приказывал ученикам исполнить то или иное упражнение; после нескольких отменных маневров Его Величество выказал удовлетворение: повелев одному из самых юных кадетов выйти из строя и взяв его за руку, он самолично подвел его к императрице, представил ей, а потом поднял ребенка на высоту своей головы, то есть над головами всех окружающих, и прилюдно поцеловал. Какой прок был императору в этот день являть публике подобное добродушие? этого никто не смог или не захотел мне объяснить. Я спрашивал у людей, стоящих рядом со мною, кто блаженный отец сего образцового кадета, столь щедро удостоенного государевых милостей. Никто не удовлетворил моего любопытства; в России из всего делают тайну. После этого прилюдного изъявления чувств император и императрица возвратились в петергофский дворец и в главных его покоях принимали всех, кто пожелал засвидетельствовать им свое почтение, а затем, около одиннадцати часов, показались на одном из балконов дворца, перед которым принялись совершать весьма живописные упражнения на восхитительных азиатских лошадях солдаты черкесской гвардии. Отменно наряженное, войско это своею красотой довершает военную пышность русского двора, каковой, невзирая на все свои усилия и притязания, по-прежнему остается и долго еще пребудет не столько европейским, сколько восточным. Ближе к полудню, чувствуя, что любопытство мое иссякло, и не обладая для восполнения физических сил тем всемогущим подспорьем, каким является придворное честолюбие, совершающее здесь столько чудес, я улегся в постель и только теперь встал, дабы завершить свой рассказ.
Я рассчитываю остаток дня провести здесь, пока не рассеется толпа; впрочем, в Петергофе меня удерживает надежда получить одно удовольствие, которому я придаю большое значение.
Завтра, если будет время, я поведаю вам, чем увенчались мои интриги.
ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ
Коттедж в Петергофе. – Неожиданность. – Императрица. – Ее утреннее платье. – Ее обхождение, выражение лица, беседа с нею. – Наследник престола. – Доброта его. – Вопрос, повергший меня в замешательство. – Как отвечает на него вместо меня великий князь. – Молчание императрицы; его истолкование. – Внутреннее убранство коттеджа. – Полное отсутствие предметов искусства. – Семейные пристрастия. – Стеснительная робость. – Великий князь в роли чичероне. – Изысканная учтивость. – Что такое робость. – В наш век люди от нее избавлены. – Высшая степень гостеприимства. – Немая сцена. – Рабочий кабинет императора. – Маленький телеграф. – Дворец в Ораниенбауме. – Грустные воспоминания. – Маленький замок Петра III, то, что от него осталось. – Как здесь всеми силами скрывают правду. – Преимущества людей темных над великими. – Цитата из Рюльера. – Парковые беседки. – Воспоминания о Екатерине II. – Лагерь в Красном Селе. – Возвращение в Петербург. – Ребяческие выдумки.
Петербург, 27 июля 1839 года
В свое время я беспрестанно упрашивал госпожу *** помочь мне осмотреть коттедж[45]45
Английская хижина
[Закрыть] императора и императрицы. Это маленький домик, который они построили в новом готическом стиле, по английской моде. Находится он посреди великолепного петергофского парка. «Нет ничего труднее, чем попасть в коттедж, когда Их Величества находятся там, – отвечала мне госпожа***, – в их отсутствие не было бы ничего легче. Но я все-таки попробую». Я задержался в Петергофе, ожидая с нетерпением ответа от госпожи ***, но не слишком надеясь на успех. Наконец вчера рано утром получаю от нее коротенькую записку следующего содержания: «Будьте у меня без четверти одиннадцать. В виде особой милости мне было дозволено показать вам коттедж в тот час, когда император вместе с императрицей отправляются на прогулку, то есть ровно в одиннадцать. Их точность вам известна». Опаздывать на свидание я не собирался. Госпожа *** живет в премилом дворце, расположенном в одном из уголков парка. Она сопровождает императрицу повсюду, однако селится по возможности отдельно, хоть и совсем рядом с различными резиденциями императрицы. Я был у нее в половине одиннадцатого. Без четверти одиннадцать мы садимся в запряженную четверней карету, быстро едем через парк и без нескольких минут одиннадцать подъезжаем к дверям коттеджа.
Это самый настоящий английский дом, стоящий среди цветов и в сени деревьев; построен он по образцу тех прелестнейших жилищ, какие можно видеть под Лондоном, в Туикнеме, на берегу Темзы. Не успели мы миновать небольшую переднюю, к которой ведут несколько ступеней, и, задержавшись на несколько минут, осмотреть салон, где обстановка показалась мне, пожалуй, излишне изысканной в сравнении с домом в целом, как к нам подошел камердинер во фраке и шепнул несколько слов на ухо госпоже ***, которая, как мне показалось, удивилась.
– Что случилось? – спросил я, когда слуга удалился.
– Императрица возвращается обратно.
– Какая досада! – воскликнул я. – Я не успею ничего увидеть!
– Возможно; выходите через эту террасу, спускайтесь в сад и ждите меня у входа.
Не прошло и двух минут, как я увидел императрицу, которая в одиночестве поспешно спускалась с крыльца, направляясь ко мне. Ее высокая, тонкая фигура как-то по-особому изящна; походка у нее живая, легкая и одновременно благородная; некоторые ее жесты, позы, повороты головы поистине незабываемы. Она была в белом; лицо ее, обрамленное белым капотом, казалось отдохнувшим; глаза излучали печаль, кротость и покой; изящно приподнятая вуаль окаймляла ее лицо; прозрачный шарф, красивыми складками ложащийся на плечи, дополнял этот изысканнейший утренний наряд. Никогда еще она не являлась передо мною столь привлекательной: от облика ее мрачные предчувствия, посетившие меня на балу, совершенно рассеялись, императрица показалась мне воскресшей, и я ощутил то успокоение, какое приходит к нам утром после бурной ночи. Должно быть, Ее Величество крепче меня, подумал я, раз после позавчерашнего празднества, вчерашнего смотра и приема поднялась сегодня утром с постели такой ослепительной, какой я вижу ее теперь.
– Я знала, что вы здесь, и потому сократила прогулку, – произнесла она.
– Ах, Ваше Величество! мог ли я надеяться на такую доброту?
– Я ничего не сказала о своих планах госпоже ***, и она только что выговаривала мне за то, что я застала вас врасплох; она полагает, что я помешаю вам осматривать дом. Значит, вы хотите попасть сюда, чтобы проникнуть в наши тайны?
– Мне бы очень этого хотелось. Ваше Величество; проникая в мысли людей, умеющих сделать столь безошибочный выбор между пышностью и изяществом, нельзя не оказаться в выигрыше.
– Петергофская жизнь для меня невыносима, и я попросила государя выстроить какую-нибудь хижину, где глаза могли бы отдыхать от всей этой массивной позолоты. В этом доме я счастлива, как нигде больше; но теперь, когда одна из дочерей замужем, а сыновья учатся, он стал слишком велик для нас.
Я молча улыбнулся; я был во власти ее обаяния; мне почудилось, что чувства этой женщины, столь непохожей на ту, в чью честь задан был накануне роскошный праздник, сходны с моими собственными; подобно мне, она ощутила усталость и пустоту, говорил я себе, она осудила лживый блеск всего этого возникшего по приказу великолепия и теперь тоже сознает, что заслуживает лучшей участи. Я сравнивал цветы, окружавшие коттедж, с люстрами во дворце, ясное утреннее солнце с огнями ночных торжеств, тишину сладостного убежища с дворцовым столпотворением, празднество природы с празднеством придворным, женщину с императрицей и восхищался тем, с каким вкусом и умом государыня эта сумела бежать тягот показной жизни, окружив себя всем, что составляет притягательность жизни уединенной. То было какое-то новое для меня волшебство, и его возвышенный характер занимал мое воображение куда сильнее, нежели магия власти и величия.
– Мне не хочется, чтобы госпожа*** оказалась права, – продолжала императрица. – Вы сейчас осмотрите коттедж во всех подробностях, мой сын будет вам провожатым. Я же пока пойду взгляну на свои цветы, а когда вы соберетесь уходить, возвращусь к вам.
Вот какой прием оказала мне эта женщина, слывущая высокомерной не только в Европе, где ее вовсе не знают, но и в России, где она у всех на виду. В эту минуту к матери приблизился великий князь, наследник престола; с ним была госпожа *** и ее старшая дочь, девушка лет четырнадцати, свежая, как роза, и прелестная той прелестью, какая существовала во Франции времен Буше. Девушка эта – живая модель одного из привлекательнейших портретов кисти сего живописца, за исключением разве что пудреных волос. Я ждал, когда императрице будет угодно отпустить меня; все мы принялись прохаживаться взад-вперед перед домом, не удаляясь, однако, от входа, у которого остановились с самого начала.
Госпожа *** – полячка; императрице известно, что я принимаю участие в ее семье. Ее Величество знает и о том, что один из братьев этой дамы уже много лет живет в Париже.(201) Она свернула разговор на образ жизни этого молодого человека и долго, с подчеркнутым интересом расспрашивала меня о его чувствах, воззрениях, характере, – давая тем самым полную возможность высказать без обиняков все, что подскажет мне привязанность, которую я к нему питаю. Слушала она меня с большим вниманием (202). Когда я умолк, великий князь заговорил на ту же тему и, обращаясь к матери, сказал:
– Я встречал его недавно в Эмсе(203) и нахожу, что это человек весьма достойный.
– И тем не менее столь благородному человеку не дают возвратиться сюда из-за того, что после революции в Польше он перебрался в Германию, – воскликнула госпожа *** с сестринской любовью и с той свободой в выражении своих мыслей, какую не смогла в ней истребить даже привычка с детства жить при дворе.
– Но что же такого он совершил? – спросила меня императрица с неподражаемой интонацией, в которой нетерпение переплеталось с добротой. Я затруднился с ответом на столь прямой вопрос, ибо не мог не затронуть тонкие политические материи, а значит, рисковал все испортить. Великий князь вновь пришел мне на выручку с таким изяществом и приветливостью, что забыть их было бы неблагодарностью с моей стороны; должно быть, он полагал, что я не осмеливаюсь отвечать из-за того, что знаю слишком много; и вот, предупреждая какую-нибудь отговорку, которая могла бы выдать мое замешательство и опорочить дело, какое мне хотелось защищать, он с живостью воскликнул: «Но, матушка, кто же когда спрашивал у пятнадцатилетнего мальчика, что он совершил в политике?» Ответ этот, исполненный сердечности и ума, вывел меня из затруднительного положения – но и положил конец беседе. Когда бы я осмелился истолковать молчание императрицы, я бы так передал ее мысли: «Кому нужен нынче в России поляк(204), которому возвращена императорская милость? Для исконно русских он вечно будет предметом зависти и у новых своих господ не вызовет иных чувств, кроме настороженности. Жизнь свою и здоровье он растратит в испытаниях, каким его подвергнут, дабы убедиться в его верности; а затем, в результате, если все наконец убедятся, что на него можно рассчитывать, его станут презирать именно потому, что на него рассчитывают. Да и что я могу сделать для этого юноши? Влияние мое так мало!»
Не думаю, чтобы я сильно ошибался, полагая, что таковы были мысли императрицы – я и сам думал примерно то же самое. Про себя оба мы заключили, что для дворянина, у которого нет больше ни сограждан, ни братьев по оружию, меньшим из двух зол будет оставаться вдали от страны, где он появился на свет: одна только почва не составляет еще отечества, и нет ничего хуже, чем положение человека, который дома живет, словно на чужбине. По знаку императрицы все мы, великий князь, госпожа ***, ее дочь и я, возвратились в коттедж. В доме этом мне хотелось бы видеть менее роскоши в обстановке и более предметов искусства.
Первый этаж похож на любое жилище богатого. и элегантного англичанина; но там нет ни одной первоклассной картины, ни одного обломка мрамора, ни одного глиняного горшка, которые бы обнаруживали ярко выраженную склонность хозяев к живописным или скульптурным шедеврам. Я не имею в виду умение сносно рисовать самому; я имею в виду вкус к прекрасному, доказательство того, что вы любите искусство и чувствуете его. Я всегда сожалею, когда эта страсть отсутствует у людей, которым так легко было бы ее удовлетворять. И не нужно говорить, что слишком ценные статуи или картины были бы неуместны в коттедже; дом этот – излюбленное местопребывание своих владельцев, а если вы устраиваете себе обиталище на свой лад и сильно любите искусство, вы всегда обнаружите свой вкус к нему, пусть даже рискуя нарушить единство стиля, погрешить против гармонии; в придачу в императорском коттедже известный разнобой вполне позволителен.
Однако русские императоры – отнюдь не императоры римские; они не считают, что по положению своему обязаны любить искусство. По планировке и убранству коттеджа становится ясно, что обустройство и общий замысел этого жилища основывается на семейных привычках и пристрастиях. Это даже лучше, чем чувство прекрасного, явленное в гениальных творениях. Единственное, что не понравилось мне в расположении и обстановке этого элегантного пристанища – слишком рабское копирование английской моды. Первый этаж мы осмотрели очень быстро, из боязни наскучить нашему провожатому. Присутствие августейшего чичероне смущало меня. Я знаю, что ничто так не сковывает государей, как наша робость, если только она не напускная, призванная им польстить; знание их нрава лишь усиливает мои затруднения, ибо я убежден, что непременно им не понравлюсь. Они любят со всеми чувствовать себя непринужденно, а единственный способ этого достичь – быть непринужденным самому. Так что я не сомневаюсь, что успеха иметь не буду – и подобного рода убежденность донельзя меня удручает, ибо кому же приятно не нравиться другим? С государем, умудренным годами, я могу по крайней мере вступить в серьезную беседу, но если государь молод, легок, изящен и весел, то я обречен. Весьма узкая, но убранная английскими коврами лестница привела нас на второй этаж; там расположена комната великой княжны Марии, где прошла часть ее детства (теперь она пуста); комната великой княжны Ольги, вероятно, недолго будет оставаться жилой. Так что императрица была права, говоря, что коттедж слишком велик. Две эти комнаты почти во всем схожи и отличаются чудесной простотой.
Великий князь остановился на верхней ступени лестницы и обратился ко мне с царственной учтивостью, секрет которой ему известен, несмотря на крайнюю молодость: «Не сомневаюсь, что вы бы предпочли все здесь осмотреть без меня, а сам я столько раз это видел, что, признаюсь, тоже предпочитаю оставить вас в обществе одной госпожи ***; завершайте ваш осмотр, а я вернусь к матери и стану вас ожидать вместе с нею».
На том он сделал нам исполненный изящества поклон и удалился, покорив меня лестной непосредственностью своего обхождения. Великое преимущество для государя – быть человеком отменно воспитанным! Стало быть, на сей раз я не произвел впечатления, какое произвожу обычно; стеснение, которое я испытывал, не оказалось заразительным. Когда бы он почувствовал ту же неловкость, что и я, он бы остался, ибо робкий способен лишь терпеть мучения, не умея от них избавиться; положение сколь угодно высокое не спасает от приступов робости; жертва, парализованная ею, на какой бы ступени общественной лестницы она ни находилась, не в силах ни противодействовать тому, в чем причина ее стеснения, ни бежать его. Случается, страдание это рождается из неудовлетворенного и излишне развитого самолюбия. Человек, который боится, что мнение его о самом себе никто не разделяет, делается робок из тщеславия. Но чаще всего робость есть свойство чисто физическое, род болезни.
Бывают люди, которые не могут почувствовать на себе чужого взгляда, не испытав неизъяснимой неловкости. Взгляд этот обращает их в камень: он стесняет их поступь и мысли, мешает им разговаривать и двигаться; это истинная правда, и сам я зачастую испытывал гораздо более сильную физическую робость в деревнях, где на меня, чужестранца, были направлены все взоры, нежели в самых пышных салонах, где на меня никто не обращал внимания. Я мог бы написать целый трактат о различных видах робости, ибо являю собой совершенный ее образец; никто, как я, не стенал с самого детства от приступов сей неизлечимой болезни, которая, благодарение Богу, людям следующего за мною поколения почти вовсе неведома – лишнее доказательство того, что робость не только плод физической предрасположенности, но главным образом результат воспитания. В свете этот физический недостаток принято скрывать, вот и все: нередко застенчивейшими из людей бывают люди самые выдающиеся по рождению своему, званию и даже по своим достоинствам. Я долгое время полагал, что робость – то же самое, что скромность в сочетании с чрезмерной почтительностью к социальным различиям либо к умственным дарованиям; но как тогда объяснить робость у великих писателей и государей? По счастью, в России члены императорской фамилии отнюдь не робки, они принадлежат своему веку; в их обхождении и речах нет и следов замешательства, каким так долго мучились августейшие хозяева Версаля и их придворные – ибо что может стеснять более, чем робкий государь?
Как бы то ни было, но после ухода великого князя я почувствовал величайшее облегчение; про себя я поблагодарил его за то, что он сумел так верно угадать мое желание и так учтиво его исполнить. Человеку полувоспитанному никогда не придет в голову оставить гостя одного, чтобы сделать ему приятное; однако же подчас невозможно доставить гостю большее удовольствие. Умение покинуть гостя, не повергая его в шок, есть вершина обходительности и высшее проявление гостеприимства. Подобная непринужденность в повседневной жизни света – то же, что в политике свобода, не отягощенная беспорядком: все о ней постоянно мечтают, но достигнуть никак не могут.
В тот момент, когда великий князь покидал нас, мадемуазель *** стояла позади своей матери; юный государь, проходя мимо нее, останавливается с весьма важным и чуть насмешливым видом и молча отвешивает ей глубокий поклон. Девушка, понимая, что в приветствии этом скрыта ирония, не произносит ни слова и при всей своей почтительности на поклон не отвечает. Этот оттенок в отношениях восхитил меня и показался на редкость тонким. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из двадцатипятилетних женщин здесь при дворе проявил столь необычную смелость; одной лишь невинности свойственно сочетать законное чувство собственного достоинства, которое никто не должен терять, с уважением к особам, облеченным властью. Образцовая эта деликатность не прошла незамеченной:
– Ничуть не изменилась! – произнес, удаляясь, великий князь наследник престола.
Детьми они росли вместе – разница в пять лет не мешала им нередко играть в одни и те же игры. Подобная близость не забывается, даже и при дворе. Немая сцена, которую они разыграли, немало меня позабавила. Мне было особенно интересно взглянуть на императорскую фамилию изнутри. Чтобы по достоинству оценить этих государей, надобно видеть их вблизи: они созданы для того, чтобы стоять во главе своей страны, ибо являются во всех отношениях первыми среди своей нации. Из всего виденного мною в России императорская фамилия в наибольшей мере заслуживает восхищения и зависти иностранцев.
Под самой крышей коттеджа находится кабинет императора. Это довольно большая и очень скромно убранная библиотека. С ее балкона открывается вид на море. Не покидая этого наблюдательного пункта, приспособленного для ученых занятий, император может сам командовать своим флотом. Для этих целей у него есть подзорная труба, рупор и маленький переносной телеграф. Мне хотелось бы изучить эту комнату и все, что в ней находится, во всех подробностях и задать множество вопросов; но я побоялся, как бы мое любопытство не показалось нескромным, и предпочел осмотреть все бегло, нежели выглядеть так, будто явился описывать имущество. К тому же меня всегда занимает лишь общий порядок вещей: он, как правило, поражает меня сильнее, нежели отдельные детали. Я путешествую, чтобы видеть различные предметы и выносить о них суждение, а не для того чтобы измерять их, пересчитывать и копировать в точности.
Впустив меня в коттедж, можно сказать, в своем присутствии, обитатели его оказали мне милость. Посему я почел своим долгом показать, что достоин этой милости, и, обойдясь без чересчур доскональных разысканий, ограничиться лестноуважительным изъявлением почтительности.
Поделившись мыслями своими с госпожой ***, которая отлично поняла мою деликатность, я поспешил к императрице и великому князю наследнику престола, чтобы откланяться.
Мы нашли их в саду; сказав еще несколько любезных слов, они простились со мной. Я остался доволен всем, что увидел, но в особенности был признателен им за доброту и очарован благородством и неповторимым изяществом, с каким меня принимали.








