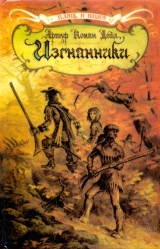
Текст книги "Изгнанники"
Автор книги: Артур Конан Дойль
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Прочтите его вслух, – приказал он.
Министр развернул письмо, разложив его на столе. Злобный блеск сверкнул в глазах царедворца. Если бы король сумел верно разгадать выражение взгляда Лувуа, последний поплатился бы своим положением.
– «Дорогой племянник, – читал Лувуа, – то, о чем вы просите в последнем письме, совершенно невозможно. Я никогда не пользовалась милостью короля ради собственных интересов и точно так же мне было бы тяжело просить ее для моих родственников. Никто не обрадуется больше меня, узнав, что вы произведены в майоры, но достигнуть этого вы обязаны только храбростью и верностью, а не моими хлопотами. Служба такому человеку, как король, есть сама по себе награда, и я уверена, что вы, оставаясь корнетом или достигнув более высокого чина, будете одинаково ревностно служить ему. К несчастью, он окружен низкими паразитами. Некоторые из них просто глупцы, как, например, Лозен; другие – плуты, как покойный Фуке; а некоторые, по-моему, в одно и то же время и глупцы и плуты, как Лувуа, военный министр».
Чтец задохнулся от ярости и несколько мгновений сидел, молча барабаня пальцами по столу.
– Продолжайте, Лувуа, продолжайте! – обратился к нему Людовик, устремив мечтательно глаза в потолок.
– «Мы надеемся вскоре увидеть вас в Версале, склоненного под тяжестью лавров. А пока примите мои искренние пожелания быстро достигнуть повышения, несмотря на то, что оно не может быть получено указываемым вами способом».
– Ах! – вскрикнул король, и вся любовь, таившаяся в сердце, отразилась во взгляде. – Как мог я усомниться в ней хотя бы на мгновение. Другие так расстроили меня. Но Франсуаза – чистое золото! Не правда ли, прекрасное письмо, Лувуа?
– Мадам – очень умная женщина, – уклончиво ответил министр.
– А как она отлично умеет читать в сердцах людей. Разве не верно схватила она сущность моего характера?
– Однако не поняла моего, ваше величество.
Кто-то постучался в дверь, и следом голова Бонтана заглянула в комнату.
– Архиепископ прибыл, ваше величество, – доложил он.
– Очень хорошо, Бонтан. Попросите мадам пожаловать сюда. А свидетелей просите собраться в приемной.
Камердинер поспешно скрылся, а Людовик обернулся к министру.
– Я желаю, чтобы вы были одним из свидетелей, Лувуа.
– Чего, ваше величество?
– Моего бракосочетания.
Министр вздрогнул.
– Как, ваше величество? Сейчас?
– Да, Лувуа, через пять минут.
– Слушаю, ваше величество.
Несчастный царедворец изо всех сил старался принять подобающий событию вид; этот вечер уже принес ему кучу неприятностей, а теперь судьбе угодно заставить его испить последнюю горькую чашу и присутствовать при браке презираемой им женщины с королем.
– Спрячьте эти письма, Лувуа. Последнее вознаградило меня за остальные. Но все же негодяи поплатятся за свои послания. Между прочим, как фамилия молодого племянника мадам, кому она адресовала письмо? Жерар д'Обиньи, не так ли?
– Да, ваше величество.
– Назначить его полковником при первой вакансии, Лувуа.
– Полковником, ваше величество? Ведь ему еще нет и двадцати лет.
– Лувуа! Скажите, пожалуйста, кто из нас глава армии, я или вы? Берегитесь, Лувуа. Я уже предупреждал вас ранее. Вот что я скажу вам, милейший; если я захочу поставить хотя бы чурбан во главе бригады, вы должны без колебаний подписать бумагу о назначении. Ясно? Отправляйтесь в приемную и дожидайтесь там с прочими свидетелями, пока вас не позовут.
В то же время в комнатке, где горела лампадка перед изваянием пресвятой девы, шла суетня. Посредине комнаты стояла Франсуаза де Ментенон. Легкий румянец возбуждения играл на ее щеках; обычно спокойные серые глаза горели странным блеском. На ней было платье из белого глазета, отделанное и подбитое серебристой саржей, обшитое у ворота и рукавов дорогими кружевами. Вокруг нее суетились три женщины; они то поднимались с колен, то опускались на пол, то время от времени отходили в сторону, оглядывая платье, подбирая и прикалывая то тут, то там, пока не устроили все по своему вкусу.
– Ну, вот, – вымолвила главная портниха, поправляя в последний раз одну из розеток, – теперь, кажется, хорошо, ваше вел… мадам, хотела я назвать.
Г-жа де Ментенон улыбнулась при ловкой обмолвке придворной портнихи.
– Я лично совершенно равнодушна к нарядам, – произнесла она, – но мне хотелось быть сегодня именно такой, какой король желал бы меня видеть.
– Ах, мадам так просто одевать. У мадам такая фигура, такая осанка! С такой шеей, талией, такими руками какой наряд не окажется эффектным. Но как нам поступать, мадам, когда вместе с платьем приходится создавать и фигуру? Вот, например, принцесса Шарлотта-Елизавета. Вчера мы кроили ей костюм. Она маленького роста, мадам, и полна. О, просто невероятно, как она полна. На нее идет гораздо больше материи, чем на вас, мадам, хотя она значительно ниже вас. Ах, я уверена, что не милосердный господь выдумал создавать таких полных женщин. Но, впрочем, она ведь баварка, а не француженка.
Г-жа де Ментенон не слушала болтовни портнихи.
Кто-то осторожно постучался в дверь, нарушая ее молитву.
– Это Бонтан, мадам, – проговорила м-ль Нанон, – он просит передать, что король готов.
– Так не будем заставлять его дожидаться. Пойдемте, м-ль, и да благословит бог наше начинание.
Маленькое общество, собравшись в приемной короля, направилось оттуда в часовню. Впереди шел величественный епископ в зеленом одеянии, исполненный сознания важности своего сана, с молитвенником в руках, раскрытым на обряде брака. Рядом с ним семенил короткими ножками его раздатчик милости, а двое маленьких придворных слуг в ярко-красных камзолах несли зажженные факелы. Король и г-жа де Ментенон шли рядом – она спокойная и сдержанная, с кротким видом и опущенными ресницами, он с румянцем на смуглых щеках, с растерянным нервным взглядом человека, сознающего, что им переживается один из величайших этапов в жизни. Следом, в торжественном безмолвии, шла небольшая группа избранных свидетелей – высокий, молчаливый отец Лашез, Лувуа, угрюмо смотревший на невесту, маркиз де Шармарант, Бонтан к м-ль Нанон.
Факелы отбрасывали ярко-желтый свет на эту маленькую группу людей, чинно проходившую по коридорам и залам; в часовне факелы осветили фрески потолка и стен, отразились в позолоте и зеркалах, но в углах словно для борьбы с колыхавшимся светом скопились длинные мрачные тени. Король нервно вглядывался в темные ниши, в портреты предков и родственников, красовавшихся на стенах. Проходя мимо портрета своей покойной жены, Марии-Терезии, он сильно вздрогнул и, задыхаясь, прошептал:
– Боже мой! Она нахмурилась и плюнула в меня.
Ментенон дотронулась до его руки.
– Ничего нет, государь, – успокоила она также шепотом. – Игра бликов света на картине.
Ее слова произвели обычное действие на короля. Выражение испуга пропало в его взгляде, и, взяв ее за руку, он решительно зашагал вперед без боязни и робости. Минуту спустя они уже стояли перед алтарем и слушали слова, связывающие их навеки.
Когда новобрачные отошли от алтаря, на руке г-жи де Ментенон блестело новое обручальное кольцо, и часовня наполнилась гулом поздравлений. Один король ничего не говорил, но молча смотрел на свою новую спутницу жизни так, что она не желала ничего больше. Новобрачная была все так же обычно спокойна и бледна, но кровь кипела у нее в жилах. «Теперь ты королева Франции, – казалось, говорила она себе. – Теперь ты королева, королева, королева…»
Но вдруг на нее набежала тень, и она услышала тихий, но твердый шепот:
– Помните обещание, данное вами церкви.
Она вздрогнула, обернулась и увидела перед собой бледное, но грозное лицо иезуита.
– У вас похолодели руки, Франсуаза! – произнес Людовик. – Пойдемте, дорогая, мы слишком долго пробыли в этой мрачной церкви.
Глава XX. ДВЕ ФРАНСУАЗЫ
Г-жа де Монтеспан, успокоенная запиской брата, легла спать. Она знала Людовика лучше многих: ей хорошо было известно упрямство и настойчивость в мелочах, составлявших одну из отличительных черт его характера. Если он заявил, что желает быть обвенчанным архиепископом, то никто другой, кроме этого духовного чина, не может совершить обряда бракосочетания. Таким образом венчание не состоится, по крайней мере, в эту ночь. Посмотрим, что принесет завтра, но уж если ей не удастся расстроить планы короля, то, значит, она действительно лишилась ума, силы, обаяния и красоты.
Утром она оделась весьма тщательно, напудрилась, немного подрумянилась, наклеила мушку рядом с ямочкой на щеке, надела фиолетовый бархатный пеньюар и жемчужный убор с заботливостью воина, готовящегося к борьбе не на жизнь, а на смерть. До нее не долетело еще известие о великом событии этой ночи; хотя при дворе шли оживленные разговоры о нем, но у Монтеспан вследствие высокомерия, заносчивости и злого язычка не было ни друзей, ни сочувствующих ей знакомых. Она встала в отличном настроении духа и думала только о способах добиться у короля аудиенции.
Она была еще в будуаре, доканчивая свой туалет, когда паж доложил ей, что король ожидает в салоне. Г-жа де Монтеспан еле могла поверить такому счастью. Все утро она ломала голову, как бы добраться до короля, а он сам пришел к ней. Она взглянула в последний раз в зеркало, оправила поспешно платье и торопливо вышла из комнаты.
Король стоял спиной к ней, рассматривая картину Снейдерса. Когда маркиза вошла, затворив за собою дверь, он обернулся и сделал два шага навстречу. Она бросилась было к нему с радостным восклицанием, с протянутыми зовущими руками, с лицом, полным страстной любви, но он остановил ее мягким, но вместе с тем решительным жестом. Мраморные руки бесцельно свесились вдоль тела женщины. С дрожащими губами она уставилась на него и то горе, то страх попеременно отражались в ее взгляде. На лице короля залегло никогда невиданное ею прежде выражение, и кто-то внутри зашептал ей, что сегодня его воля сильнее ее страстного призыва.
– Вы опять сердитесь на меня? – вскрикнула она.
Он пришел, намереваясь прямо объявить ей о своем браке, но, увидев ее столь обворожительно красивой и любяще нежной, он понял, что даже вонзить ей нож в сердце было бы куда милосерднее, чем сообщить это. Пусть кто-нибудь другой передаст ей о случившемся. Она и сама скоро узнает эту новость. К тому же, действуя так, он избежит женских сцен, ненавидимых им всей душой. И без того ему предстояла неприятная обязанность. Все это быстро пронеслось в уме короля, но маркиза мгновенно перехватила его мысли.
– Вы пришли что-то сказать и не решаетесь. Да благословит бог доброе сердце, удерживающее жестокий язык.
– Нет, нет, мадам, я не хочу быть жестоким, – проговорил король. – Я не могу забыть, что в продолжение стольких лет вы озаряли мою жизнь и своим умом и красотой, придавали блеск моему двору. Но время идет, мадам, и у меня есть долг перед страной, стоящий выше моих личных влечений. По всем этим соображениям, я полагаю, лучше всего устроить дело так, как мы говорили в прошлый раз, а именно, вам следует удалиться от двора.
– Удалиться, ваше величество! На сколько времени?
– Навсегда, мадам.
Она стояла, стиснув руки, бледная, молча в упор глядя на него.
– Мне нечего говорить, что я сделаю все, чтобы облегчить вам ваше изгнание. Вы сами назначите себе содержание; специально для вас будет построен дворец в какой угодно части Франции, но только на расстоянии двадцати миль от Парижа… Имение.
– О, государь, как можете вы считать, что все это хоть отчасти может вознаградить меня за потерю вашей любви?
На сердце де Монтеспан легла страшная тяжесть. Если бы он горячился и сердился, она могла бы надеяться обойти его как прежде, но этот кроткий и вместе с тем твердый тон был новым для нее, и маркиза чувствовала свое полное против него бессилие. Его хладнокровие бесило ее, но де Монтеспан старалась овладеть бушевавшими страстями, принимая смиренный вид, наименее свойственный ее высокомерному, вспыльчивому характеру. Однако скоро она не выдержала.
– Я много думал, мадам, – говорил король, – и решил, что именно так должно быть. Иного выхода нет. И так как нам необходимо расстаться, то чем скорее, тем лучше. Поверьте, это в достаточной мере неприятно и мне. Я приказал вашему брату ожидать вас в девять часов у калитки с каретой, так как, может быть, вы пожелали бы уехать после наступления темноты.
– Чтобы скрыть позор от смеха двора? Это чересчур внимательно с вашей стороны, ваше величество. Но может быть, и этот поступок только ваш долг, ведь теперь только и слышно, что о долге, обязанностях, то кто же, как не вы…
– Я знаю, мадам, знаю. Я виноват. Я глубоко оскорбил вас. Поверьте, что я сделаю все возможное, дабы искупить содеянное мною зло. Пожалуйста, не смотрите на меня так сердито. Пусть это последнее свидание оставит в нас приятное воспоминание.
– Приятное воспоминание?! – Она отбросила прочь всю кротость и смирение, а в голосе ее зазвучали презрение и гнев. – Приятное воспоминание?! Вам, конечно, приятно освободиться от загубленной вами женщины, бросаясь в объятия другой, и не встречать в придворных салонах бледного лица той, которая напоминала бы вам о вашей измене. Но для меня, узницы какого-нибудь уединенного загородного дома, пренебрегаемой мужем, презираемой семьей, осыпаемой насмешками и шутками всей Франции, вдали от человека, которому я пожертвовала всем, всем, можете быть уверены, ваше величество, это будет вряд ли столь приятным воспоминанием!
В глазах короля закружился вихрь гнева, подобный бурному шквалу г-жи де Монтеспан, но он употребил над собою все усилия, чтобы его сдержать. Когда такого рода вопрос и в столь острой форме подымается между самым гордым мужчиной и самой высокомерной женщиной Франции, то кому-нибудь из них нужно же идти на уступки. Людовик понимал, что именно ему следует уступить, но его властная натура восставала против этой необходимости.
– Вы ничего не выиграете, мадам, употребляя выражения, неприличные для вашего языка и для моих ушей, – вымолвил он наконец. – Вы должны отдать должное моему поведению, ибо я умоляю, когда имею право требовать, и вместо приказания вам как моей подданной, уговариваю вас в качестве друга.
– О, вы слишком снисходительны, ваше величество. Подобного рода образ действий едва ли можно объяснить нашими отношениями в продолжение почти двадцати лет. Действительно, я должна быть благодарна вам, что вы не откомандировали за мной ваших гвардейских стрелков или не принудили меня силой выйти из дворца посреди двух рядов мушкетеров. Как мне благодарить вас за эту милость?
Она сделала низкий реверанс с насмешливой улыбкой на губах.
– Ваши слова слишком переполнены горечью, мадам.
– Так же, как и сердце, государь.
– Ну, Франсуаза, будьте благоразумны, умоляю вас. Мы оба уже не молоды.
– Очень мило с вашей стороны напоминать мне о моих годах.
– Ах, вы извращаете смысл слов. В таком случае я принужден замолчать. Может быть, вы не увидите меня больше, мадам. Не желаете ли спросить меня о чем-нибудь до моего окончательного ухода?
– Боже мой! – вскрикнула она. – И это человек? Есть ли у него сердце? Неужели это те уста, шептавшие так часто мне слова нежной любви? Неужели это те глаза, смотревшие с любовью в мои? Неужели же вы в силах оттолкнуть женщину, бывшую близкой вам, так же спокойно, как покинуть Сен-Жерменский дворец, когда приготовлен другой, более роскошный? Так вот каков конец всех ваших клятв, нежных нашептываний, мольбы, обещаний… вот он конец всего.
– Мадам, это печально для нас обоих.
– Печаль?! Разве на вашем лице она видна? Там только гнев на мою смелость и высказанную горькую правду; ах, даже радость, радость, что вы покончили с позорным делом! Но где тут печаль? А когда я уйду со сцены, все по-прежнему будет легко для вас… Не правда ли? Вы в состоянии тогда снова возвратиться к вашей гувернантке…
– Мадам!
– Да, да… вам не испугать меня. Что за дело до того, что вы в силах сделать со мной? О, я знаю все. Не считайте меня слепой. Итак, вы готовы даже жениться на •ней. Вы, потомок Людовика Святого, и вдова Скаррона, бедная приживалка, взятая мною к себе в дом из милости. Ах, как будут потихоньку гримасничать ваши придворные! Что будут строчить за спиной ничтожные поэты! Конечно, до ваших ушей не доходят подобного рода вещи, но друзьям вашим все это так больно.
– Мое терпение лопнуло, сударыня! – яростно крикнул король. – Я покидаю вас, и навсегда.
Но бешенство заставило и ее забыть осторожность и страх. Она загородила ему своей фигурой дверь. Лицо ее горело, глаза метали искры злобы, маленькая ножка в белой атласной туфле неистово топала по ковру.
– Вы спешите, ваше величество? Вероятно, она уже ожидает вас.
– Пропустите меня, мадам.
– Но какое разочарование вчера вечером, не правда ли, мой бедный король? Ах, какой удар для гувернантки. Боже мой, какой удар. Ни архиепископа, ни бракосочетания. Расстроен весь хитроумный план. Ну, разве это не жестоко?!
Людовик в недоумении смотрел на ее прекрасное, дышавшее яростью лицо, и внезапно у него в уме мелькнула мысль, что от горя она рехнулась. Какой иначе может быть скрытый смысл этих безумных слов об архиепископе и разочаровании? С его стороны недостойно было бы говорить так жестоко с больной женщиной. Надо успокоить ее, а главное – уйти.
– У вас много моих фамильных драгоценностей, – сказал он, – прошу вас оставить их себе в знак моей признательности.
Он думал сделать ей приятное и успокоить, но в одно мгновение она была уже у шкафа, где хранились ее сокровища, и стала кидать горстями камни к его ногам. Маленькие красные, желтые и зеленые шарики, звеня и сверкая, раскатились по полу, ударяясь о дубовые плинтусы пола.
– Они пригодятся для гувернантки, если приедет архиепископ! – кричала де Монтеспан.
Людовик еще более убедился, что перед ним сумасшедшая. Ему пришла в голову мысль, как лучше подействовать на более мягкую сторону ее натуры. Он быстро подошел к двери, открыл и шепотом отдал какое-то приказание. В комнату вошел юноша с длинными золотистыми волосами, падавшими на черный бархатный камзол. Это был младший сын г-жи де Монтеспан граф Тулузский.
– Я думаю, вы захотите проститься с ним, – проговорил Людовик.
Она стояла, пристально смотря на него, словно не в состоянии понять смысла его слов. Потом ей вдруг стало ясно, что от нее отбирают детей так же, как любовника, что та, другая женщина будет видеть их, говорить с ними, приобретая их любовь в ее отсутствие. Все, что было дурного в этой женщине, внезапно вырвалось наружу, и в это мгновение она действительно была безумной фурией, как считал ее король. Если сын не будет принадлежать ей, матери, то пусть не достается никому… Под рукой у нее среди различных вещей лежал нож, осыпанный драгоценными камнями. Она схватила его и кинулась на испуганного мальчика. Людовик вскрикнул и бросился вперед, пытаясь удержать обезумевшую, но его предупредили. Какая-то женщина вбежала в открытую дверь и схватила руку г-жи де Монтеспан. Завязалась короткая борьба; две гордые женские фигуры боролись между собой, а нож упал между ними. Испуганный Людовик поднял его, схватил за руку сына и выбежал из комнаты. Франсуаза де Монтеспан, шатаясь, отошла к оттоманке и увидела перед собой серьезные глаза и строгое лицо другой Франсуазы – женщины, присутствие которой как бы бросало тень на всю ее жизнь.
– Я спасла вас, мадам, от поступка, который вы первая стали бы вечно оплакивать.
– Спасли? Вы довели меня до этого!
Павшая фаворитка откинулась на высокую спинку оттоманки, заложив руки за спину и тяжело дыша. Полуопущенные веки прикрывали горевшие глаза, губы были полуоткрыты, обнаруживая белые блестящие зубы. То была настоящая Франсуаза де Монтеспан, существо кошачьей породы, притаившееся для прыжка. Теперь она была далека от той смиренной, нежной Франсуазы, привлекавшей к себе короля кроткими речами. В борьбе г-жа де Ментенон порезала руку, и кровь текла у нее с кончиков пальцев, но обе женщины не обращали на это внимания. Серые глаза г-жи де Ментенон были устремлены на бывшую соперницу с выражением человека, глядящего на слабое, лукавое создание, которое с успехом можно подчинить своей более сильной воле.
– Да, вы довели меня до этого… вы, которую я подобрала, когда у вас не было ни куска хлеба, ни глотка кислого вина. Что вы имели? Ничего… ничего, кроме имени, служившего для всех посмешищем. А что я дала вам? Все. Вы обязаны мне деньгами, положением, возможностью бывать при дворе. Все это вами получено через меня. А теперь вы же издеваетесь надо мной.
– Сударыня, я не издеваюсь. Я жалею вас от глубины души.
– Жалеете! Ха, ха! Вдова Скаррона осчастливила жалостью женщину из фамилии Мортемар. Ваше сожаление может последовать за вашей благодарностью и вашей репутацией. Тогда оно не в состоянии будет более беспокоить нас.
– Эти слова не задевают меня.
– Целиком верю, вы не из чувствительных.
– Да, у меня совесть спокойна.
– Ах, она, значит, не мучит вас?
– В этом вопросе нисколько, мадам.
– Боже мой, как должны быть ужасны другие вопросы, тревожащие вас!
– У меня не было дурных замыслов против вас.
– Никаких?
– Но что же я сделала преступного? Король приходил ко мне в комнату следить за ученьем детей. Он оставался, разговаривал со мной, спрашивал советов. Могла ли я молчать? Или я должна была притворяться, говоря не то, что думала?
– Вы восстановили его против меня.
– Я очень польщена, если действительно помогла королю обратиться на путь добродетели.
– Как прекрасно звучит это слово в ваших устах.
– Желала бы слышать его из ваших.
– Итак, по собственному признанию, вы украли у меня любовь короля, добродетельнейшая из вдов.
– Я была благодарна и хорошо расположена к вам. Вы считали себя моей благодетельницей, часто напоминая мне об этом. Вам излишне было твердить это, так как я ни на минуту не забывала о вашем добром отношении ко мне. Но когда король спрашивал меня – не отрицаю, я указывала ему, что грех есть грех и что он будет более достойным человеком, сбросив с себя греховные узы.
– Или переменит их на другие?
– На узы долга.
– Меня тошнит от вашего лицемерия. Если вы прикидываетесь монахиней, то отчего бы вам не пойти в монастырь? Вам вздумалось воспользоваться и тем и другим – иметь все преимущества двора и подражать монастырским обычаям. Но незачем рисоваться передо мной. Я знаю вас, как вы себя в глубине сердца. Я была честна, поступала открыто перед всем светом. Вы же, под прикрытием ваших пастырей и духовников, ваших алтарей и молитвенников… неужели вы думаете, что можете обмануть меня, как провели за нос других?
В первый раз серые глаза противницы засверкали. Де Ментенон поспешно сделала шаг вперед и подняла белую руку, как бы предостерегая соперницу.
– Обо мне можете судить, как угодно, – произнесла она строго. – Для меня – это болтовня попугая в вашей прихожей. Но не касайтесь священных вещей. Ах, если бы вы могли возвысить ваши мысли, если бы вы были в состоянии заглянуть в вашу душу и увидеть, пока не поздно, как постыдна и низка та жизнь, которую вы вели! Чего только вы не могли сделать? Его душа была в ваших руках, как глина в руках горшечника. Если бы вы помогли королю стать выше, направили его на лучшую стезю, пробудили в его душе все благородное и доброе, как любили бы и благословляли ваше имя повсюду от замка до хижины. Но нет, вы тянули его на дно; вы развратили его молодость, вы разлучили его с женой; вы испортили его зрелые годы. Преступление, совершаемое человеком столь высокого положения, порождает тысячи других в тех, кто считает его примером, – и все эти преступления на вашей душе. Опомнитесь, мадам, бога ради, опомнитесь, пока еще не поздно! Несмотря на всю вашу красоту, вам, как и мне, может быть, остается лишь несколько лет земной жизни. Тогда, когда поседеют эти каштановые волосы, осунутся эти белые щеки, потускнеют эти блестящие глаза, тогда… ах, да сжалится господь над грешной душой Франсуазы де Монтеспан!
На одно мгновение ее соперница опустила голову, услышав эти торжественные слова и испытывая на себе силу устремленных на нее в упор прекрасных глаз. В первый раз в жизни она стояла молча, поникнув головой. Но скоро она подняла ее с обычной вызывающей и насмешливой улыбкой на губах.
– У меня уже есть духовник, благодарю вас, – произнесла она. – О, мадам, не воображайте, что можете пустить мне пыль в глаза. Я знаю вас, хорошо знаю.
– Напротив, по-видимому, меньше, чем я ожидала. Если вы так хорошо меня знаете, как говорите, то кто же, наконец, я?
Вся горечь и ненависть, накипевшая в сердце ее соперницы, прозвучала в ответе.
– Вы гувернантка моих детей и тайная любовница короля, – кинула она в лицо де Ментенон.
– Вы ошибаетесь, – спокойно ответила та, – я гувернантка ваших детей и законная супруга короля.








