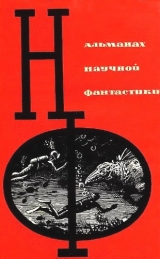
Текст книги "НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 1"
Автор книги: Артур Чарльз Кларк
Соавторы: Кобо Абэ,Еремей Парнов,Север Гансовский,Михаил Емцев,Геннадий Гор,Ариадна Громова,В. Шибнев,В. Волков,Энн Гриффит,Виктор Комаров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Я вновь раскрываю папку и отыскиваю место, где Мироян дает волю своей фантазии. Подумать только – все, что я пережил сегодня, все, что я видел, это лишь двадцать минут церебротрона. А в этой папке скупо пересказано сто сорок часов! И все это создано памятью одного человека. Несчастного, отрезанного от мира человека. Каждую секунду на протяжении месяцев не затихает эта уникальная работа. Сколько неповторимых образов, давно исчезнувших ландшафтов, когда-то разыгравшихся на сцене жизни драм! Человеческий мозг не может, физически не может вместить такой колоссальный объем информации. Откуда все это? Может быть, отголоски прочитанных книг? Вряд ли. Слишком все естественно и правдоподобно даже в малейших деталях. Писателю всего этого не предусмотреть. Да и для того чтобы в человеческом мозгу могли родиться такие картины, мало прочесть все книги в библиотеке Ленина или Британском музее! Мало… Нет, все это реальные события прошлого. Но откуда они?
Я еще раз перечитал конечный вывод Мирояна.
«Каждое живое существо, – пишет он, – в самом себе несет черты своих древних предков. В строении тела человека много сходства с животными. У месячного человеческого зародыша, например, ясно видны зачатки жаберных дуг. Это стадия рыбы. Человеческий зародыш проходит в своем развитии все стадии эволюции. В течение девяти месяцев он повторяет всю миллиардолетнюю историю жизни на земле. Это нечто вроде ускоренной киносъемки. Сначала одноклеточный, простейший организм, потом, благодаря клеточному делению, все более сложный. Стадия рыбы, стадия лягушки и так далее. Возможно, на каждой из этих стадий в постепенно развивающемся мозгу откладывается соответствующая информация. Вот почему мы стали свидетелями событий древних геологических эпох.
Одноклеточному зародышу, вероятно, соответствует информация, относящаяся к доархейской эре, когда только зарождалась жизнь. Стадия рыбы дала информацию о палеозойской эре. Время господства рептилий – мезозой – соответствует концу стадии лягушки и так далее. Таким образом, псе получает как будто бы вполне естественное объяснение. Можно возразить, однако, почему до сих пор подобные случаи неизвестны? На это будет лишь один ответ: мы впервые применили церебротрон. Возможно, что и некоторые виды сумасшествия характеризуются взрывом подобной внутренней информации. Это требует, конечно, экспериментальной проверки. Потому предположение, что эмбриональная информация постепенно накапливается в глубинах латентной памяти, остается пока, несмотря на все его недостатки, единственным. Другого объяснения я не знаю…»
Меня это объяснение не удовлетворяло. В нем было кое-что интересное, заманчивое. Оно даже как будто косвенно подтверждалось. Недаром первобытный океан занимал в видениях основное место… Жизнь зародилась и крепла именно в океане. Но даже если отмахнуться на время, как это сделал Мироян, от четких и ясных эпизодов из истории человеческого общества, которые никак нельзя объяснить эмбриональной памятью, существует одно важное противоречие. Оно носит философский характер. Я сформулировал его как парадокс. Дело в том, что во всех виденных Мирояном и мной событиях очень мало эволюции… Да, мало! Ведь это же сплошная революция. Точки перегиба, моменты высшего напряжения, критические состояния!
Рыба высунулась из воды и собирается сделать первый рыбий шаг по земле, обезьяна спустилась с дерева и вышла из лесу… Это же революция в чистом виде! Узловые пункты.
А картины из истории человечества! Они занимают в видениях не меньше места, чем первобытный океан! И какие это картины… Борьба, непрерывная и жестокая борьба, те же узловые моменты длинного мучительного пути от зверя к человеку. Нельзя забывать об эволюции человечества. Она с каждым десятилетием все более и более ускоряется, будто раскручивается отпущенная пружина. Человечество шло упорным и героическим путем, противоречивым и не всегда прямым. Были века застоя, десятилетия регресса. Но эти века не оставили никаких ощутимых следов в видениях незнакомца, потому что не они являются главными и определяющими в человеческой истории. История человечества – это история революций.
Мне опять стало стыдно за те минуты равнодушия, которые были в моей жизни. Как я мог забыть, что жизнь – это борьба! И прежде всего борьба со всем темным и злым, что есть в тебе самом, что осталось в наследство от темного прошлого, от подлого поколения мещан.
В окне электрички замелькали фиолетово-синие огоньки. Железнодорожные рельсы словно поросли васильками. Мы подъезжали к Москве. Пассажиры зашевелились. Я мельком взглянул на свою соседку. Она торопливо дочитывала абзац и уже готовилась сунуть в книжку вместо закладки конверт. Конверт лишь мелькнул передо мной, но фамилию отправителя я увидел четко: А. Положенцев. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Только вчера я звонил к нему в институт. Мне сказали, что он в какой-то важной и длительной командировке. И вот вдруг…
Электричка тихо остановилась. Бесшумно открылись пневматические двери. Пассажиры, теснясь и спеша, стали выходить на перрон. Горели электрические фонари. Влажный воздух колебался вокруг них, как шар, тускло очерченный радугой.
Женщина шла впереди меня. Блестели складки прозрачного плаща, перехваченного в талии пояском. Длинные и стройные ноги уверенно стучали по асфальту модными каблучками-гвоздиками. Я шел за ней, не решаясь догнать и не отставая. На лскте у нее висела большая сумка. Там лежала книга Паустовского и письмо Положенцева Я вспомнил роман Джека Лондона, которым бредил в далеком детстве. Он назывался «Межзвездный скиталец». Сегодня я сам был межзвездным скитальцем в бескрайней Вселенной, не ограниченной ни временем, ни пространством. Эта Вселенная уместилась в голове тяжелобольного человека. Этому человеку нужно помочь. Для этого необходимо разузнать о нем все. Впереди меня идет женщина, у нее в сумке лежит письмо с адресом Положенцева. Положенцев знает что-то, не известное нам. С ним во что бы то ни стало нужно связаться.
Я догнал женщину у самого входа в метро.
Артур Викентьевич Положенцев, профессор биохимии
Вновь я встречаю осень среди пурпурных полей и зеленых озер Сордонгнохского плато. Со мною друзья – Валерий и Ромка. Птицы улетают на юг. Резко похолодало. Я сижу у костра. В закопченном котелке клокочет уха. На озере трещат моторы. Сордонгнох никогда еще не видел столько людей сразу. Он теперь стал знаменит, наш Сордонгнох. Это объект номер один в плане отделения биологических наук Академии.
Здесь среди умирающей природы я как-то успокоился, многое понял, кое на что взглянул иначе. Желтеют и высыхают растения, умирают бабочки – все готовится встретить зиму, чтобы весной вновь возродиться и во веки веков вершить свой цикл расцвета, смерти и обновления. Жизнь бессмертна. И люди тоже бессмертны бессмертием коллектива. Эстафета поколений, переходящая от отца к сыну, законсервированные генетические шифры.
Я натворил много глупостей. Но не жалею об этом. Они сделали меня богаче и чуточку мудрее.
Как только исчезла ампула с препаратом – я назвал его препарат виталонга, вечная жизнь, – я совершенно растерялся. И, ничего не соображая, ринулся сюда, на Сордонгнох. Воображаю, какую чепуху я намолол директору института. Старик, наверное, решил, что я не в себе. Только здесь, под колючими льдистыми звездами, я сообразил, что виталонга уже живет в крови подопытных животных и незачем мне для этого вновь искать скрывающегося в глубинах далекого озера дракона. Мы ищем его для иных целей. Этот дракон действительно неоценимый дар нам, людям. Я впрыснул виталонгу кроликам с привитыми опухолями. Папилломы рассосались через семнадцать дней; саркома Брампера исчезла через сорок суток, даже рак семенных желез вынужден был отступить. Недаром писали провидцы, что проблема рака связана в один узел с проблемой жизни… Нужно много, очень много работать, чтобы отделить антиканцерогенные и гиперрегенерационные свойства виталонги от патологического бессмертия. Когда организм замыкается в себе – это патология. Кто знает, может быть, нам удастся найти иные пути предохранения нуклеиновых кислот от накопления митогенетических ошибок. Возможно, тогда мы уже с иных позиций станем подходить к бессмертию. Оценки меняются со временем. Нельзя закрыть путь будущим поколениям шлагбаумом наших представлений. Может быть, человечество научится управлять временем. Здесь можно лишь фантазировать. Ясно одно, что наши внуки уйдут дальше, намного дальше. Поэтому не будем так категорично ставить вопрос: нужно или не нужно бессмертие?
Со вчерашней авиапочтой мы получили три письма, и они вызвали целую бурю в нашем доселе спокойном лагере. Мы здорово поспорили и даже чуть-чуть поругались между собой. Особенно горячился и наскакивал на меня Валерий. Ромка занимал свою, особую, по-моему, для него самого до конца не ясную, позицию, но тоже время от времени выкрикивал общефилософские положения.
Первое письмо было от матери Курилина. Она писала, что месяца два назад Борис Ревин попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи не могли определить характер его заболевания. Все было очень странно и необычно. Что-то вроде сильного летаргического сна. И в то же время это была не летаргия. От больного уже почти отказались, как вдруг за дело взялся аспирант Мироян. Такой симпатичный маленький армянин, писала Курилина. Он попросил написать Валерию, чтобы тот сообщил все известные ему подробности о Борисе.
Два других письма были адресованы мне. Я сразу проникся симпатией к их авторам. Один из них, Мироян, о котором уже упоминала мать Курилина, подробно описывал характер заболевания Бориса и просил меня помочь в трудном деле. Все, касающееся Бориса, его очень интересует.
В третьем письме ассистент университета Флоровский рассказывал, как выглядел и что делал Борис перед заболеванием. Флоровскому с большим трудом удалось раздобыть мой адрес, и каково же было его удивление, когда этот адрес полностью совпал с адресом Валерия Курилина, который дала Марья Ивановна, мать молодого геолога. Он и Мироян считают, что мы больше, чем кто-либо, осведомлены о действительной причине заболевания Бориса.
И они не ошибаются. Я сразу понял, что Борис, верный своей цели, взял ампулу и впрыснул себе виталонгу. Я припомнил наш последний разговор, и мне многое стало ясно. Странные вопросы и поступки Бориса выглядят теперь иначе.
– Это первая жертва вашего препарата, – мрачно сказал Валерий.
Мы сидели возле палатки. Отсюда хорошо видна спокойная гладь Сордонгнохского озера.
– Я только одного не понимаю, – продолжал Валерий, – почему все, что ни сделает наука, приносит столько же зла, сколько и добра. Порой кажется, что лучше бы некоторых великих открытий и вовсе не было. Вот, например, ваше бессмертное вещество.
Вы же понимаете, какую проблему вы ставите перед людьми. Быть бессмертным! Да за это уцепятся эгоисты, дураки и прочая и прочая! Какие могут быть странные неожиданности, какие злоупотребления! Этот случай с Борисом меня сильно настораживает.
– Развитие человечества, – прервал его Роман, – идет с помощью метода проб и ошибок. Без ошибок нет движения, а ты хочешь, чтобы все шло гладко, без сучка без задоринки.
– Я не хочу этого, но нужно же предусматривать, куда поведет то или иное изобретение. Ученые должны прекратить игру с огнем. Человечество уже вышло из детского возраста.
– Я должен поддержать Романа, – начал я, – он объективно прав. Развитие мысли, науки не может остановиться из-за того, что возможна ошибка. Если данное открытие не сделаем мы, его сделают другие…
Пока я это говорил, из головы у меня не выходила фраза, которую я мельком видел в письме Курилиной: «…Как он был невезучим, так и посейчас остался. Лежит, бедолага, ни жив ни мертв, только Мнроянчик круг него суетится…»
– Мы сделаем все, чтобы поставить Бориса на ноги, – неожиданно для самого себя говорю я.
Голос у меня глухой и напряженный. Ребята с удивлением смотрят на меня. Верю ли я в свои слова? Верю. Но мне страшно; а вдруг…
Как-то Борис сказал мне, что ему очень хотелось бы, кроме всего прочего, разгадать одну тайну, с которой связаны близкие ему люди. Глаза его были прозрачны и стеклянны. Он будто всматривался внутрь себя. Тогда это не произвело на меня особого впечатления, но сейчас все приобретало таинственный смысл; и неподвижный взгляд, и неистовое устремление любой ценой, даже ценой жизни, к видениям прошлого. В этом парне причудливо смешались любопытство ученого, страсть охотника, боль человека. Такая смесь чувств порой бросает людей на подвиг.
Мысль о Борисе тяжела. Но пока нужно думать только о науке. С ее помощью всегда увидишь какую-нибудь тропинку, по которой придет спасение.
– Мы поставим его на ноги, – повторяю я упрямо, словно убеждаю кого-то.
Меня радуют все факты, которые сообщили мне Мироян и Флоровский. Это последнее недостающее звено в моей гипотезе о внутриклеточной информации. Я оказался прав. Мозг способен черпать информацию только из организма, не вступая в контакт с внешней средой. Эта информация запасена в клетках, в тридцати триллионах совершеннейших машин памяти.
Блестящие эксперименты с двухголовым червем планарией, которые провел англичанин Мак Конелл, доказали, что существует наследование приобретенных признаков, Флоровский и Мироян первые увидели картины, которые нередко фиксировались в веществе наших клеток.
Копии нуклеиновых кислот, которые постоянно рождаются и рушатся внутри нас, несут в себе следы памяти и опыта, приобретенного бесчисленными поколениями наших предков. Эти приобретенные черты непосредственно отражаются в мозгу и нервной системе. Со смертью предков приобретенный опыт не пропадает, он переходит дальше из поколения в поколение; становясь богаче и полнее.
Но не вся жизнь организма находит отражение в структуре нуклеиновых кислот. Лишь крупные, поворотные события физической и духовной жизни могут вызвать мутации. Мутация – это буквы в летописи революций. Триллионы разбуженных виталонгой клеток непрерывно посылают в мозг Бориса всю накопленную ими информацию.
Все это происходит хаотично, без всякой последовательности и зачастую одновременно. Только такой сложный и совершенный прибор, как церебротрон, мог разобраться в этом хаосе и разложить его по своим ферритовым полочкам.
Состояние Бориса вполне объяснимо. Никакой даже самый развитый мозг не в состоянии вместить такой напор обильной и яркой информации.
Нужно приглушить эту информацию, подавить внезапный бунт клеток. Только так можно вернуть Бориса к активной жизни. Все, что я вам рассказал, я напишу Мирояну и Флоровскому. Для них многое прояснится.
Думаю, что здесь нам во многом помогут наблюдения над сордонгнохским ящером. Эту загадку необходимо во что бы то ни стало раскрыть. Мы обшарим все озеро сетями, пока не поймаем ящера и не поместим его в аквариум. У нас достаточно теперь для этого и сил и средств. Думаю, что поимка ящера откроет нам и другую тайну, которая так потрясла ваше воображение, Роман. Мы возьмем пробы воды и грунта, поймаем других обитателей озера, произведем радиометрические измерения. Может быть, мы и сумеем раскрыть удивительную загадку бессмертного ящера, узнать его историю. Я не согласен с вашей пылкой гипотезой. Роман. Почему обязательно космонавты из других миров? С одинаковым успехом все можно объяснить обычными земными причинами… Объяснений можно придумать много, В этом-то вся беда. Нелегко из десяти расплывчатых и шатких гипотез выбрать одну, верную. Вполне допустимо, что бессмершый ящер – это фокус все той же матушки-эволюции, возможности которой еще далеко не исчерпаны. Можно гадать и искать. Я больше надежд возлагаю на второй вариант. Поэтому будем ждать фактов.
– Нам, конечно, следует поблагодарить лектора за интересный и высоконаучный доклад, – насмешливо сказал Валерий после того, как я закончил. – Но, если говорить откровенно, Артур Викентьевич, я не могу восхищаться изобретением, которое способно отшибить у человека память и превратить его в живого мертвеца… А вот Бориса мне жаль, хотя, конечно, он сам, дурак, виноват…
– Вы неправы, Валерий! – закричал я, раздосадованный упрямством молодого геолога. – То, что мозг отключился от внешнего мира, – это всего лишь спасительный рефлекс! Так предохранители отключают установку, спасая ее от скачков напряжения в цепи. Я не думаю, чтобы в мозгу Бориса произошли необратимые изменения. Мы обязательно вернем его к жизни. Борис совершил подвиг во имя науки. Я уверен, что все физические и психические переживания Бориса отразятся на его генах, которые принесут в далекие поколения рассказ об этом великом подвиге.
– Борис станет великим и бессмертным в веках! Аминь! – торжественно провозгласил Роман, вставая. – О чем спорить? Давайте работать, и труд нам покажет, кто был прав. Добудем ящера из кладовой Сордонгноха, посмотрим, как он управляется со своим бессмертием. Меня лично интересует вопрос, почему этот ящер не спит все время, как Борис, а периодически хватает то собак, то уток. Как вы думаете, Артур Викентьевич?
– Не знаю… Пока не знаю, – сказал я.
Все замолчали.
– Ну что ж, будем работать, – сказал Валерий. И добавил: – Я вот что думаю: не слетать ли мне в Москву – посмотреть, как там дела, а?
Мы согласились, что, пожалуй, он прав.
Вечером я долго думал о нашем разговоре, о проблеме виталонги. Почему-то я верю, что все будет хорошо. Люди найдут свое бессмертие.
Записка аспиранта Г. Мирояна ассистенту университета В. Н. Флоренскому
«Владимир Николаевич, ты сегодня меня не застанешь, меня вызывают в Москву. Очень прошу, посмотри повнимательней мои сегодняшние записи (церебротронных видений Ревина-Михайлова). Я сразу по биотокам определил: с Ревиным что-то происходит. Мое предположение подтвердилось. Впрочем, сам увидишь. Можешь делать замечания на полях, чем больше, тем лучше. Мне интересно, что ты обо всем этом думаешь».
Запись Мирояна
Этот сеанс был не похож на другие. Раньше я все время чувствовал собственное присутствие в тех картинах, что разворачивались перед моими глазами. Сейчас все было иначе. Впечатления были настолько сильными и непосредственными, что порой я совершенно забывал о Галусте Мирояне, обклеенном электродатчиками и лежавшем в темной церебротронной.
Первым и главным ощущением была усталость. Она тяжелым цементным тестом схватила мышцы и суставы. Когда я поднимал ногу, мне казалось, что я слышу, как рвутся и дробятся мои одеревеневшие мускулы. Огромным усилием воли посылал я вперед свое измученное тело. Еще шаг, еще… Иногда я останавливался и оглядывался назад. Там двигался он. Высокий рыжебородый мужчина в резиновых сапогах и брезентовой накидке шел тяжело и медленно. Когда я смотрел, как он, пошатываясь, старательно обходит свинцово-серые лужи, во мне на миг появлялась теплота сочувствия и понимания. Я кивал ему головой, поднять руку я уже был не в силах. А он только смотрел в ответ. Голубые глаза на сером лице были нечеловечески прозрачны. Они ничего не выражали – ни боли, ни тоски, ни надежды. Я поворачивался и шел вперед.
Я знал, что мы идем уже много дней. Нас по-прежнему окружала мокрая осенняя тайга. Ослизлые стволы исполинских сосен сверкали, словно облитые глазурью. По ним скользили жирные капли дождя. Низкое темное небо лежало на раскачивающихся верхушках деревьев. Оно непрерывно источало влагу и холод. Под ногами плескалась студеная грязная жижа из веток, мха и воды. Воды здесь было сколько угодно. Она струйками выдавливалась из под ног, сочилась из рваной коры старых елей, внезапно преграждала путь, разлившись маслянистым неподвижным озером. Вода висела в воздухе, превращая его в холодный вязкий кисель. Иногда мне казалось, что, кроме воды, вокруг нас ничего нет. Лес был из воды, воздух из воды, мы сами из воды, весь мир был сделан из воды.
Мокрые брюки и белье сильно натирали колени, и кожа там горела, словно от ожога. По вечерам, когда мы забивались в нашу крохотную изъеденную дождем палатку, я снимал разорванные в нескольких местах резиновые сапоги и рассматривал свои ступни. Они были белые и набрякшие, как у мертвеца. Казалось, влага пропитала живую ткань тела и если нажать пальцем, то из-под пористой кожи выступят желтоватые молочные капли. Я не нажимал – боялся.
Мой рыжебородый друг доставал из рюкзака, где хранились образцы и еда, маленький сверток. Первой из свертка извлекалась грязная помятая бумажка, на которой были написаны два слова: «Дойти и выжить». Потом появлялся мешочек с мукой, баклага спирта и пачка с печеньем. Мы опрокидывали по глотку огненной влаги, запивали ее болтушкой на дождевой воде и съедали по куску печенья. Огня, насколько я помню, мы уже давно не разводили – не было спичек да и слишком отсырело все вокруг. Наверное, во всей тайге не было ни одной сухой ветки. Мы засыпали, плотно прижавшись друг к другу.
У меня было ощущение нескончаемой вереницы однообразных лпей. Мы шли, шли, шли… Я помнил серые дни, похожие между собой, как близнецы, бесконечные голодные ночи, когда к утру хочется плакать от голода, медленное движение по болотистым гаежным зарослям и усталость. Усталость сделала бесчувственными руки и моги, лицо, грудь. Были безразличны удары ветвей по щекам, вода, проливавшаяся за ворот, намокшие и опухшие ноги.
Все чаще я оглядываюсь назад на своего спутника, все дольше задерживаюсь, поджидая его. Походка у него сейчас особенно неуверенная, он часто взмахивает руками, словно собирается взлететь, глаза сверкают лихорадочным блеском. Он торопится за мной, он боится отстать… Меня охватывает тревога.
Мне очень хочется ему помочь, но я ничего не могу поделать. Основной груз – рюкзак с нашими образцами – волоку на себе. Рыжебородый несет только палатку, но ему нелегко и это. Он сильно сдал… Вот тебе и богатырь… Я поджидаю, пока он доковыляет ко мне, и иду дальше. Но он все больше и больше отстает. Лес слегка редеет. Очевидно где-то поблизости река. Наконец-то вечер. Я наскоро ставлю палатку, и мы заползаем в нее. Сегодня мы ложимся спать без ужина. Еды осталось всего на два дня, а идти нам еще не меньше пяти суток. Как мы дойдем?
Я просыпаюсь от холодного и мокрого прикосновения к лицу. Мне кажется, что на меня упала палатка. Я медленно сгребаю ткань с лица и обнаруживаю, что запутался в тряпках, которые положил в головах. Я поворачиваюсь на другой бок и пытаюсь заснуть. Что-то необъяснимо тревожит меня. Наконец до меня доходит причина. Мне не хватает тепла его тела. Я протягиваю руку, и она повисает в ужасающей пустоте. Я лихорадочно обшариваю всю палатку, все углы, закоулки, вмятины, словно там мог спрятаться и потеряться взрослый человек. Меня охватывает ужас. Я обнаруживаю, что исчез рюкзак с образцами и с остатками еды. Я вырываюсь из палатки, словно из склепа, на воздух. Занимается раннее утро. Солнца, конечно, нет, но где-то далеко на востоке над иссиня-черным лесом расплываются вялые, бледные полосы. Я быстро скатываю палатку валиком. Может, он просто пораньше встал и решил пройти вперед, чтобы ему не догонять меня в течение всего дня? Но куда он двинулся и почему не предупредил меня? Ведь у него даже компаса нет! Неужели сбежал? Это моя смерть.
Я бегу, выплескивая воду из сапог и луж. Внезапно я замечаю впереди темную фигуру. Я настигаю ее и хватаю за плечо. Он быстро поворачивает ко мне голову. В этом лице нет ничего человеческого. Потухшие глаза в кровавых белках смотрят тупо и настороженно, на щеках вспыхивают фиолетовые пятна. Я что-то быстро говорю, убеждаю, возмущаюсь. Резкий удар внезапно прерывает меня. Я падаю навзничь, прямо в огромную лужу. Лежу в грязной воде и смотрю, как медленно уходит рыжебородый. С ним уходят моя еда, спирт, жизнь.
И я, уже не тот человек в тайге, а Галуст Мироян с датчиками на лбу, отмечаю про себя, что рыжебородый болен. И я, Галуст Мироян, знаю, как называется эта болезнь, но тот человек, что лежит в тайге, мешает мне вспомнить это название.
Я выбрался из лужи и теперь сижу на упругом мшистом покрове. Сегодня, кажется, первый день, когда нет дождя. Значит, скоро зима. Я не пойду за рыжебородым, который уносит в рюкзаке мою жизнь. Когда-то он подарил мне счастье, а сейчас я должен вернуть ему долг. Теперь-то я знаю, что не дойду, но идти все равно надо. И я плетусь с кочки на кочку, пока часов через пять не выхожу к реке. Она небольшая, синяя и холодная. Я беру правее, чтобы подыскать подходящую переправу, и вдруг замечаю его. Он тоже ищет брод. У него в руках шест, чтобы ощупывать дно.
Сапоги он снял и держит их под мышкой. Видно, что ему мешает рюкзак. Вот он вернулся на берег, сбросил рюкзак, огляделся по сторонам. Что-то делает на берегу – отсюда не видно, все же метров триста. Потом снова пошел в воду, на этот раз в сапогах. Правильно, все равно ноги мокрые, а камешки на дне острые, без обуви не пройдешь.
Я отыскиваю палку и начинаю тыкать в воду. Здесь везде крутой спуск, да и глубина порядочная. Я долго брожу по берегу и наконец, решаюсь двинуться вверх по течению. Там, вероятно, больше мелких мест. А как дела у рыжебородого? Я осматриваю поворот реки, где маячил его силуэт, и никого не вижу. На противоположном берегу низко склонились вековые кедры. На этом – шумит сосновый молоднячок, продуваемый пронизывающим осенним ветром. Я медленно иду туда.
Песок под рюкзаком успел осесть и слежаться. Когда я потянул мешок за лямки, под ним открылась яма, на самом дне которой собралась вода. Немного поодаль на мелкой речной зыби раскачивался какой-то предмет. Я извлек его. Старая пыжиковая шапка. На внутреннем ободке вышита хорошо знакомая надпись: «Ник. Курилин».
И вот здесь что-то произошло. Я, Галуст Мироян, из тайги был переброшен в свою церебротронную вскриком: «Отец, отец!» Это кричал Борис Ревин. Я бросился к пульту, отключил церебротрон и подошел к больному. Он бредил! Это огромная победа. Это первый шаг к выздоровлению. Интересно, что, когда я рассматривал кривые биопередачи, я отметил колоссальный толчок-импульс. Огромное нравственное возбуждение вывело больного из состояния апатии.
Он уже реагирует на яркое освещение! Свет прожектора вызывает дрожание век. Сейчас Ревин по-прежнему бредит. Мы начали использовать различные химические препараты. Надеемся, надеемся, на многое надеемся!
Кстати, я долго думал об увиденной сцене в тайге. С твоих слов я знал о семейной драме Михайловых. Получается, что Михайлов ни в чем не виноват, это его бросил Курилин. И Михайлов принял предательство друга на себя. У них там были какие-то счеты. Но когда я «просматривал» эту сцену, мне показалось, что Курилин был болен. Я проверил все внешние признаки заболевания, которые мог не заметить измученный и отупевший от усталости Михайлов. Похоже на таежный энцефалит. Это тяжелое, быстро развивающееся мозговое заболевание могло сделать Курилина невменяемым.








