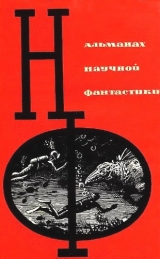
Текст книги "НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 1"
Автор книги: Артур Чарльз Кларк
Соавторы: Кобо Абэ,Еремей Парнов,Север Гансовский,Михаил Емцев,Геннадий Гор,Ариадна Громова,В. Шибнев,В. Волков,Энн Гриффит,Виктор Комаров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ СКИТАЛЕЦ
Владимир Николаевич Флоровский, ассистент университета
Когда я вошел в лабораторию, меня ждал посетитель. Маленький, черный и смуглый, он сидел на вращающемся табурете и, скучая, смотрел по сторонам.
Увидев меня, он представился:
– Мироян, аспирант Института высшей нервной деятельности.
– Очень приятно, – ответил я, пожимая его руку. – Вы меня ждете?
– Вы товарищ Флоровский?
– Да. Чем могу быть полезен?
Мироян почему-то вдруг смутился и, стеснительно улыбаясь, сказал:
– Я к вам по очень важному делу. Меня направила к вам Марья Ивановна Курилина. Она сказала, что больше месяца назад вы помогли доставить одного человека… Помните? Вы, мне так сказали, проявили тогда большое участие. Этот человек был без сознания. Вы должны помнить.
Я, конечно, сейчас же вспомнил историю с Лопоухим.
– Конечно, я прекрасно помню. Ревин, кажется, его фамилия? А вы что-нибудь знаете об этом странном человеке?
– Он лежит в нашем институте. Врачи от него отказались. Они считают его неизлечимым. А я… а мы решили попробовать. И вы можете нам помочь.
– Буду рад. Только не уверен, что принесу большую пользу.
– Нам очень важны, очень важны, – Мироян попытался усилить речь жестами, – сведения о больном, любые, даже самые мелкие детали. Если вам не трудно, расскажите мне все, что знаете.
Как будто это было вчера, встали передо мной очередь в столовой, Лопоухий, его странное поведение и внезапный обморок.
Мироян слушал меня с пристальным вниманием. Он часто кивал головой, словно хотел сказать: «Да, да, это все я уже знаю, давайте дальше». Он ни разу не прервал меня, зато что-то быстро отмечал в маленькой записной книжке.
Когда я кончил рассказывать, он спросил:
– Скажите, а с профессором Положенцевым вы не пробовали связаться?
– Признаться, нет. Лопо… Ваш пациент сказал тогда, что Положенцев куда-то уехал, и я решил…
– Да, понимаю, – хмуро прервал меня Мироян, – решили позвонить как-нибудь потом, да забыли. Некогда было…
Мне не понравился его иронический тон. Собственно, по какому праву он приходит ко мне на службу, расспрашивает обо всем и еще пытается читать нравоучения? Словно уловив мою мысль, Мироян тихо сказал:
– Даже если отбросить в сторону вполне понятный интерес исследователя при встрече с необычным, простое и естественное любопытство, мы никуда не уйдем от неписаных законов человечности. Мой долг зовет меня на помощь к этому бедняге. И вы должны помочь мне.
– Но что же я могу?! – вскипел я.
– Приходите завтра к нам в институт. – Мироян осторожно тронул меня за рукав. – Я кое-что сделал и хочу, чтобы вы посмотрели. Может быть, у вас появятся какие-то мысли, соображения. Дело в том, что сейчас мы уже нашли всех, кто знал Бориса Ревина. Нам не хватало последнего звена. Именно вы видели его перед самым обмороком. Здесь важны любые мелочи. Пока вы были в отпуске, я несколько раз пытался связаться с вами. Очень прошу вас, приезжайте к нам в институт. Приходите хоть завтра, обязательно приходите. Я вам напишу сейчас адрес. Это за городом. Ехать нужно на электричке с Ярославского вокзала.
Я пообещал приехать.
…Мы сидели в огромном круглом зале. Мироян объяснил мне, что сюда не проникают ни звуки, ни свет, ни сотрясения. Зал свободно плавает внутри огромного, наполненного жидкостью резервуара. Стены полуметровой толщины покрыты свинцовыми экранами и пластинами пробки, которые скрываются за черным матовым бархатом.
На маленьком журнальном столике стояла мощная лампа. Она вырывала из небытия кресло, в котором сидел мой собеседник, и отражалась в хромированных частях большой электронной установки. Казалось, что мы одни сидим в черноте мирового пространства, заброшенные и забытые. Но главное – это тишина. Я впервые слушал абсолютную, глухую тишину. Наверное, очень страшно остаться наедине с тишиной. Безотчетно повинуясь непонятному страху, я старался заполнить любую паузу, которая возникала в нашем разговоре. Мне представилось, что я сижу над черным омутом мертвой воды и кидаю, кидаю в него яркие белые камни.
– Я буквально лбом прошибал эту проклятую оболочку, – рассказывал Мироян, – но все бесполезно. Что же все-таки делается у него в голове, о чем он думает или не думает ни о чем, понимав ли, что с ним происходит? В отчаянье я пошел к шефу. Он холодно и бесстрастно выслушал меня. Я чувствовал, что все мое волнение бессильно разбивается о спокойствие сидящего передо мной человека. И вот, когда я дошел до предела и замолк, шеф молча выписал мне разрешение на церебротрон. Девятнадцать рабочих часов в неделю!
Вы, конечно, не знаете, что такое церебротрон? В этом я и не сомневался. Я не люблю и не умею объяснять. Это смесь кибернетики и физиологии. Машина стоит примерно столько же, сколько два атомохода. Ее обслуживает специальная станция, по мощности равная Шатуре. Здесь, в зале, только блок датчиков. Сама машина глубоко под землей, в исполинском бетонированном колодце. Вы когда-нибудь видели синхрофазотрон в Дубне?
Я отрицательно покачал головой.
– Так вот, церебротрон раза в полтора больше. Церебротрон может записать и навеки сохранить виденный вами сон, вашу мысль, если она не отвлеченная, а образная. Вот вы, например, закрыли глаза, и перед вами возникло лицо любимого человека. Вы ясно видите это лицо, оно реально и ощутимо. Но попробуйте-ка описать его словами, чтобы ваш собеседник увидел точно такое же лицо… Это невозможно. Зато если окружить вашу голову электродами и подключить вас к церебротрону, то ферритовые блоки его памяти прочно зафиксируют стоящий у вас перед глазами образ. Теперь, если подключить к церебротрону вашего собеседника или тысячу ваших собеседников, то они смогут увидеть все, что создано вашим воображением. Причем у каждого будет впечатление, что это он сам вызвал из глубин своей памяти увиденный образ. Конечно, церебротрон предназначен не для этого, вернее, не только для этого. Но остальное нас с вами не касается… Дело в том, что у меня есть сто сорок часов церебротронной записи… Записано то, что творится в мозгу нашего пациента. Многие сигналы непонятны и запутанны. Я не хочу утомлять вас долгим церебротронным сеансом. Без тренировки это вредно. Поэтому я подключу вас к церебротрону лишь на пять минут. На пять минут вы получите память этого загадочного человека. Остальное вы прочтете в моем журнале, я все записал.
Мироян встал и показал куда-то в темноту:
– Ложитесь и постарайтесь мысленно расслабиться. Как перед сном.
Я лег на кушетку в центре зала. Мироян надел мне на лоб холодный металлический обруч. К моему затылку и вискам прижались электроды-датчики, которые Мироян заклеил липким пластырем. Провозившись со мной минут десять, он ушел. Откуда-то издалека я услышал его приглушенный голос:
– Если почувствуете себя плохо, то сейчас же нажмите кнопку. Она у вас под правой рукой.
Лампа на журнальном столике погасла.
Оказывается, я равнодушный, эгоистичный человек. После того, как Лопоухого забрали в больницу, я забыл о нем.
И вот мы снова встретимся. И как встретимся?… Лопоухий, Борис Ревин… У него, кажется, была еще какая-то вторая фамилия. Эта старуха, мать его приятеля, рассказывала тогда о нем, но я уже многое забыл. У меня только осталось ощущение, будто речь шла о каком-то другом человеке. И он нисколько не походил на странного незнакомца из университетской столовой.
Все зависит от точки зрения. Я смотрел на Бориса глазами холодного, безразличного наблюдателя, и он показался мне неприятным. Она – сочувствующим взглядом друга, и он был, по ее словам, милым чудаковатым парнем. Хотя… я видел его уже в предшоковом состоянии, он был тогда загадочный, странный… А сейчас я увижу его, вернее, узнаю о нем то, чего, возможно, он сам о себе не знает.
Странное дело, но мое обычно ровное, спокойное настроение резко изменилось. Так, вероятно, и должно быть, когда лежишь в темной комнате, на лоб давит твердый обруч, а к вискам пиявками присосались электродатчики. Да еще в перспективе сеанс не то гипноза, не то сна наяву… Но дело было не только в этом. Я чувствовал себя школьником, пойманным на месте преступления, когда он пишет на свежевыбеленной стене свое лаконичное мнение о соседском Вовке. Мне было стыдно.
Мое отношение к Лопоухому раньше казалось мне естественным. Но разве можно считать естественным равнодушие?
Людям бывает стыдно, когда они ведут себя не лучшим образом и выглядят некрасиво. Человек хочет быть красивым. Оказывается, я тоже хочу быть красивым, хотя раньше я этого за собой не замечал…
Но что это? У меня в глазах зарябило от ярких вспышек света. Наверное, включили… Свет помутнел и распылился. Сейчас мне кажется, что я сам сижу где-то на дне озера. Качаются травы, похожие на длинные волосы. Вздрагивают полупрозрачные комочки слизи, мечутся голубоватые шарики, подрагивают ресницами продолговатые инфузории. Они кажутся очень крупными, точно мои глаза вдруг приобрели свойство микроскопа.
Откуда-то из бутылочной зеленоватой мути на меня наплыла огромная темная тень. Я не успел разглядеть ее, но сердце мое сжалось от страха. Я как бы раздвоился. С одной стороны, я прекрасно понимал, что лежу на кушетке в полной безопасности. И все же я был там, глубоко в воде, и дрожал от ужаса. Я хотел рвануться, уйти от неведомой опасности. Потом я почувствовал, что бегу. Я не видел себя. Но знал, что бегу. Мимо мелькали колонны, коптящие факелы, мечущиеся фигуры людей. Перед моими глазами одна за другой выскакивали мраморные ступени. Казалось, лестница никогда не кончится. Вдруг передо мной возникла арка, увитая плющом и лозами дикого винограда. Я раздвинул листья. Я стоял на высоком холме. Внизу бушевал огонь. Город пылал, подожженный с трех сторон. Время от времени, когда обрушивалась крыша, к небу взлетали золотые брызги, они падали и гасли на лету в красноватой дымке. При свете пожара я мог разглядеть некоторые здания. Они были знакомы мне. Мне – тому, который лежал на кушетке.
Величественный Пантеон, грозно насупивший глазницы окон Колизей, триумфальная арка Антония, уходящие во мрак ступени терм Каракаллы. Это пылал Рим. Все мое существо захлестнули обида и гнев.
И вновь замелькали ступени. В городе творилось что-то страшное. Кровавый отблеск метался на медных шлемах с крылатыми орлами. Из горящих домов выскакивали растрепанные женщины. Они срывали с себя туники и заворачивали в них кричащих детей. Гремели мечи. В узком, зловонном переулке кто-то кого-то звал, захлебываясь от рыданий.
На площади перед храмом собиралась толпа. В багровом свете пожара лица казались красными и блестящими. Люди кого-то ждали. Дома рушились, тела лежали в лужах, где кровь нельзя было отличить от вина. Все было красным в отблесках огня, все дымилось. Гнев и ненависть сжали мое горло.
Люди на площади заволновались и зашевелились, Кто-то выкрикивал угрозы и проклятья. Старики подымали вверх иссохшие руки. Женщины прижимали к груди плачущих детей. И тут я разглядел, что все они смотрят на меня. Я читал в их глазах решимость и веру. Я понял, что эти люди слушали меня, что это я перелил в них кипевшие во мне чувства. Но по толпе прошло смятение, площадь дрогнула, над головами людей заблестели бронзовые орлы, заколыхались дикторские топорики и кисти, закачались пики и поднятые мечи.
Я узнал штандарты высшей власти и рванулся им навстречу. Но пространство передо мной замкнулось двумя скрестившимися копьями…
Зажглась настольная лампа. Тихо гудел трансформатор. Ко мне подошел Мироян.
– Ну как? – спросил он.
Я был не в состоянии отвечать. Мироян склонился и заглянул мне в глаза. Потом махнул рукой и отошел. Лампа вновь погасла.
Передо мной лежит огромная зеленая саванна. Нежные и сочные травы порой закрывают от меня горизонт – так они высоки. С неба струится зной и аромат. Я, лежа на кушетке, не ощущал никакого запаха. Я как бы вспомнил этот запах. Он был где-то внутри меня.
Я, который лежал на кушетке, палеоклиматолог. Я прочел много специальных книг об ископаемой фауне и флоре. Может быть, поэтому то, что видели мои внутренние глаза, соединенные с памятью церебротрона, на этот раз не казалось мне таким реальным. Слишком уж велик профессиональный интерес палеоклиматолога. Но временами я совершенно отключался и был только тем, кто крался по первобытной саванне, кого ласкало молодое утреннее солнце.
Я сразу понял, что нахожусь в третичном периоде кайнозойской эры, когда маленькие теплокровные животные мелового периода уже вышли победителями в борьбе за жизнь. В тени исполинских акаций гиеноподобные хищники окружили арсинотерия.
Огромное, превосходящее величиной слона животное, нагнув увенчанную рогами голову, угрюмо и методично отбивает атаки врагов. Мне было страшно. Но любопытство сильнее. Я лег на землю и пополз. Раздвинув упругие стебли, я мог следить за подробностями этой битвы. Вот арсинотерий ловко подцепил одного хищника рогом и подбросил его в воздух. С пронзительным визгом третичная гиена шлепнулась в заросли колючих кустов. Арсинотерий ухитрился подбить рогом еще одного врага и тут же растоптал его массивной, как древесный ствол, лапой. Злобно рыча и скалясь, гиены начали отступать в заросли. Гигат вышел победителем, он не преследовал врагов. Он огромен и великодушен. На поляну вышел еще один гигант – предок носорога индрикотерий. Увидев растерзанные тела, он фыркнул и спокойно принялся щипать траву. Он вспугнул скрывавшихся в траве небольших, величиною с кошку, зверьков, которые бросились наутек. Это были эогнпиусы – изящные и грациозные предки лошадей.
Битва кончилась. Мне уже не нужно скрываться в траве. Я встал во весь рост и пошел. Но время от времени меня неодолимо влечет к земле, и я то и дело приседаю на четвереньки. В небе кружат и гудят огромные насекомые, в траве шныряют всевозможные звери и пресмыкающиеся. Но я не обращаю на них внимания. Я спешу. Куда? Этого я не знаю. Я лишь чувствую, что мне нужно, очень нужно куда-то спешить. Углубившись в лес, я иду меж исполинских, поросших паразитами стволов. Где-то в головокружительной высоте смыкаются кроны пальм, шумит лакированная листва мирт и тисов, величественно покачиваются мохнатые лапы секвой.
Вдруг я вижу, как по гладкому стволу тиса скользнула вниз маленькая длиннорукая обезьяна. За спиной у нее прицепился детеныш с грустными и выразительными глазами. Припадая на передние лапы, обезьяна заспешила мне навстречу, Во мне шевельнулась какаято смутная нежность. И тут только я, который лежал на кушетке, понял, что я точно такая же обезьяна – проплиопитек. Так вот почему трава казалась мне такой высокой и дремучей, как лес. Проплиопитеки едва достигали тридцати пяти сантиметров.
Вместе с обезьяной я вскарабкиваюсь вверх по стволу, и мы пускаемся в путешествие по кронам деревьев. Цепляясь за лианы, мы преодолеваем огромные расстояния, перепрыгиваем с дерева на дерево.
Я не знаю, куда мы идем, но властный голос инстинкта заставляет меня спешить. Качаются кроны деревьев, и бросается навстречу земля. Сквозь листву изредка прорываются солнечные стрелы. И когда мне вдруг ослепило светом глаза, я не понял, что это: то ли солнце, то ли Мироян зажег лампу.
Это было солнце, оно клонилось к вечеру. Я закрываюсь от него ладонью и вытираю пот с лица. Как хорошо пахнут только что скошенные травы! Моя коса ходит равномерно. Покорно ложатся колоски овсюга, лиловые головки клевера, всевозможные зонтики и кашки. Далеко впереди опускается зеленоватый и голубой вечер. Уже можно разглядеть месяц. Он белый и полупрозрачный. Как молодое арбузное семечко. Грустно блестит вода. Сусальным золотом горят на закате кресты. Я, который лежал на кушетке, узнал неповторимую архитектуру трехглавого Троицкого собора. Город на горизонте был Псков.
Я кошу траву. Коса звенит, а мне кажется, что это шумит вода, бегущая сквозь дубовый водочес. Легкий ветер донес запах гари. Это не тот вкусный дым костра, на котором кипит котелок с похлебкой, и горящие сухие листья пахнут не так. Я сразу понимаю, что это горький и зловещий дым пожара и войны. Я бросаю косу и бегу. Тугой ветер бьет мне в лицо, сердце стучит где-то у самого горла. Вьется и вьется истоптанная луговая стежка. Уже невозможно бежать… Квакают лягушки в камышах на озере. Стал явственный запах гари. А я все бегу. Хотя, может быть, кажется, что бегу, а на самом деле я еле плетусь, стараясь руками сдержать рвущееся наружу сердце. Я уже вижу испуганное воронье, кружащееся над поникшими березами. И черный дым, сквозь который проглядывает тревожное закатное солнце. Там был мой дом. Мне уже некуда спешить. Я мог бы упасть в сухую и нежную пыль, рыдать и биться, рвать в отчаянии подорожник, царапать ногтями землю. Но я не ложусь. Я вижу дым над пепелищем, вижу закованных в сталь лошадей с плюмажами перьев на голове и закованных в сталь всадников с опущенными забралами, похожими на птичий клюв.
И я поворачиваю назад. Туда, где на слиянии рек Великой и Псковской видится каменный кремль «Кром», где печальным отблеском на куполах умирает день. Городские ворота еще открыты, хотя гремит вечевой колокол и народ толпится на площади. Из подворотни массивного, будто вырубленного из цельной каменной глыбы дома выезжают телеги. Скрипят оси. Люди грузят камни, раздувают огонь под черными котлами, в которых кипит и пузырится смола. Лучники замерли на городских стенах. К ним спешат простоволосые женщины в домотканых платьях, несут завернутые в белые платки ковриги хлеба.
Хмурые бояре неохотно раздают «меньшим людям» секиры и пращи. Но оборванный люд в дырявых лаптях идет на стены с топорами и дубинками. У меня есть вилы. Я тоже иду на стены. Немецкие рыцари уже близко. Они надвигаются клином. Пешие кнехты идут в середине. У них короткие мечи и арбалеты. Одетые в железо, всадники окружают их, как частокол: они едут, подняв к небу украшенные флажками тяжелые копья. Уже можно разглядеть яркие узоры, намалеванные на их длинных, заостренных книзу щитах. Особенно нарядные и пышные всадники из окружения самого гроссмейстера едут отдельно слева, в тени шестистолпного собора Ивановского монастыря. Колокола в звонницах раскачиваются, и над городом плывет непрерывный, беспокойный гул.
Передовые отряды подошли к самым стенам, и наши лучники сделали первый залп. Кажется, туча прошла над землей – так густо летят стрелы. Но они не причинили вреда закованным в стальные латы рыцарям. Лишь кое-кто из кнехтов схватился за грудь и упал под ноги наступавших шеренг.
Кнехты снимают с плеча арбалеты, натягивают их и, встав на одно колено, начинают обстреливать стены. Мы попрятались за каменными зубцами. Наши лучники посылают свои стрелы из бойниц, через головы рыцарей. Пока шла перестрелка, кнехты пращники, укрывшись под самой стеной от стрел, начали поднимав лестницы. Молодой боярин в шлеме и кольчуге с коваными соколами на груди махнул рукой, чтоб лили смолу. Немецкие арбалетчики не дают поднять головы. Кто-нибудь из наших то и дело падает, пронзенный стрелой. Но смола уже течет по желобам, клокоча и медленно застывая. Арбалетчики перестали стрелять, потому что передовые отряды уже лезут на стены. Мы рубим врагов топорами, деремся секирами, сталкиваем вниз лестницы. Я работаю вилами без устали.
Битва не затихает. На небе зажглись звезды, и серебристый месяц скользит по волнам реки, а мы все не опускаем мечей. Мы, держась руками за камень зубпов, ногами отталкиваем вражьи лестницы. И тут кричат, что бояре открыли ворота восточной стены.
Воспользовавшись нашим замешательством, на стены ворвались кнехты. А сзади уже слышно, как гудит мостовая под тяжелым шагом закованных в латы коней.
Связанные, с колодками на ногах, лежа в сыром подземелье, мы слышим, как стучат топоры плотников. На площади строят виселицу. Немцы всегда, войдя в город, строят виселицу… Черные вороны кружат в небе. Но не увидеть неба из каменной темницы, не услышать, как звенит земля под копытами храброй дружины князя Александра, что спешит к нам на подмогу! Да поспеет лп князь? Как настанет утро, выведут нас на городскую площадь…
Вот уже вверху заскрипела, запела тяжелая дверь. Отсвет горящего факела падает на ступеньки. Это за нами. Стучат шаги по сырым каменным ступеням. Все ближе, ближе…
Наверное, это Мироян зажег лампу и идет ко мне, преодолевая оцепенение, – думаю я, лежащий на кушетке. Но нет, это не Мироян. Это на каменном полу пещеры топчутся в ритуальном ганце босые ноги. В пешере душно. Дым костра слезит глаза, царапает горло. Голые плечи лоснятся от жира и пота. Вижу, как передо мной на гладкой стене возникает контур. Еще штрих. Вероятно, это я сам что-то рисую на стене.
Я знаю, что должен рисовать, но не знаю, какое изображение родится под моими руками. Тихо пою. Меня переполняет восторг. Какое это счастье – уметь рисовать! У меня лишь черная головешка от костра да кусок глины, но я могу нарисовать все, что угодно: бизона, мамонта, оленя. И всегда я пронзаю их дротиком. Поэтому охота у нашего племени часто бывает удачной. Но если случится несчастье – вепрь или саблезубый тигр убьет кого-нибудь из охотников, – тогда племя танцует другой танец, печальный и гихий, а я покрываю стены пещеры причудливой вязью, таинственным узором, понятным лишь посвященным. Женщинам и мальчикам, еще не ставшим охотниками, нельзя даже краем глаза взглянуть на эти рисунки. А им хочется, я знаю. Но они боятся. Поэтому, чтобы утешить их, я вырезаю из бивней мамонта всякие замысловатые игрушки. Женщины любуются ими при свете костра в долгие зимние ночи. Девочки укачивают их, как младенцев, и поют протяжные заунывные песни.
Вот и сейчас я рисую на стене медведя. Он должен быть рыжим, н я раскрашиваю его охрой. Женщины танцуют или кормят детей, мужчины шлифуют каменные топоры и ножи из обсидиана. Они низколобы к волосаты, мои сородичи. У них выдаются надбровные дуги, они одеты в мохнатые звериные шкуры. В пещере пылает огонь. Юноши пристально смотрят в его золотистые пряди, и в глазах их светится другой огонь, огонь мысли.
Мне, лежащему на кушетке, ясно, что это верхний палеолит. На стоянках того времени находят разнообразные хозяйственные предметы и орудия охоты, вырезанные из кости женские фигурки, изображения различных животных. Но я стараюсь не думать об этом, чтобы не пропустить ни единой подробности этой замечательной сцены. И вдруг все обрывается. Это, наверное, орудует Мироян. Он ничего мне не дает «досмотреть» до конца, «фильмы» обрываются на самом интересном месте. Но я не сержусь на него. Он хочет показать мне как можно больше, а времени у нас очень мало. Я употребляю привычные и бесцветные слова: фильм, досмотреть, показать. На самом же деле никто мне ничего не «показывает». Я, сам я, но не тот, кто лежит на кушетке, всюду являюсь центральной фигурой. Я все вижу своими глазами, чувствую своим сердцем, хотя все это увидел и прочувствовал не я.
Те, кто способен увлечься кинокартиной до конца, как ребенок, который топает ногами и визжит, поймут меня. Но как бледно и малоправдоподобно кино по сравнению с теми картинами, которые «вкладывает» в мой мозг церебротрон. Вкладывает, именно вкладывает! Наконец-то я нашел нужное слово.
Надо мною качается жидкое зеркало. Чувства мои смутны и непонятны. Зеркало раздается и пропускает меня. Вверху небо, затянутое плотной пеленой облаков. Облака похожи на мокрую вату. Идет тихий дождь. Струйки, как тонкие нити, пронзают воду. Небо словно прядет из них бесконечную ткань океанской глади. Берег совсем рядом. Пологий и песчаный. Грустно блестит мокрая листва. Ажурные папоротники, стройные жесткие хвощи. Меня смутно тянет к этому берегу. Мне хочется побыть хоть немного на этом мокром песке, с которого сбегает грязноватая пена. Но вновь надо мной качается жидкое зеркало. И вновь я выныриваю и с любопытством смотрю на берег.
Я, который лежу на кушетке, сразу же узнаю девонский лес. Мною овладевают противоречивые чувства. С одной стороны, я хочу напрячь внимание и память, чтобы надолго запечатлеть картины трехсотмиллионнолетней давности. Но это мешает мне самому участвовать в них, раздваивает мое внимание. Поэтому лишь на миг я испытываю какое-то сумеречное чувство опасности, когда вижу в глубине огромную панцирную рыбу с разверстой пастью. Она охотится. У нее нет зубов, но костные наросты на челюстях мгновенно перепиливают зазевавшуюся трехметровую акулу. Но мне уже не страшно. Тот, который лежит на кушетке, узнает в чудовище титанихтиса, и очарование рассеивается. Внимание вновь раздвоено. После долгих сомнений я все-таки решился подплыть вплотную к берегу и высунуться из воды. Я вижу поразительную картину. Прорвав застывшую гнилую пену, на песок выходят какие-то амфибиеобразные существа. Одни из них только еще цепляются лапками за выброшенные на берег кучки гниющих водорослей, другие уже лежат на песке или медленно ползут к лесу. А некоторые, но их немного, возвращаются назад, в океан. И я, лежащий на кушетке, понимаю, что вижу величайший в истории земли момент, когда первые ихтиостегалы покинули колыбель жизни, чтобы утвердить свое право на жизнь под солнцем. Вам предстоит стать людьми, маленькие амфибии! Те же, кто испугался терпкого аромата лесов, жаркого солнца и пьянящего синего неба и вновь вернулся, просто вымрут. Жестокий и правильный закон развития. Кто не может идти вперед – погибает.
Но почему надо мной снег? Я же только что видел зелень листьев! А может, это не снег? Нет, снег. Напитанный талой водой, изжеванный сапогами и сдобренный навозной жижей снег. Низко нависает поблескивающее серым металлом, с длинными желтыми подпалинами небо.
Откуда-то с рек тянет близкой весной. Тревожный и крепкий запах. Люди жадно ловят его ноздрями. Запрокидывают голову, щурятся. Много людей. Они плохо одеты и возбуждены. Они собираются в кучи и вновь расходятся. Время от времени кто-нибудь поднимается над толпой, срывает с головы ушанку и, сжав руку в кулак, начинает говорить. Толпа рокочет, как река перед наводнением.
Я чувствую, что меня, точно щепку в половодье, подхватил стремительный поток. Сапоги, пимы, унты месят перезрелый снег. Серая белка грызет огромную кедровую шишку. Угрюмо смотрит столетняя темная ель. Большой деревянный дом. Резное крыльцо. Помятая жестяная вывеска: «Ленское золотопромышленное товарищество. Контора». На крыльце толстый краснорожий мужик. Он без шапки. Волосы, разделенные прямым пробором, блестят от репейного масла, на толстом брюхе колышется массивная золотая цепочка. Рядом офицер в голубом мундире, с аксельбантом и шашкой. Лицо нервное и худое, глаза белые, сумасшедшие. Рука мучит и мнет белую перчатку. Тут же какой-то иностранец, высокий и поджарый. В кожаном кепи с поднятыми меховыми наушниками. С моноклем и в крагах. Чиновники сгорбленные, многие в пенсне, с портфелями под мышкой. Топчутся. Лица окутаны паром.
А небо над головой тяжелое, давящее. На кого оно упадет, небо? На нас или на тех? Но это я чепуху плету. Небо не может упасть. Просто я волнуюсь.
Рядом со мной румяная, крепкая девушка в голубом платке и телогрейке. Глаза взволнованные, большие и серые, как небо. Она крепко ухватилась за рукав высокого парня с темным изможденным лицом. Пальцы у него коричневые от махорки. Он курит и кашляет, надсадно и долго.
Идущие впереди меня стали. Я вижу их затылки. Они напряглись в ожидании. Иногда затылки бывают выразительней лиц. Сзади напирают. Почему мы остановились? Я уже смотрю поверх голов. Наверное, я приподнялся на носки (себя я никогда не вижу). Пестрое море голов. Рвется на ветру красное полотнище. Лица у солдат тоже красные. С лиловым оттенком. Ружья на изготовку, штыки примкнуты. Золотые гладкие пуговицы в красных петлицах, желтые буквы на погонах. Кожаные подсумки с патронами. Легкий иней на мохнатом ворсе шинелей. Я вижу все резко и четко, как сквозь уменьшительное стекло. Но, странно, я вижу как-то отрывочно. Отдельными фрагментами, случайными деталями. Это кинематографическая отрывочность. Может быть, это от волнения? Я действительно очень волнуюсь. Волнение накатывает и вдруг пропадает. Потом опять накатывает. Почему мы все время стоим? Как во сне. Офицер на крыльце что то орет – рот как круглая яма. Но слов не слышно. Чиновники тоже что-то беззвучно лопочут. Кто-то из наших, в передней шеренге, тоже кричит, размахивая шайкой и оглядываясь на толпу, точно все время спрашивая у нее: «Правильно я говорю? Так?»
Одни солдаты неподвижны. Штыки, вытянутые в линию, не шелохнутся. Тощнй человек с моноклем, прижав ко рту ладонь, что-то шепчет на ухо офицеру. Тот согласно кивает головой. Чуть подрагивают малиновые шнуры аксельбантов. Солдаты смотрят куда-то мимо нас.
Я не понимаю, что случилось. Передние пятятся и поворачивают назад. Люди бегут. А я не понимаю, в чем дело.
Странное удивление овладевает мною. Я будто один остался лицом к лицу с солдатами, с теми, которые на крыльце… До них шагов двести. И всюду чернеют на снегу люди. Одни неподвижные, другие еще шевелятся. Люди лежат в снегу передо мной, и сзади меня, и вокруг меня. Снег почему-то все приближается ко мне, а небо, и крыльцо, и солдаты как-то поворачиваются и уходят в сторону. И желтый, измочаленный снег почемуто розовеет и розовеет. Становится совсем красным, как полотнище над черной толпой…
В зале уже давно горит лампа. Мироян сидит на моей кушетке. А я лежу и не могу подняться. Сейчас я не верю в свою собственную реальность. Реальность – там, на снегу затерянного в тайге Надеждинского прииска…
Вечер тихо ползет за окном, Я еду на электричке в Москву. Только что прочел записи Мирояна. Не мог утерпеть и читал их здесь, в электричке. Сижу и думаю. Думаю об очень многом. Где-то позади меня, в конце вагона, шумно и дружно поют туристы. Грустит аккордеон, рокочет под молодыми ладонями, как барабан, пустое ведро. Поют песенки Окуджавы. Поют о любви и расставании. Весь вагон слушает. С тихой, ласковой завистью. На душе становится чуть грустно и хорошо. Повсюду букеты цветов. Астры, георгины, флоксы. Слишком яркие краски. Цветы пахнут увяданием. Они дышат долгими дождями и ранней осенью. Они хорошие и грустные, как песни. Песня умолкает. Слышны споры и смех. Аккордеон нетерпеливо наигрывает. Он ждет. Он не любит перерывов. Вновь дружно грянула песня. Аккордеон радостно ее догнал. Слова, знакомые не одному поколению туристов и альпинистов:
Ледорубом, бабка, ледорубом, Любка,
Ледорубом, ты, моя сизая голубка!
Хорошая песня. Но очарование рассеивается. Пассажиры как бы просыпаются ото сна и, виновато улыбаясь, возвращаются к прерванным разговорам, отложенным в сторону книгам и журналам. Рядом со мной сидит молодая женщина. Тонкие, узкие руки. Яркий лак на ногтях. Усталая складка у переносицы. Прекрасный алебастровый лоб. Она читает «Романтиков» Паустовского. Тревожно и сладко пахнут ее духи.








