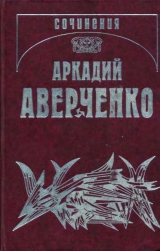
Текст книги "Том 3. Круги по воде. Рассказы 1911-1912"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 52 страниц)
Флоренция
Мнение путеводителя. – Испорченный механизм Мифасова. – Фьезоле. – Катанье в странном экипаже. – Человек, перещеголявший Сандерса. – Мы растерялись. – Поиски. – Остроумный плакат. – Опять Фьезоле
В путеводителе – о Флоренции сказано:
– Этот город можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.
А о Венеции в том же путеводителе сказано:
– Этот город считается самым красивым из всех итальянских городов.
К Риму составитель путеводителя относится так:
– Рим можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.
Можно сказать с уверенностью, что жена составителя путеводителя в своей семейной жизни была не особенно счастлива. Каждую встретившуюся женщину увлекающийся супруг находил «лучше всех».
Венеция – царица, а Флоренция – ее красивая фрейлина, поддерживающая царственный шлейф. В Венеции нужно наслаждаться жизнью, во Флоренции – отдыхать от жизни.
Благородным спокойствием обвеяна Флоренция.
Улицы без крика и гомона, роскошная зелень недвижно дремлет около белых дворцов, а солнце гораздо ласковее, нежнее, чем в пылкой Венеции.
Едва мы умылись в гостинице и переоделись, я спросил:
– Что хотел бы каждый из вас сейчас сделать?
– Меня интересует, – нерешительно сказал Мифасов, – постановка их школьного дела.
Крысаков пожал плечами и взглянул на часы:
– Поздно! Они уже, наверно, кончили свои кружевные дела. Меня интересует – едят ли здесь что-нибудь? Я хочу есть.
– А вы, Сандерс, чего хотите?
Он вздохнул, поглядел в окно, передвинул ногой чемодан и сказал:
– Я…
Мы терпеливо подождали.
– Ну, ладно! Выскажетесь по дороге. Некогда.
– Надо, господа, ехать во Фьезоле, – предложил Мифасов. – Полчаса езды на трамвае. Там прекрасно. Красивое местоположение, зелень.
Совет Мифасова поставил нас в затруднительное положение. За час перед этим я заглядывал в путеводитель и нашел такие сведения: «Фьезоле, полчаса езды от Флоренции в трамвае; прекрасное местоположение, масса зелени».
Но раз это же самое утверждал Мифасов, я усомнился: нет ли ошибки в путеводителе? Потому что не было большего неудачника в подобных случаях, чем Мифасов. У него была прекрасная память, но какая-то негативная: все запоминалось наоборот.
– Может быть, Фьезоле не около Флоренции, а около Рима? – спросил, колеблясь, я.
– Нет, здесь.
– Может быть, это какая-нибудь скверная дыра? Не спутал ли ты, Коленька… А? Ну-ка, вспомни.
– Нет, там хорошо.
И что же… Не успел трамвай доехать до места назначения, как мы убедились, что это Фьезоле и что оно действительно прекрасно.
– Тут есть, господа, остатки древнего цирка. Можно взять лошадок и съездить посмотреть. Близко.
– Коля, – осторожно сказал Крысаков, – может быть, это не цирк, а театр, а? И не старый, а новый? Ну-ка вспомни-ка. Может, до него далеко? Может, тут не лошадки возят, а мулы или верблюды?
В механизме Мифасова что-то испортилось: цирк был действительно древний и находился он близехонько.
Когда я сравниваю себя с товарищами, мне прежде всего бросается в глаза разница нашей духовной организации. Попробуйте спросить меня, что осталось в моей памяти от Флоренции и Нюрнберга? Я отвечу в первом случае: красивая грусть, которой проникнуто было все; во втором случае: идиллическое настроение на фоне суровых, тесно сдвинувшихся зданий, в окна которых, казалось, грозно глядят прошлые, серые века, закованные в латы и отягощенные доспехами. А спросите о Флоренции и Нюрнберге моих товарищей. От всего Нюрнберга уцелел толстый немец Герцог, хозяин кабачка, в котором нас угостили несравненными кровяными колбасами, брат-вурстом и изумительным пивом. Я до сих пор не могу забыть ни этих колбас, ни этого пива… Флоренция? Фьезоле? О, конечно, при этом слове у моих друзей засверкают глаза и польются воспоминания:
– Помните кьянти? Нигде во всей Италии нам не давали такой прелести! А асти? Нигде нет такого! А мартаделла, а гарганзола!! А какая-то курица, приготовленная таинственно и чудесно. Ах, Фьезоле, Фьезоле!..
Действительно, должен сознаться, что ни этого вина, ни этих чудесных кушаний забыть нельзя. Ах, Фьезоле, Фьезоле!
После этого чудесного пира мы, ласковые и разнеженные, вышли из увитого зеленью дворика крохотного ресторана и бодро зашагали, полные искренней любви друг к другу. Крысаков не преминул снять с Сандерса шляпу и нежно поцеловать его в темя.
– Почему? – спросил сонно Сандерс.
– Славный вы человек. Дай Бог вам всего такого… Идя сзади под руку с Мифасовым, я шепнул ему:
– В сущности, они хорошие ребята, не правда ли?
– Превосходные. В них есть что-то такое… Он споткнулся, но я дружески поддержал его.
– Стойте! – закричал Крысаков. – Экипаж! Поедем на нем. Эй, ты! Свободен?
Это был большой, черный, поместительный экипаж, влекомый парой лошадей, которых вел под уздцы парень в грязном, темном костюме.
– А флорентийцы, как и венецианцы, – люди одного вкуса. Все у них выдержано в черных тонах. Садитесь, господа! Фу ты, как неудобно…
Кучер что-то закричал и стал прыгать и кривляться около экипажа.
– Что он делает?
– Наверное, какая-нибудь секта. Эти итальянцы, вообще…
– Может быть, он занят? Спросите его по-французски.
По-французски возница не понимал.
– Свободен? – спросил Мифасов. – Либро? Э? Твоя экипажа свободна есть? Либро?
Экипаж оказался свободен и, тем не менее, возница очень не хотел, чтобы мы садились. Он кричал и бесновался…
– Покажите этому флорентийскому ослу пять лир. Может быть, это его успокоит.
Мы показали смятую бумажку и победоносно полезли в экипаж.
Возница застонал, всплеснул руками, вскочил на облучок, ударил по лошадям – и экипаж поскакал, бешено подпрыгивая на каменистой мостовой.
Прохожие, встречаясь с нами, взмахивали руками и кричали что-то нам вслед; мальчишки бежали за нами, приплясывая и оглашая воздух немолчными воплями.
– Какое приветливое народонаселение, – сказал Мифасов удовлетворенно. – Вообще итальянцы всегда хорошо относятся к иностранцам.
– А может быть, они принимают нас за каких-нибудь должностных лиц? – спросил честолюбивый Крысаков.
– Ну, знаете… Мы больше смахиваем на конокрадов.
– О, черт. Ударился головой о верх! Знаете, я думаю, этот экипаж не создан для быстрой езды.
В справедливости слов Крысакова мы не замедлили убедиться через две минуты. Навстречу нам очень медленно подвигался такой же самый экипаж. Возница степенно вел четырех лошадей под уздцы, а сзади шагали погруженные в задумчивость люди. В экипаже был только один пассажир, и тот не сидел, а лежал, чинно сложив на груди руки.
– Посмотрите-ка, что это?
– Д-а-а… Гм!..
– Знаете что? Тут уж нам недалеко; пройдемся пешком.
– Идея! А то мы совсем без движения…
– Растолстеешь, – согласился Крысаков, поспешно спрыгивая с нашего странного экипажа.
Домой мы добрели молча. Говорить не хотелось.
Уезжали на другой день утром. Во Флоренции нам удалось видеть самого медлительного человека в мире. Сандерс казался перед ним человеком-молнией.
Наша гостиница была около самого вокзала, через дорогу. Портье сказал, что он довезет наши вещи на тележке, а мы можем пойти вперед, брать билеты. До поезда оставалось двадцать пять минут. Мы взяли билеты, просмотрели юмористические журналы; до поезда осталось десять минут. Выпили бутылку вина, проверили билеты, проверили время отхода – осталось три минуты.
– Проклятое животное! Мы опоздали. Не украл ли он наши вещи?
– Пусть кто-нибудь побежит за ним.
– А вдруг он сейчас откуда-нибудь вынырнет?
– Как же мы поедем без одного. Нам разлучаться нельзя.
– Теперь уж не разлучимся.
– Почему?
– А вот… наш поезд… тронулся.
Когда хвост поезда скрылся где-то за горизонтом, послышалось тихое пение, и портье, мурлыча популярную канцонетту и толкая впереди тележку с нашими вещами, показался из-за угла. Он подвигался популярным среди нас «шагом Сандерса» со скоростью десяти ругательств спутника в минуту.
Остановился… Вытер лицо красным платком, закурил сигару, пожал руку знакомому факкино и, заметив в углу нашу молчаливую группу, благодушно спросил:
– Опоздали? Поезд ушел?
– Ушел.
– Та-ак.
– Ну, что новенького в Риме? – спросил, сдерживая себя, Крысаков.
– О, я, синьоры, к сожалению, не был там.
– Неужели? Я думал, вы сейчас туда заезжали по дороге. Благополучно ли вы переправились через неприступное ущелье, отделяющее гостиницу от вокзала?
– О, синьоры, дорога совершенно прямая.
– Знаете, кто вы такой, синьор портье? Идиот, грязное животное, негодяй и бригант!
К французскому языку он относился совершенно равнодушно, что было видно из того, что лицо его оставалось сонным, и под градом ругательств он сладко затягивался отвратительной сигарой.
– По-итальянски бы его, – свирепо сказал я.
– Ладно. Кто будет?
– Говорите вы. А мы будем составлять фразы.
Каждый из нас знал по несколько итальянских ругательств, но это было плохое, разрозненное издание. Приходилось собирать у каждого по несколько слов, систематизировать и потом уже в готовом виде подносить их Крысакову для передачи по адресу.
Мы расселись на своих чемоданах, и фабрика заработала. Мы с Мифасовым произносили слова, Сандерс их склеивал, а Крысаков громовым голосом бросал уже готовый фабрикат в лицо обвиняемому.
Обвиняемый присел на пустую тележку, надвинул шапчонку на глаза и закрыл лицо руками.
Когда мы с Мифасовым опустошили себя, оказалось, что негодяй заснул.
– Пойдем жаловаться хозяину гостиницы.
Они ушли, а я остался около вещей. Прошло очень много времени; я видел, как ушел второй поезд на Рим, и узнал, что следующий уходит только через три часа. Велел факкино отнести вещи в багаж, а сам пошел бродить по городу, чтобы протянуть время до поезда. Обиженный, покинутый, плотно позавтракал. За час до отхода поезда вернулся на вокзал. Никого не было. Потом оказалось, что Сандерс, Крысаков и Мифасов пришли после моего ухода на вокзал. Увидели, что меня нет, и отправились искать меня по городу. Зашли по дороге в альберго, хорошо позавтракали. Потом опять искали. А я пришел на вокзал, никого не нашел и, встревоженный, отправился на поиски. Искал долго, устал… Зашел в ресторан пообедать. В это время потерянные друзья опять навестили вокзал, не нашли меня и снова пустились в поиски; заглядывали в рестораны, остерии; в одной решили пообедать. А поезда приходили из Рима, уходили в Рим, сновали туда и сюда, не дожидаясь несчастной, расползшейся по всему городу компании. Группа «Мифасов, Сандерс и Крысаков» устроила заседание, по поводу потерявшейся группы «Южакин», и решила поставить поиски на самую широкую ногу: город был разбит на районы; на углах улиц поставлена была цепь сторожевых (Мифасов); член этой человеколюбивой экспедиции Сандерс был командирован на вокзал со специальным поручением: наклеить в багажном отделении на мой чемодан глубокомысленный плакат:
«Если вы придете на вокзал, забирайте вещи и идите в гостиницу „Палермо“, где мы ночуем. А если не придете на вокзал, мы вечером – в щантанчике у Рынка Свиньи, туда прямо и идите».
Ниже приписка карандашом:
«Впрочем, что я за дурак: если вы не придете на вокзал, как же вы узнаете, что мы вечером у Рынка Свиньи? Тогда, ведь, вы не будете знать, где мы. В таком случае, поезжайте в „Палермо“ и вечером просто ложитесь спать. Крысаков кланяется».
– А, ну вас, – подумал я. – Не люблю людей, делающих ложные шаги. К черту ваш Рынок Свиньи! Поеду-ка я лучше на Фьезоле, в этот милый кабачок.
Потом я выяснил, что мои спутники к концу вечера растеряли друг друга и каждый очутился в одиночестве. Это произошло потому, что Крысаков, вместо того чтобы ждать Сандерса в условленном месте, решил пойти ему навстречу; Сандерс, наоборот, решил зайти по дороге за Мифасовым, а Мифасов отправился к Крысакову, не нашел его, полетел на вокзал, – и четыре человека весь день бродили в одиночестве по флорентийским улицам. Каждый из них был раздражен глупостью других и, не желая их видеть, решил провести вечер в одиночестве.
Поэтому Крысаков был чрезвычайно изумлен, обнаружив меня на Фьезоле, в излюбленном ресторанчике, а Сандерс и Мифасов, появившиеся почти в одно время за нашими спинами, сочли это каким-то колдовством.
Сначала, усевшись, мы сделали кое-какую попытку разобраться в происшедшем, но это оказалось таким сложным, что все махнули рукой, дали клятву не разлучаться и… курица по-итальянски, выплывшая из ароматной струи асти, смягчила ожесточившиеся сердца.
Рим
Сандерс сокрушается. – Старина. – Я стараюсь перещеголять гида. – Колизей. – Сандерс в катакомбах. – Музей. – Тяжелая жизнь. – Художественное чутье. – Дорогая палка. – Уна лира
Рим не на всех нас произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандерс засунул руки в карманы и спросил:
– Это вот и есть Рим?
– Да.
– Это такой Рим?
– Ну, конечно. А что?
– Гм, да… – протянул он, ехидно усмехаясь. – Так вот он, значит, какой Рим…
– Да, такой. Вам он не нравится?
– О, помилуйте! Что вы! Как же может Рим не нравиться? Смею ли я…
Свесив голову, он долго повторял:
– Да-с, да-с… Вот оно как! Рим… Хи-хи. А я-то думал…
– Что вы думали?
– Ничего, ничего. Городок-с… Городочек-с! Хи-хи. Мы пробовали рассеять его огорчение.
– Он, правда, немножко староват… Но зато…
– Да, да… Староват. Но зато он и скучноват. Он и грязноват. Он и жуликоват. Хи-хи!
В этом смысле я резко разошелся с Сандерсом. Рим покорил мое сердце. Я не мог думать без умиления о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны – две, три тысячи лет от роду. Тысячелетние памятники стояли скромно на всех углах, в количестве, превышающем фонарные столбы в любом губернском городе.
А всякая вещь, насчитывавшая пятьсот, шестьсот лет, не ставилась ни во что, как девчонка, замешавшаяся в торжественную процессию взрослых.
Я долго бродил с гидом по Форуму, среди печальных обломков старины, и в ушах моих звенели диковинные цифры:
– Две тысячи лет, две с половиной! Около трех тысяч лет…
Когда мы брели усталые по сонным от жары улицам, я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал:
– О! Вот тоже штучка. Я думаю, не из новых.
Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил:
– Дрянь! Всего-то восемьсот лет.
На углу меня заинтересовала чья-то бронзовая статуя.
– Господин, – сказал гид, – если мы будем останавливаться около таких пустяков – у нас не хватит недели.
– Вы это считаете пустяком?
– О, Господи ж! Поставлен в прошлом столетии.
– Однако, – сказал я. – Как же вы терпите эту ужасную новую ярко-позолоченную конную статую Виктора-Эммануила?
– О, ведь это вещь временная. Этот памятник еще не готов.
– Почему?
– Он будет готов через шестьсот – семьсот лет, когда позолота слезет. Тогда это будет благороднейшее старинное произведение искусства.
– Странный обычай. У нас, в России, таким способом заготовляют только огурцы впрок. Раз он не готов – не нужно было его открывать…
– Закрытыми такие вещи нельзя держать, – возразил гид. – Тогда позолота и в тысячу лет не слезет.
Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид.
В сумерки он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь:
– Не желает ли господин посмотреть тут один шантанчик?
– Старый? – спросил я.
– О, нет, совершенно новый, недавно отремонтированный.
– Так что ж вы мне его предлагаете! Еще если лет восемьсот, девятьсот…
– О, тогда господину нужно пойти в кафе Греко.
– Старое?
– О, да. Еще в восемнадцатом веке…
– Только-то? Нет, мой дорогой. Я полагаю – его можно будет посещать лет через триста… и то с большой натяжкой…
Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал:
– В таком случае, не посмотрите ли вы завтра собор святого Петра?
– О, – равнодушно пожимая плечами, промямлил я. – Вы говорите – святого? Это, вероятно, что-нибудь уже после Рождества Христова?
– Да, но…
– Знаете что? Отложим это до будущего приезда. Всетаки будет годиком больше, а?
– Ну, я знаю, что господину нужно… Он завтра утром посмотрит Колизей и термы Каракаллы.
– Ну что ж, – сказал я. – Я полагаю, что это меня позабавит.
На другой день утром автомобиль в двадцать минут доставил нас прямо к Колизею. Был прекрасный жаркий день.
Лицо гида сияло гордостью и торжеством.
– Вот-с! Извольте видеть.
– А где же Колизей? Гид побледнел:
– Как… где?.. Вот он, перед вами!
– Такой маленький? Тут повернуться негде.
– Что вы, господин! – жалобно вскричал гид. – Он громаден! Это одно из величайших зданий мира. Пожалуйте, я вам сейчас покажу ямы, где содержались звери до представления и откуда их выпускали на христиан.
– Там сейчас никого нет? – осторожно спросил положительный Мифасов.
– О, синьор, конечно. Вам со мной нечего бояться. Вот видите, остатки этих громадных стен; все они были облицованы белым мрамором – такую работу могли сделать только рабы.
– А где же мрамор?
– Монахи утащили в Ватикан. Весь Ватикан построен из награбленного отсюда мрамора.
– Ага! – сказал Сандерс, – око за око… Сначала звери в Колизее драли христиан, потом христиане ободрали Колизей.
– О, – сказал гид, – христианство погубило красоту Рима. Это была месть язычеству. Лучшие памятники разграблены и уничтожены Ватиканом. Вам еще нужно взглянуть на бани Каракаллы и на катакомбы.
Добросовестный гид потащил нас куда-то в сторону, и мы наткнулись на грандиозные развалины, на стенах которых еще кое-где сохранилась живопись, а на полу – чудесная мозаика.
Мы, притихшие, очарованные, долго стояли перед этим потрясающим памятником рабства и изнеженности, над которым несколько тысячелетий пронеслись, как опустошительный ураган, пощадив только то немногое, что могло дать представление нам, узкогрудым потомкам, о мощном размахе предков.
И мне захотелось остаться тут одному, опуститься на обломок колонны и погрузиться в сладкие мечты о безвозвратно минувшем прошлом. Так хотелось, чтобы никого около меня не было, ни гида, ни Сандерса, с его сонным видом и вечным стремлением завязать спор по всякому ничтожному поводу, ни размашистого громогласного Крысакова, ни самоуверенного кокетливого Мифасова, которому до седой старины такое же дело, как и ей до него.
В это время ко мне приблизился Мифасов и сказал тихонько:
– Вот она, старина-то!.. Так хочется побыть одному, без этого хохотуна Крысакова, без вялого дремлющего Сандерса, которому, в сущности, наплевать на всякую старину… Так хочется посидеть часик совсем одному.
За моей спиной послышался шепот Сандерса:
– Вас не смешат, Крысаков, эти два дурака, которые, вместо того чтобы замереть от восторга, шепчутся о чемто? Как бы мне хотелось, чтобы никого из них не было!.. Сесть бы в уголочке да помечтать.
– Да, да, – сказал Крысаков. – Мне тоже. Чтобы никого не было!.. Ну, разве только вы, – деликатно добавил он.
Были мы в катакомбах. Сырой, холодный воздух, зловещий шорох наших ног, огонек свечи, освещающий пространство в ладонь величиной, и тяжелое смутное настроение, которое еще больше усиливали вопросы Сандерса, неожиданно вступившего в полосу разговорчивости в этом неподходящем месте.
– Почему тут так темно? – осведомился он у монаха.
– Катакомбы.
– Ну, я понимаю – катакомбы! А все-таки могло быть светлее. Тут никто не живет?
– Конечно, нет. Здесь хоронили мучеников, а в последнее время – пап.
– Чьих? – бессмысленно спросил Сандерс, отколупывая пальцем кусок воска от свечки.
– Римских.
– Ага! Теперь уже, вероятно, нет древних христиан? Времени-то, слава Богу, прошло немало.
– Ради Бога, довольно! – сурово перебил Крысаков. – Теперь я понимаю, почему Сандерс так редко разговаривает… У него есть солидные основания.
Большую часть времени, проведенного в Риме, мы тратили на хождение по музеям и картинным галереям.
Я подозреваю, что с музеями у нас с самого начала вышло недоразумение: художники боялись показаться мне и Сандерсу людьми некультурными, не интересующимися искусством и потому, едва успев приехать в город, уже неслись с искаженными тоской лицами во все картинные галереи города; мы, не желая показать себя перед художниками людьми отсталыми, равнодушными к их профессии, носились за ними.
Сколько мы видели картинных галерей? Сколько музеев обежали мы за все время наших скитаний по Европе? Какое количество картин больших и маленьких промелькнуло перед нашими утомленными глазами? Берлин, Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Париж… Всюду целое море полотна – зеленого, красного, розового, старинного и нового…
В Ватикане Сандерс заснул в музее за дверью, а в другом музее – забыл его название – мы так разошлись, что, поднимаясь все выше и выше, попали в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели несколько живых стариков. Мы тупо осмотрели их, постояли добросовестно около портрета Виктора-Эммануила и потом потащились обратно, шатаясь от усталости.
– Вот столб какой-то, – указал Мифасов, когда мы спускались по темной лестнице.
– Старинный?
– Бог его знает! Спокойнее будет, если осмотрим. Осмотрели столб. Как говорится, ничего особенного.
Начиная с Мюнхена, мы, по приезде в каждый город, усвоили привычку робко спрашивать у обывателей:
– Нет ли тут каких-нибудь музеев или картинных галерей?
И если музеи были, Крысаков решительно надевал шляпу и с суровой складкой у углов рта с видом подвижника говорил:
– Ну, ничего не поделаешь… Надо идти. Остальные трое безропотно надевали шляпы и шагали за ним, угрюмо опустив головы.
– Может быть, он закрыт? – шептал Сандерс, с надеждой поглядывая на Крысакова.
– Глупости! Почему бы ему быть закрытым?
– Ремонт… Или по случаю пожара.
– Вздор! Пойдем. Я вам покажу тут такого Луку Кранаха, что даже ахнете.
Как люди деликатные, мы с Сандерсом ахали.
– Смотри, Сандерс – Кранах!
– Да, да! Лука. Изумительно.
Крысаков и Мифасов распознавали художников и их картины по общепринятой системе; у Сандерса же была своя система – очень дикая, но, к общему изумлению, довольно верная. Например, Рубенса он узнавал по цвету женских колен, а какого-то французского художника единственно по тому признаку, что на всякой его картине в центре была нарисована белая лошадь. И действительно – в десятке разбросанных картин было заключено десять лошадей, и все белые, и каждая в центре.
Я с завистью смотрел на трех друзей, которые издали безошибочно, по одним им известным признакам, узнавали среди десятков – какого-нибудь Гверчино, Зурбарана или Луку Кранаха.
В конце концов, я придумал следующий практичный и простой способ конкурировать с ними: когда они застывали в изумлении перед какой-нибудь картиной, я потихоньку прокрадывался в следующую комнату, прочитывал подписи под картинами, возвращался и потом, шествуя в хвосте в эту следующую комнату, говорил, выглядывая из-за спин товарищей:
– А! Что это? Если не ошибаюсь, эта старина Лауренс? Похоже на его письмо…
– Да, это Лауренс, – неохотно соглашался Крысаков.
– Еще бы! Я думаю. А этот, вот в углу висит – убейте меня, если это не Берн-Джонс. Сразу можно узнать этого дьявольского виртуоза! Ну конечно. Да тут, если я не ошибаюсь, и Гэнсборо, и Рейнольдс!
Сандерс, Мифасов и Крысаков изредка ошибались. Я никогда не ошибался.
– Смотрите! – говорил Крысаков. – Ведь это Коро! Его сразу можно узнать.
Я читал на дощечке: «Ван-Хиггинс, Голландская школа».
– Неужели? А ведь совсем Коро!.. Не правда ли, Мифасов?
– Да! – подтверждал Мифасов, очень ревниво относившийся к поддержанию их профессионального престижа. – Ну, Добиньи, конечно, вы сразу узнали?
– Это не Добиньи, – поправлял я. – Это Курбе.
– Ну, Курбе! Их часто смешивают.
– У Курбе всегда толстое дерево сбоку, – авторитетно замечал дремавший Сандерс.
И мы шли дальше, пробегая одним взглядом десятки картин, лениво волоча усталые ноги и судорожным движением выпрямляя изредка натруженные спины и затылки.
Когда уже все было осмотрено, несносный проныра Крысаков неожиданно говорил:
– А вот тут есть еще один закоулочек – мы в нем не были.
– Ну, какой там закоулочек… Стоит ли? Я уверен, там ничего путного нет.
– Нет, Сандерс, – так нельзя. Нужно все осматривать…
– Милые мои! Отпустите вы меня…
– Что вы! Там целых два Фрагонара.
– Два?.. Эх! Ну, идем!!
Всюду нам сопутствовала компания англичанок. Англичанки все, как на подбор, были старые – ни одной молоденькой, ни одной красивой.
За все время мы видели несколько сот англичанок – все они были старые, отвратительные. Я уверен, что в Англии есть много и молодых, но они на континенте не показываются. Их, вероятно, держат где-нибудь взаперти, выдерживают в каком-то погребе, дожидаясь, пока они постареют. А когда они готовы – их выпускают на континент большими партиями. Ездят они всюду по Куковскому маршруту, сопровождаемые длинными, иссохшими от времени англичанами; забавно видеть, как Куковский проводник набивает чудовищно-громадный автомобиль этим старым мясом, хватая леди и джентльменов за шиворот и пропихивая их ногой в затруднительных местах. Ничего, довольны.
И бродят они, несчастные, подобно нам, застывая с видом загипнотизированных кроликов перед какойнибудь «головой старика» или «туманным вечером в Нидерландах».
Это позор и несчастье – изучать сокровища искусства таким образом. Что у меня осталось в памяти? Несколько Рубенсов, два-три Рембрандта, полдюжины Бёклинов, и кое-что испанское: поразительные Хулоага, Англада и Саролла-Бастила. А сколько я видел? Зеленые, желтые пейзажи, розовые тела, разные девушки с кошкой, девушки без кошек и кошки без девушек; цветы, сырая рыба рядом с персиками и вечный святой Себастьян, которого не изображал только тот, кто вместо живописи занимался другими делами. Потом было много каких-то уродливых облупленных картин с детской перспективой и кривыми телами.
Корректный Мифасов считал необходимым восхищаться и этими облупленными обрывками старины; а хронический протестант Сандерс в таких случаях ввязывался в ожесточенный спор:
– Замечательно! Ах, как это замечательно! Крысаков! Посмотрите, какой это чудесный тон! И как проштудировано!
– Да, действительно… тон, – деликатно подтверждал Крысаков.
– Послушайте, – начинал Сандерс, как бык, потупив голову и озираясь. – Неужели эта ерунда вам нравится?
– Милый мой, это не ерунда!
– Это не ерунда? Вы посмотрите, как нарисовано! Теперь гимназист пятнадцати лет нарисует лучше.
– Вы забываете исторические перспективы.
– Тогда при чем здесь «тон», «проштудировано»? Изумляйтесь исторически – и этого будет довольно.
– Вы варвар!
– А вы сноб!
– Ах, так? Надеюсь, наши отношения…
– Ну, поехала! – кривился Крысаков. – «Не осенний мелкий дождичек»…
И Крысаков, и Мифасов, как авгуры, упорно охраняли своих богов, а мы, честные, откровенные люди без традиций – не церемонились. Впрочем, однажды, изловив Крысакова в темном уголку, я путем вопросов довел до его сознания, что Боттичелли не так уж хорош, чтобы захлебываться перед ним. На сцену, правда, выступила историческая перспектива, но я налег – и Крысаков сдался. Это меня тронуло, и я, помню, очень расхвалил какую-то незначительную картинку, которая ему понравилась.
Он очень любил живопись, но под конец нашего путешествия, если по приезде в новый город в нем не оказывалось музея, Крысаков оживлялся, шутил и вообще начинал чувствовать себя превосходно.
К концу нашего путешествия мы с Крысаковым оказались обладателями очень драгоценных предметов: я – палки, он – фотографического аппарата. Эти две вещи мы вывезли из России, и на месте они стоили: палка – рубль, аппарат – двенадцать рублей.
Мы с ними нигде не расставались, и поэтому при входе во всякий музей или галерею у нас их отбирали, а потом взыскивали за хранение.
В Риме я решил бросить эту дрянную рублевую палку, но она уже стоила около пятидесяти лир, – было жаль. В Неаполе цена ее возросла до семидесяти лир, начиная от Генуи – до ста, а после Парижа – потеря ее совершенно бы меня разорила. Эта палка и сейчас находится у меня. Любопытные долго ее осматривают и очень удивляются, что такая неказистая на вид вещь обошлась мне около двухсот франков. А крысаковский аппарат к концу путешествия разорил своего хозяина, потому что, как верная собака, таскался за ним в самые неподходящие места.
Рим в отношении поборов – самый корыстолюбивый город. Там за все берут лиру: пойдете ли вы в Колизей, захотите ли взглянуть на картинную галерею, на памятник или даже на собственные часы.
В Ватикане с нас брали просто за Ватикан (лира!), за картинную галерею Ватикана (лира!), за левую сторону галереи (лира!), за правую (тоже!), за Сикстинскую капеллу (лира!) и еще за какой-то закоулочек, где стоит подсвечник – ту же лиру.
Немудрено, что самый захудалый папский кардинал имеет возможность носить бархатную шапку.
Все это сделано на наши лиры.
Извиняюсь за это лирическое отступление, но оно необходимо для того, чтобы пристыдить некоторых итальянцев, если они прочтут эту книгу.








