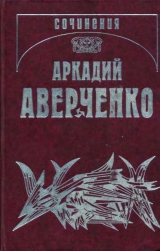
Текст книги "Том 3. Круги по воде. Рассказы 1911-1912"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 52 страниц)
Мать
I
Так как нас было только трое: я, жена и прислуга, а дачу жена наняла довольно большую, то одна комната – маленькая угловая – осталась пустой.
Я хотел обратить эту комнату в кабинет, но жена отсоветовала.
– Зачем тебе? Летом ты почти не занимаешься, ничего не пишешь, а если что-нибудь понадобится – письмо, телеграмму или заметку, – это можно написать в спальне.
– Да зачем же этой комнате пустовать?
– У меня есть мысль: давай сдадим ее.
– Кому? – тревожно спросил я. – Женщине? Это будет возня, капризы, горячие утюги… Мужчине? Он, пожалуй, каналья, начнет за тобой ухаживать… А ты знаешь – взгляды мои на этот счет определенные…
– Что ты, милый! Ни мужчина, ни женщина в этой клетушке не уместится. Нам нужно взять мальчика или девочку. Я так люблю детей…
Мы оба давно мечтали о детях, но детей у нас, как назло, не было. То есть у меня где-то ребенок был, однако жена в нем не была совершенно заинтересована.
Поэтому мы жили скромно и мирно вдвоем, и лишь изредка в наших душах взметалась буря, и щемила нас тоска, когда мы встречали какую-нибудь няньку, влекущую колясочку, занятую толстым краснощеким ребенком.
О дети! Цветы придорожные, украшающие счастливцам тяжелый путь горькой жизни… Почему вы так капризны и избегаете одних, принося радость другим?
– Ты права, милая, – сказал я, закусив губы, так как сердце мое больно ущемила тоска. – Ты права. Пусть это будет не наше дитя, но оно скрасит нам несколько месяцев одиночества.
В тот же день я поехал в город и сдал в газету объявление:
«Молодая бездетная чета, живущая на даче в превосходной здоровой местности, имеет лишнюю комнату, которую и предлагает мальчику или девочке, не имеющим возможности жить на даче с родителями. Условия – тридцать рублей на всем готовом. Любовное отношение, внимательный уход, вкусная, обильная пища. Адрес…»
Через три дня я получил ответ:
«Милостивые государи!
Я спешу откликнуться на ваше милое объявление. Не возьмете ли вы моего малютку Павлика, который в этом году лишен возможности подышать и порезвиться на свежем воздухе, так как дела задержат меня в городе на все лето. А свежий воздух так необходим бедному крошке. Он мальчик кроткий, не капризный и забот вам не доставит. Надеюсь, что и у вас его обижать не станут.
С уважением к вам Н. Завидонская».
В тот же день я телеграфировал:
«Согласен. Присылайте или привозите милого Павлика. Ждем».
II
Целое утро провели мы в хлопотах, устраивая маленькому гостю его гнездышко. Я купил кроватку, поставил у окна столик, развесил по стенам картинки, пол устлал ковром – и комнатка приняла прекрасный, сверкающий вид.
В обед получилась телеграмма:
«Встречайте сегодня семичасовым. Сожалею, сама быть не могу; его привезет няня. Если ночью будет спать неспокойно, ничего – это от зубов. Ваша Завидонская».
Прочтя телеграмму, я свистнул.
– Э, черт возьми… Что это значит – от зубов? Если у этого парня прорезываются зубы, хороши мы будем. Он проорет целую ночь. Экая жалость, что мы не указали желаемого нам возраста. Я думал – мальчишка 8 —10 лет, но если это годовалый младенец… благодарю покорно-с!
– Вот видишь! – с упреком сказала жена. – А ты купил ему кровать чуть не в два аршина длины. Как же его положить туда? Он свалится…
– Наплевать! – цинично сказал я (я уже стал разочаровываться в нашей затее). – Можно его веревками к кровати привязать. Но если этот чертенок будет орать…
Жена гневно сверкнула глазами.
– У тебя нет сердца! Не беспокойся… Если малютка станет плакать – я успокою его. Прижму к груди и тихотихо укачаю…
На жениной реснице повисла слезинка. Я задумчиво покачал головой и молча вышел.
К семи часам мы, приказав прислуге согреть молока, были уже на станции.
Гремя и стуча, подкатил поезд. Станция была крохотная, и пассажиров вышло из вагонов немного: священник, девица с саквояжем, какой-то парень с жилистой шеей и угловатыми движениями и толстая старуха с клеткой, в которой прыгала канарейка.
– Где же наш Павлик? – удивленно спросила жена, когда поезд засвистел и помчался дальше. – Значит, он не приехал? Гм… И няньки нет.
– А может, нянька вон та, – робко указал я, – с саквояжем?
– Что ты! А где же в таком случае Павлик?
– Может… она его… в сак… вояже?
– Не говори глупостей. Что это тебе, котенок, что ли? Толстая женщина с канарейкой, озираясь, подошла к нам и спросила:
– Не вы ли Павлика ждете?
– Мы, мы, – подхватила жена. – А что с ним? Уж не захворал ли он?
– Да вот же он!
– Где?
– Да вот же! Павлик, пойди сюда, поздоровайся с господами.
Парень с жилистой шеей обернулся, подошел к нам, лениво переваливаясь на ходу, выплюнул громадную папиросу из левого угла рта и сказал надтреснутым, густым голосом:
– Драздуйде! Мама просила вам кланяться. Жена побледнела. Я сурово спросил:
– Это вы… Павлик?
– Э? Я. Да вы не бойтесь. Я денежки-то вперед за месяц привез. Маменька просила передать. Вот тут тридцать рублей. Только двух рублей не хватает. Я в городе подзакусил в буфете на станции да вот папиросок купил… Хи-хи…
– Нянька! – строго зашептал я, отведя в сторону толстую женщину. – Что это за безобразие? Какой это мальчик? Если я с таким мальчиком в лесу встречусь, я ему безо всякого разговора сам отдам и деньги, и часы. Разве такие мальчики бывают?
Нянька умильно посмотрела мне в лицо и возразила:
– Да ведь он еще такое дитя… Совсем ребенок…
– Сколько ему? – отрывисто спросил я.
– Девятнадцатый годочек.
– Какого же дьявола его мать писала, что он от зубов спит неспокойно? Я думал, у него зубы режутся.
– Где там! Уже прорезались, – успокоительно сказала старуха. – А только у него часто зубы болят. Вы уж его не обижайте.
– Что вы! Посмею ли я, – прошептал я, в ужасе поглядывая на его могучие плечи. – Пусть уж месяц живет. А потом уж вы его ради Бога заберите…
– Ну, прощай, Павлик, – сказала нянька, целуя парня. – Мой поезд идет. Веди себя хорошо, не огорчай добрых господ, не простужайся. Смотрите, барыня, чтобы он налегке не выскакивал из дому; оно хотя время и летнее, да не мешает одеваться потеплее. Да… вот тебе, Павлик, канареечка. Повесь ее от старой няньки на память – пусть тебе поет… Прощайте, добрые господа. До свиданьица.
III
Молча втроем – жена, я и наш питомец – побрели мы на дачу.
По дороге Павлик разговорился. Выражался он очень веско, определенно.
– На кой дьявол эта старушенция навязала мне канарейку? – прорычал он. – Брошу-ка я ее.
И с младенческим простодушием он не раздумывая размахнулся и забросил клетку с птицей в кусты.
– Зачем же птицу мучить? – возразила жена. – Выпустите ее лучше.
– Вы думаете? В самом деле – черт с ней.
Павлик поднял клетку, поискал неуклюжими пальцами дверцу и, не найдя ее, легким движением рук разодрал проволочную клетку на две части. Канарейка упала на дорогу и, подпрыгнув, улетела.
Мы молча зашагали дальше.
– А рыба в реке здесь есть? – спросил вдруг Павлик.
– Вы любите ловить рыбу?
Он неожиданно схватился руками за бока и захохотал.
– На сковородке люблю ловить! Я мастер есть рыбов.
Когда мы подходили к дому, он снова прервал молчание и спросил:
– И лес есть? И грибы есть?
– Собирать хотите?
– Кого-о? Тут девицы невредные должны, по-моему, за грибами шататься. Ха-ха!..
И снова он разразился хохотом.
Мы усадили его в саду, попросили минутку подождать, а сами вошли в дом. Жена заплакала:
– Что же это такое?
– Придумала! – злобно сказал я. – Ребеночка иметь захотелось?.. На груди своей его собиралась укачивать, если зубки заболят? Пойди-ка… укачай его…
– Куда же мы его денем? – спросила практичная жена, утирая слезы. – Ведь на той кроватке, если его и пополам сложить, он не уместится.
– Уступлю ему свою комнату, – мрачно сказал я. – А сам как-нибудь тут… на полу буду… или к тебе перейду…
– А вот я ему купила одеяльце… Другого-то нет.
– Отдай ему вместо носового платка. А укрывается пусть ковром. Ничего… не подохнет.
Вошла прислуга.
– Я молочко-то разогрела…
– Спасибо, – сказал я. – Ты коньяку лучше к ужину подай.
У открытого окна показался Павлик.
– Это здорово – коньяк. Башковитый вы парень. А котлеты будут?
– Будут.
– А рыба будет?
– Будет.
– Здорово. Значит, мы сегодня двинем для ради первого знакомства.
– Вы можете двигать, – сухо сказала жена, – а ему я не позволю.
IV
На другой день пришло письмо от матери Павлика:
«Прошу сообщить мне, дорогие друзья, как живется у вас Павлику… Я очень беспокоюсь (он у меня один ведь), но приехать навестить его пока не могу. Здоров ли он? Как аппетит? Вы не смущайтесь, если он немного мешковат и застенчив… Он чужих боится, а тем более мужчин. К женщинам он идет скорее, потому что более привык, так как рос в женском обществе. Не надо его особенно кутать, но и без всего его не пускайте. У детей такая нежная организация, что и сам не знаешь, откуда что появляется. Пьет ли он молоко?
С уважением к вам Н. Завидонская».
В тот же вечер я убедился, что мать Павлика была права: малютка «шел к женщинам скорее, чем к мужчинам». Когда я зашел за горячей водой на кухню, мне прежде всего бросилась в глаза массивная фигура Павлика. Он сидел, держа на коленях прислугу Настю, и, обвив руками Настину талию, взасос целовал ее шею и грудь. От этого Настя ежилась, взвизгивала и смеялась.
– Что ты делаешь? – бешено вскричал я. – Павлик! Убирайся отсюда!
Он выпучил глаза, всплеснул руками и захохотал.
– Вот оно что… Хо-хо! Не знал-с, не знал-с.
– Чего вы не знали? – грубо спросил я.
– Ревнуете-с? А еще женатый…
– Уходите отсюда и никогда больше не шатайтесь в кухне.
Вечером я писал его матери:
«Павлик ваш здоров, но скучает. Мы, признаться, не знали, что он такой крошка, иначе бы не взяли его к себе. Ведь оказалось, что Павлик ваш совсем младенец и даже только недавно отнятый от груди (сегодня мною); лучше бы его взять обратно, а? Мы бы и деньги вернули. Тем более что от молока он отказывается, а молоко с коньяком пьет постольку, поскольку в нем коньяк. Аппетит у него неважный… Вчера за весь день съел только гуся, двух жареных судаков и малюсенький бочоночек малосольных огурцов. Взяли бы вы его, а?»
Мать Павлика ответила телеграммой.
«Неужели трудно подержать мальчика до конца месяца? По тону вашего письма вижу, что вы чем-то недовольны. Странно… Если же он застенчивый ребенок, то это со временем пройдет. Я рада, что аппетит его неплох. Не скучает ли он по маме?»
Я пошел к «застенчивому ребенку». «Застенчивый ребенок» сидел в своей комнате, плавая в облаке табачного дыма, и доканчивал бутылку украденного им из буфета коньяку.
– Павлик! – сказал я. – Мама спрашивает: не скучаете ли вы по ней?
Он посмотрел на меня свинцовым взглядом:
– Какая мама?
– Да ваша же.
– А ну ее к черту!
– За что ж вы ее так?
– Дура! Куда она меня прислала? Тоска, чепуха. Девчоночек нет хороших. Настю – не трогай, того не трогай, этого не трогай… Другой бы давно уже за вашей женой приударил, однако я этого не делаю. Я, братец мой, товарищ хороший… Другой давно бы уже… Выпей, братец, со мной, черт с ними…
Я помолчал немного, размышляя.
– Ладно. Я пойду еще коньяку принесу. Выпьем, Павлик, выпьем, малютка.
Я принес свежую бутылку.
– А вот стакан ты, Павлик, сразу не выпьешь. Он улыбнулся:
– Выпью!
Действительно, он выпил.
– А другой не выпьешь?
– Вот дурак-то. Выпью!
– Ну ладно. Умница. Теперь третий попробуй. Ну что? Вкусно? Что? Спать хочешь? Ну спи, спи, проклятый малютка. Будешь ты у меня знать…
* * *
Я притащил с чердака огромную бельевую корзину, завернул Павлика в простыню и, согнув его надвое, засунул в корзину.
На голову ему положил записку:
«Прошу добрых людей усыновить бедного малютку. Бог не оставит вас. Крещен. Зовут Павликом».
Теперь этот несчастный подкидыш лежит в пустом вагоне товарного поезда и едет куда-то далеко-далеко на юг.
Боже, защитник слабых!.. Сохрани малютку…
Хвост женщины
Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд – этакий металлический цилиндрик с ручкой. Если случайно найти на улице такой цилиндрик, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пустая»…
Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три и то – неполных: или руки не будет хватать, или ноги.
Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблучками по тротуарным плитам, очень напоминает мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.
Страшная штука – женщина, и обращаться с ней нужно как с ручной гранатой.
* * *
Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья – эти четыре комнаты, при условии, если в них совьет гнездо Елена Александровна.
– О чем вы задумались? – тихо спросила она.
– Кажется, что я тебя люблю, – радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. – А… ты?..
Как-то так случилось, что она меня поцеловала – это было вполне подходящим, уместным ответом.
– О чем же ты все-таки задумался? – спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.
– Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня, чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.
– Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?
– Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь – с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.
– Послушай… но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.
– Ребенок… Ах, да, ребенок!.. Кажется, Марусей зовут?
– Марусей.
– Хорошее имя. Такое… звучное! Маруся. Как это Пушкин сказал? «И нет красавицы, Марии равной»… Очень славные стишки.
– Так вот… Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.
– Конечно, конечно. Но, может быть, отец ее не отдаст?
– Нет, отдаст.
– Как же это так? – кротко упрекнул я. – Разве можно свою собственную дочь отдавать? Даже звери и те…
– Нет, он отдаст. Я знаю.
– Нехорошо, нехорошо. А может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет с нашей стороны?
– Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.
– Ты думаешь – лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.
– Ну ты не будешь курить в этой комнате, где она, – вот и все.
– Ага. Значит, в другой курить?
– Ну да. Или в третьей.
– Или в третьей. Верно. Ну, что ж… – Я глубоко вздохнул. – Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое гнездышко.
Две нежные руки ласковым кольцом обвились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо – уселись пять женщин.
* * *
Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны, и испуганно зашептал:
– Послушай, Лена… Там кто-то сидит.
– Где сидит?
– А вот там, в столовой.
– Так это Маруся, вероятно, приехала.
– Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.
– Глупый, – засмеялась Елена Александровна. – Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.
– Ня… ня?.. Какая ня… ня? Зачем ня… ня?
– Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?
– Ах, да… действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.
– Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга – такой ужас…
– Няня, значит?
– Няня.
– Сидит и что-то размешивает ложечкой.
– Кашку изготовила.
– Кашку?
– Ну, да чего ты так взбудоражился?
– Взбудоражился?
– Какой у тебя странный вид.
– Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал… Хи-хи…
Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню.
Выбежал оттуда испуганный.
– Лена!!!
– Что ты? Что случилось?
– Там… В спальне… Тоже какая-то худая, черная… стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка… Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.
– Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Ульяша. Она и там у меня служила.
– Ульяша. Там. Служила. Зачем?
– Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну посуди сам.
– Хорошо. Посудю. Нет, и… что я хотел сказать?.. Ульяша?
– Да.
– Хорошее имя. Пышное такое, Ульяния. Хи-хи… Служить, значит, будет? Так… Послушай: а что же нянька?
– Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для меня.
– Ага! Ну-ну.
Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.
– Пойду на кухню. Единственная свободная комната.
* * *
– Лена!!!
– Господи… Что там еще? Пожар?
– Тоже сидит!
– Кто сидит? Где сидит?
– Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.
– Кто? Что за вздор?!
– Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-богу.
– На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, там сидит.
– Николаевна? Ага… Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.
– Нет, ты решительное дитя!
– Решительное? Нет, нерешительное. Послушай, в ресторанчик бы…
– Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку изжарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?
– Катя? Хорошее имя – Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи…
* * *
Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприютный, загнанный, вызывавший слезы.
Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором… Убежать куданибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете – Лена, в столовой – няня, в спальне – Маруся, в гостиной – Ульяша, в кухне – Николаевна. «Гнездышко»… Хотел я свить гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя вон тоже приедет. Корабль сразу оброс ракушками и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..
– Ну что, брат Никифор! – робко пробормотал я непослушным языком.
– Что прикажете? – вздохнул Никифор.
– Ну вот, брат, и устроились.
– Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное, скоро расчет дадите.
– Никифор, Никифор… Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь к другому, холостому барину. Заживете оба на славу. А я…
Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.
Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.
* * *
Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину, бойко стучащую каблучками по тротуару, вы думаете: «Какая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».
А когда я смотрю на такую женщину, я вижу не только женщину – бледный, призрачный, тянется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна… Матушка, матушка, пожалей своего бедного сына!..
* * *
Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.
Возьмите ее, взмахните и подбросьте – на клочки размечется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!
О голове я уже и не говорю.
Новогодний тост
(Монолог)
– Господа!
Предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание: поздравляю, мол, вас с Новым годом и желаю, чтобы в Новом году было все новое!
Так сказал предыдущий оратор.
Мысль, конечно, не новая… (Саня, налей мне, я хочу говорить.) Не новая. Скажу более: мысль, высказанная предыдущим оратором, стара, истасканна, как стоптанный башмак, – да простит мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. Что? (Саня, налей мне еще – я буду говорить. Я хочу говорить.) И, вместе с тем, скажу я: почему нам не приветствовать старой, даже, может быть, пошлой – да простит мне предыдущий оратор – мысли, если эта мысль верна?!! Что? Очень просто. (Саня, чего заснул? Налить бы надо, а ты спишь.) То-то и оно.
Я и говорю: пусть же в Новом году будет все новое, все молодое, все свежее. (Саня! Ну?) Конечно, всего не омолодишь… Вон у Сергея Христофорыча лысина во всю голову – что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох или какое-нибудь пшено. Что? Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает.
Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть. Верно? (Спасибо, Саня. Осторожнее… На скатерть!) Вон у Петра Васильевича вата в ушах, у Мелетии Семеновны за пазухой, а у предыдущего оратора вата, может быть, в голове – борись-ка с этим! (Не толкайся, Саня! Я должен нынче высказать все.)
Господа!
Да здравствует новое! Вот, например, у меня на салфетке дыра… К чему она? Куда она? Я прошу у хозяйки извинения, но так же нельзя! Я хочу утереть губы салфеткой, беру ее в руки – и что же? Рука попадает в эту дыру, и я вытираю губы незащищенной рукой. К чему же тогда салфетка? Фикция! Оптический обман… (Саня, Саня! Ты совсем не занимаешься физическим трудом – налей!) Мне вспомнился, господа, презабавный случай с одним английским пуделем… Нет, впрочем, это не то… Гм!..
Предыдущий оратор – глуп, но какой-то нерв уловил. Ты мне начинаешь нравиться, предыдущий оратор! «Все, – говорит, – в Новом году должно быть новое…» И верно!
У вас, например, – как вас там, Агния Львовна, что ли?.. – есть дети. Так? Что же это за дети? Это старые дети… Верно я говорю? К черту же их! В воду надо, в мешок, как котят. Надо новых. (Саня, не надо смеяться; надо плакать. Слезы очищают. Эх, господа!)
Я вам расскажу такую историю. У одного англичанина был пудель; и вот этот пудель… Впрочем, пардон – тут дамы… Я лучше продолжу свою мысль о новом. Все, все, все, все должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов, но, господа! Ведь и устами паралитиков иногда глаголет истина. (Саша, Саша!..) Все новое!
Марья Кондратьевна! Я уже давно замечаю, что у вас – не при муже будет сказано – один и тот же возлюбленный. Второй год… Боже, Боже! Переменить! Пардон, пардон… Я ведь себя не предлагаю! Я говорю лишь ака… академически. Представьте себе: у одного англичанина была собака, пудель… Впрочем, к черту собаку… Чего она тут путается? (Саша, прогони!) Господа, не надо собак… Я ведь и против предыдущего оратора ничего не имею. Он жалкий, несчастненький человек – его пожалеть надо. Саша, передай ему от меня копеечку.
Но сказано этим мозгляком хорошо! Верно! Все новое! Все. Простите, сударыня. Я, кажется, облил вам платье? Ничего. Новое купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собака такая… Опять этот пудель? Да прогоните же, господа, ради Бога, собаку! Ну чего она тут под ногами путается? Даже обидно!
Прекратим же все это по случаю Нового года. Пусть все будет по-новому. (Спасибо, спасибо, Саня… Там уже край стакана – больше не войдет.) Все новое! Между нами, господа, есть взяточники, шулера – бросим это! Как сказал тот англичанин, у которого был пудель. У этого пуделя… Какой пудель?! Опять эта проклятая собака тут?! Да прогоните же, черт побери!! Предыдущий оратор, свинья – сделайся же ты, наконец, оратор, человеком! Начнем, наконец! Вот глядите на меня: у меня в руках бутылка старого вина, напротив меня висит старинная картина… Что же я делаю? Р-р-раз! Вот теперь после этого и должно быть: новое вино, новая картина!.. Что-о? Саня, Саня! Не, допускай! Не допускай, Саня!
Я еще про пуделя хочу. У одного англичанина…
Эх! Вывели… Вывели, как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти!
Грустно… чрезвычайно грустно! Ну, что ж… Пророков всегда гнали…








