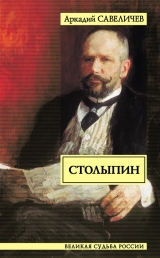
Текст книги "Столыпин"
Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Звали его Александр Николаевич Энгельгардт.
Он окончил одно из лучших учебных заведений России – Михайловское артиллерийское училище и курсы офицеров при Артиллерийской академии. Происхождение и образование давали гвардейскому офицеру Энгельгардту возможность сделать прекрасную военную карьеру, вести праздную жизнь в одном из гвардейских полков столицы.
Гвардейского офицера, однако, не получилось. После увлечения народничеством он занимался чем угодно, только не гвардейской шагистикой. Его даже увлек ученый шлейф Менделеева – получил Ломоносовскую премию по исследованиям в области химии… минутку, тут уж совсем рядышком к доломитам… к французскому геологу Гратё де Доломьё! Жизнь прожить, чтоб твоим именем назвали какой-то завалящий желтый камень… с ума сойти! Но французский геолог с ума не сошел, как не тронулся умом и гвардейский артиллерист, покоривший Столыпина. Просто русскому немцу вышла другая планида. Покинув военную службу, Энгельгардт стал профессором химии Петербургского земледельческого института.
Но здесь, подобно коллеге Менделееву, своей Периодической системы он не открыл… ибо еще больше панибратствовал со своими студиозами. Да и вообще со всеми, кто с ним соприкасался. Время было такое – «хождение в народ»!
Дело кончилось ссылкой в деревню Батищево Смоленской губернии. Слава богу, что хоть не в Сибирь, а в свое родовое имение. Там-то и началась настоящая жизнь…
Имя его было на устах всей образованной России: «Письма из деревни» стали Библией послереформенных губерний.
Но Столыпин ехал вовсе не для споров-разговоров: Энгельгардт слыл первым человеком, внедрившим в своем смоленском хозяйстве тот самый доломит, о котором спорили в Ковенской, по сути соседней, губернии. Природные условия и земли были почти одинаковые. Только в Ковенской губернии о доломите только лишь рассуждали, а здесь французскую муку уже не первый год рассевали по полям. И не только по дворянским – по крестьянским тоже. Вот в чем дело.
Конечно, Столыпин, хорошо знакомый с профессором Менделеевым, понимал, что Смоленщина – вовсе не французское доломитовое предгорье; плодоносный камень залегал в других местах – на Валдае, в Эстляндии, на Урале, а особливо на Кольском полуострове. Несподручно, да и дорог не было; на Смоленщине, под пристальным взглядом Энгельгардта, хоть немного, но находили доломитовых камушков. За полгода, пока смоленский абориген и ковенский новопоселенец сносились письмами, на случайных залежах удалось нагрести некоторый запас доломита. Еще не перемолотый, он лежал в буртах; это легко можно было делать и в Ковенской губернии, на обычных жерновах. Да и сподручнее перевозить камень, нежели сыпучую муку. Так что в неделю нагрузив два вагона и отправив их на Вильнюс – «поелику дорога железная позволит», то есть дорога, еще толком не налаженная, сам Столыпин на несколько дней задержался в Дорогобужском районе.
Это были замечательные дни!
Помещичий дом в Батищеве оказался похуже, чем в Колноберже, но разговоры лучше, гораздо лучше. Не имело значения, что Энгельгардт был на тридцать лет старше. Запал-то – какой молодой!..
– Сегодня получил газеты за целую неделю и в один присест все прочитал. Везде совещания, заседания, комиссии… снова заседания, комиссии, совещания…
(Ну как можно было с таким острым, ехидным умом служить в гвардии?)
– А мужик, представьте себе, ничего обо всей этой сутолоке не знает. Да и не думает о ней. Даже в шинке, разгорячившись…
(Они тоже при такой беседе разгорячились. Но не сивуха же на столе была!)
– Пронесся слух, что с нового года вино будет по 25 рублей за ведро. Ужас, говорю знакомым мужикам! А они: «Да ведь, чать, не каждый день. Это вы, господа, водку-то каждодневно перед обедом пьете. А мы только по праздникам. Наломаешься на молотьбе иль на сенокосе – так ложку и без водки заглотишь!» Каково, Петр Аркадьевич? Ну, за умного мужика!
– За умного, Александр Николаевич!
О доломите они еще раньше наговорились. Теперь пошло, что называется, «за жизнь». Деревенскую, само собой.
– Или другой слух: запретят жениться ранее двадцати пяти лет. Прежде нужно солдатскую службу отслужить. И что же? Все бросились поскорее женить своих ребят… Попы как на молотьбе кадилами махали! Столпотворение!
Столыпин от души хохотал. Давно он так не смеялся. Но все же напомнил:
– А если серьезнее, Александр Николаевич?..
– Помилуйте, Петр Аркадьевич! Самое серьезное – самое и смешное. Вот вышло распоряжение: письма с железнодорожных полустанков отправлять прямиком в волостное правление. Чтоб канители было меньше. А там поняли: следить велят, следи-ить!.. Ну, чтоб прокламаций там никаких не залетело. Особливо в письмах господских… Бунтуют-де господа, студенты да жиды разные… Попробуй-ка сейчас получи не перлюстрированное письмо. Все ваши письма, дорогой Петр Аркадьевич, приходили заклеенные картошкой. Какие у нас перлюстраторы! Чай, не внутреннее министерство…
Столыпин невольно покраснел. Ведь после университета он попал именно в Министерство внутренних дел. Правда, быстренько перевелся в департамент земледелия, но в связи с назначением в предводители дворянства снова был возвращен назад. В Западном крае предводителя не избирали, как в Центральной России, а именно назначали, и проводили по ведомству этого министерского пугала. Вот так-то, Александр Николаевич!
Энгельгардт таких тонкостей не знал, и после перемены закусок беседа пошла своим чередом.
– Хотите серьезнее, Петр Аркадьевич?
Изгоняя из души конфуз, Столыпин невольно кивнул.
– А что может быть серьезнее земли?
– Да, да.
– Но с землей-то надо обращаться умеючи. Чего-чего не перепробовали охотники до агрономии! В том числе и мою доломитовую муку. А толку никакого. Научных знаний нет, нет и практической смекалки, как у мужика. Не барин, а именно мужик смекнул: ого, доломитка-то вдвое увеличивает урожай! Теперь отбою нет… Так за мужика?
– За мужика! – отринув всякий конфуз, уже легко вздохнул гость. Небось, и тут мужик смекнул: землю лучше выкупить, а не толкаться локтями в пьяной общине.
– Ого, и учить не надо! Да где денежки взять?
– В столицах мысли идут об учреждении Крестьянского банка…
– Слышал, слышал. Дело хорошее. Если не заболтают чиновники…
– …да жулики!
– Ну-у, Петр Аркадьевич, это все едино! Что чиновник, что жулик. Одним миром мазаны.
(Помолчали, зажевывая крамолу.)
– При всей дороговизне земли крестьяне охотно покупают. Ссуда! Крестьянин с лихвой выручит, и очень быстро, те 27 рублей, которые он заплатил за десятину. Банк может быть совершенно спокоен за свои деньги; они будут возвращены, а за благодеяние, им оказанное, крестьянин будет вечно благодарить. Он уже не холоп, а земельный собственник. Кстати, как там у вас, в Литве?
– У нас похуже. Помещики сами норовят хозяйствовать, и что еще хуже – разнородные. Поляк, литовец, белорус и забредший в те края русич. Вроде меня, грешного…
– Бро-осьте, Петр Аркадьевич! Вы еще слишком молоды, чтобы много нагрешить.
– Да ведь все земельные несчастья на меня запишутся. Как наш брат, помещик, считает? Сам не гам – и другим не дам. Трудно от дворянских предрассудков отказаться…
– Истинно так, Петр Аркадьевич… Но знаете кто кроме Крестьянского банка в этом деле поможет?
– Уж сделайте милость, Александр Николаевич, объясните своему молодому другу по несчастью.
Энгельгардт хитровато подмигнул:
– Купец!
– Вот уж не подумал бы…
– А вы подумайте. Я имею в виду купца-лесоторговца. Крестьянам выгодно, когда он покупает помещичью землю. Редко-редко такой купчина сам ведет хозяйство. Обыкновенно он тотчас же начинает сводить лес, чем дает зимний заработок крестьянам. А потом им же сдает аренду. По пожогам хлеб, как вы знаете, прекрасно родится и без удобрений. Крестьянин за несколько лет поднимается на ноги. А дальше?.. Земля купцу уже ни к чему. Скопив некоторый капиталец, крестьянин ее и покупает. Кому больше? Помещикам не с чего подняться. Выкупные свидетельства прожиты. Деньги, полученные за проданные леса, пропиты. Имения большей частью заложены. Денег нет, доходов нет. Славно я оправдал купчину?
– Да уж куда лучше! – отдыхая душой за такой беседой, рассмеялся гость. – Вот сидят два крупных землевладельца, попивают винцо… и все надежды свои сваливают на купца да на того же несчастного крестьянина…
– Дайте мужику волю – он себя покажет!
Много еще они говорили промеж собой, но почему-то именно эти слова и запали в душу, когда Столыпин возвращался в свое Колноберже. Полный надежд и каких-то радужных предчувствий…
А там…
VII
Зарево по всему окоему Нямунаса!
Когда подъезжал на паре наемных – день приезда заранее не намечал, поэтому своих лошадей не выслали, – первая мысль была: «Усадьба!» Но стоило еще полверсты галопом проскакать, как стало ясно: не усадьба, а склад сельхозинвентаря. Это могло бы и успокоить, но спокойствия в душу не снизошло. Кроме усадьбы были хлопоты с закупкой машин и плугов… черт бы все это побрал. Столыпин выпрыгнул из дрянного наемного тарантаса и пустился наперегонки лошадей, будто мог опередить восемь ног!
– Барин, барин! – закричал возница.
Ах да, он забыл расплатиться.
Слуги уже бежали навстречу. И с тем же криком:
– Барин, барин!..
– Когда? С чего началось?
– Поджог! Явный поджог.
Его даже не удивило, что отвечает забытый было уже Микола, когда-то сослуживший медвежью услугу: правая рука ведь до сих пор плохо слушалась. Он и распоряжался всем этим пожаром.
– Паровики и большинство сеялок-веялок мы успели вытащить, ну а уж плуги…
– К черту плуги! Почему не заливаете?
– А что заливать, Петр Аркадьевич?..
В самом деле, нечего было заливать. Как будто услышав этот разговор, крыша с треском и огненным вихрем рухнула. Как всегда бывает при сильном нервном потрясении, вдруг пришло и спокойствие.
– Паровики целы? Сеялки-веялки? Тогда какого рожна – растаскивайте все обгорелое на стороны!
Тут были многие из хозяев поместий. Но лезли в огонь те, у которых ничего за душой не было. Да немного было таких, как Юзеф Обидовский. Он-то и правил дворянским племенем – племенем бессмысленных зевак. Тяжелые и самые ценные паровики жарились еще слишком близко от огня. Странно, Юзефа слушались, когда он вне себя кричал:
– Давайте своих холопов! Надо откатить подальше.
Паровики были на колесах, но ведь тяжелы. Одним дворовым людям было не поднять их на прибрежную гору, а другого пути не было. Позади огня лес сплошной. При внезапном появлении своего предводителя все словно опешили, всю надежду возложив на него.
Даже Юзеф Обидовский перестал покрикивать на остановившихся пожарников.
Один Вацлав Пшебышевский проявлял завидную хлопотливость. Возле него и люди были, его собственная дворня. Имение самое близкое, немного выше по Нямунасу. Дворни набежало с добрый десяток. Были даже некие гайдуки, одетые в кунтуши и летние конфедератки – нечто напоминавшее форму прежней польской армии. Все они сломя голову бежали по первому зову своего пана-командира. А он дельно и толково приказывал:
– Пся крев! Веревки!
Откуда-то и веревки появились. Может, с конюшни самого предводителя. Зацепили первый паровик, плечевой тягой отволокли на безопасный бугор. Второй, третий…
Пся крев! Сеялки!
Сеялки легче, в один миг вознеслись на бугор.
– Веялки, будоляки!
Тоже не тяжелы. Все в безопасности. Столыпину оставалось только сказать:
– Благодарствую, пан Вацлав.
Тот махнул красной от огня и от природы рукой:
– А, какое благодарение, пан предводитель! Яко съездилось?
– Хорошо ездилось… плохо приехалось… Как это случилось?
– Быдло, яно и мае быть быдлом. Что мое, что ваше.
Ну, тут была некоторая разница. Столыпин с горьким смешком ответил:
– Не думаю! С какой стати моим на меня обижаться?
– Холоп всегда обижается, пан предводитель. Зависть к своему хозяину!
На это нечего было возразить. Не в лучшей доле жили мужики. Зависть могла быть, но обида?..
Он прекратил ненужный сейчас спор и кивнул стоящему в стороне Юзефу Обидовскому:
– Угли уже можно не гасить, догорят и так. Вели людям подсечь лес в округе, чтобы не пошло дальше.
Юзеф нарочито стал сзывать людей самого предводителя. Пшебышевскому это не понравилось:
– Шляхтич, а голота? Какое к нему доверие?
Столыпин промолчал, а сам совершенно ясно подумал: «Если поджог, так без твоей руки, пан Вацлав, не обошлось…»
Эта мысль явилась так неожиданно, что он торопливо замял ее поспешным рукопожатием:
– Еще раз благодарствую, пан Вацлав, за добрые распоряжения.
И поспешил отойти, в оправдание своей невежливости крича уже Обидоскому:
– Пан Юзеф! Слишком-то не усердствуйте. Там уже не мой лес.
Да, границы поместий охранялись получше, чем пограничье между Россией и Литвой или там Польшей. Можно новых неприятностей нажить, если будет доказано, что пожар произошел по вине его собственной дворни.
Тут ему показалось странным, что среди суетящихся на пожарище людей нет управляющего. Всем распоряжался откуда-то взявшийся хохол Микола.
Он хотел было уже порасспросить его, но заметил Ольгу. Она куталась в шерстяную шаль и опиралась на руку служанки Алены. Скорый шаг был виноватым и покорным.
– Оля, как ты здесь оказалась? – не стесняясь служанки, он обнял жену.
– А ты как здесь оказался? – не мешала она его рукам.
Зарево увидел – и прикатил на перекладных.
– Прямо со Смоленщины?
– Не смейся, Оля. От железной дороги. Да, светло тут… полыхнуло!.. Подумала, что уже мы горим. Матя не перепугалась?
– Нет, она ведь спит на противоположной стороне дома. Кажется, и нянька не проснулась.
– Ну, и славно… Погоди. Устал я, видно, мысли путаются… Что-то я не вижу своего управителя?
– И я не вижу уже третий день.
– Ладно, Оля. Разберемся. Я провожу тебя, а потом сюда вернусь. Неладно тут…
Он проводил ее до подъезда, передал на руки Алене и вернулся.
На пожарище суета уже затихла. Единственное – с усадьбы волокли пласты брезента. Здесь опять ордой людей заправлял Микола.
– Хорошо, укройте самое ценное, – остановил он его. – И вот что еще… Завтра поговорим, как ты здесь оказался. А пока человека два-три оставь подежурить. И повнимательнее на все смотрите. Вора обычно тянет на разбойное место… Ты понял меня, Микола?
– Понял, Петр Аркадьевич.
– Вот и хорошо. Я распоряжусь, чтоб вам принесли чего горяченького. Ночь прохладна…
Он ушел опять, так и не решив, на кого кинуть черный глаз. Пан Пшебышевский?.. Но не будет же он самолично пачкать свои панские руки. Пропавший управитель?.. Ему-то с какой стати? Иль плохо жилось в поместье?
Опять странное. Делать на затухавшем пожарище было совершенно нечего, а в стороне от дороги стояли дрожки Пшебышевского. И в сгущавшейся темени явно его голос прореза́лся:
– Еще спрашиваешь – куда?.. В свой маёнток, пся крев! До хаты!
Решение истинно верное. Столыпин тоже пошел до хаты. Жена, поди, заждалась.
VIII
Даже с дороги долго не спалось. Петр Аркадьевич осторожненько отодвинулся от милого, угретого бочка, накинул халат и вышел на веранду, потягиваясь.
В дальнем уголке сидел Микола.
– Не беспокойтесь, Петр Аркадьевич, – поклонился он вежливо и спокойно. – У паровиков трое наших осталось, с дубинами. Я понял, что вас будет мучить мысль, как и зачем я здесь объявился, и вот решил: не стоит искать меня. Спрашивайте, пожалуйста.
– Садись, Микола. Пожалуй, спрошу.
Микола лишь на минуту задумался. Видно было, что он давно готов к рассказу.
– Князь меня выгнал почти сразу же после злосчастной дуэли. Откуда-то прознал обо всем… Я немного после того шатался по свету, побывал даже у Нейдгардтов в Петербурге…
– У Нейдгардтов! Хм…
– Хотел в услужение, да теперь к ним не подступись…
– И что же?..
– Сменил несколько мест, даже в сыскной полиции побывал…
– Ну Микола!..
– Не в главных же. В стукачах. Худая работа, Петр Аркадьевич.
– Согласен, Микола. В министры не поступал?
– Нет, Петр Аркадьевич, – складно говорил Микола и так же складненько, простодушно рассмеялся: – Вот в подручных у вашего брата-газетчика поработал…
– Да неужели?.. В «Новом времени»?
– Время-то новое, да я не газетчик. Материалы полицейские для Александра Аркадьевича собирал, но слишком ретиво схлестнулся с полицией. Чтоб брата вашего не подводить, посчитал за благо сокрыться. Это уже недавно было. Считайте, сюда прямиком из Петербурга.
– С тобой не соскучишься, Микола!
Петр Аркадьевич заметил выжидательно стоящего в дверях камердинера:
– Распорядись, чтоб чаю на двоих.
За чаем единственно спросил:
– Ты выглядишь как-то слишком образованно – откуда?
– Московский университет. С третьего курса, с юрфака, вышибли. Волчий билет, разумеется.
– Да-а…
– Если возьмете меня в какое-нибудь услужение, не подведу, Петр Аркадьевич.
Вот так повороты судьбы!
– Но не могу же я, коллега-студиоз, в слуги тебя затолкать… Впрочем, погоди, дай после подумать. Видишь, сколько ко мне народу прет?..
Верно, в аллею въезжали сразу три пароконки: открытое ландо, нечто вроде кареты и телега с солдатами. Жандармскими, конечно.
Микола исчез за углом веранды, а Петр Аркадьевич, бросив недопитый чай, поспешил одеваться. Не в халате же таких гостей встречать.
Народ-то все известный: ковенский исправник, начальник сыскной полиции, прокурор, предводитель губернского дворянства, письмоводители-протоколисты, а жандармов в лицо и знать необязательно.
– Вот, всей нашей ордой приехали разбираться, – на правах главной власти сразу разъяснил начальник сыскной полиции.
– Рад гостям, рад, – со всеми поздоровался, хоть и наспех, но согласно своему положению уже одетый предводитель уездного дворянства. – Разбирайтесь, господа. Но не на пустой же живот.
Полдня разбирались за столом, еще полчаса осматривали пожарище, да остальные полчаса прощались. Что из этого следовало? А только одно: заново придется строить гараж для сельхозинвентаря. Само собой, кое-что и прикупить придется.
Более дельный разговор уже к вечеру состоялся, когда до зубов вооруженные, но совершенно бесполезные гости навеселе обратно в Ковно укатили. Увозя с собой кучу столь же бесполезных обещаний.
За дело взялись уже свои люди.
Едва проводив бесполезных гостей, Петр Аркадьевич заметил на берегу Нямунаса большой костер и вокруг него толпу людей. Едва гости сокрылись за поворотом дороги, как появился Юзеф Обидовский. Поклонившись в знак приветствия, он без лишних слов оповестил:
– Петр Аркадьевич, там собрался сельский круг, – указал он в сторону костра, – и вас со всем уважением просят к себе.
– Ну, если просят, так отказываться нельзя.
У костра собралось несколько дворян, включая литвина Ленара Капсукаса и штабс-капитана Матвея Воронцова, но больше всего зажиточных хуторян. На его памяти вот так, общим сходом, никогда не сбирались. Дворяне с дворянами, хуторяне с хуторянами – не иначе. Сходы бывали по разным случаям – ремонту дорог или моста через Нямунас, но каждый круг на особь. А тут – все вместе. Больше того – было и несколько не хуторских крестьян, начавших подниматься на ноги лишь в последние годы.
– О чем разговор, уважаемые?
Хуторяне, а тем более деревенские литвины молчали. Со стула, принесенного, видимо, из коляски слугой, поднялся Ленар Капсукас, только он один и сидел, остальные просто стояли кругом у громадного кострища. Бревна, разрубленные на чураки, были явно с пожарища; там еще что-то подымливало, иногда постреливало вырывавшимися искрами.
Столыпин с интересом наблюдал за необычным собранием. Ленар выждал какой-то необходимой ему тишины и заговорил, обращаясь к предводителю, но называя его попроще, видимо, в угоду собравшимся:
– Уважаемый Петр Аркадьевич. Здесь большинство составляют наши крестьяне, потому с извинением не называю вас предводителем. Сейчас вы просто дворянин, владелец поместья. Но признаюсь: я созывал этот сход. Все дворянство оповещено. Ну, кто пришел, тот пришел. Не мне судить. Я тоже здесь обычный помещик. Кажется, ума еще не потерял. За счет прошлогоднего пользования первыми паровыми молотилками, сеялками и всем другим собственных грошей немало сэкономил. Выгоду понимаю. Что же сейчас – опять цепами зерно выколачивать? Одному мне, как и любому другому, молотилку не купить. Да и хорошую немецкую сеялку содержать накладно – она одиннадцать месяцев в сарае пылиться будет. Богатых дворян у нас немного. Так что надо строить новый гараж и закупать, что погорело. Я все сказал, Петр Аркадьевич.
Столыпин еще по дороге понял, зачем его зовут. Поэтому спросил:
– А как другие думают?
Штабс-капитан Матвей Воронцов прокашлялся со вчерашнего и подтвердил:
– Так же и думают.
Остальные молчали, посматривая друг на друга.
– Но другие-то? – настаивал Столыпин.
Ленар Капсукас похмыкал:
– Другие на нас с вами смотрят. У кого рубль длиннее – длиннее и речь. Без рубля никто не будет глотку драть. Так ли я говорю, хуторяне?
Крестьянами никого не назвал, но и этого довольно.
У кого рублишки были, маленько прорезались:
– Так, пан Ленар, так.
– Сколько можем, и мы внесем в общую скарбницу.
– Поменьше вашего, зато руками отработаем.
– Лес валить заново…
– Срубы тесать…
Слушая эти покорные с виду, но по сути упрямые заявления, Столыпин в душе над собой посмеивался: кто он теперь? Не деревенский ли староста?..
В Западном крае сельской общины не было, все решал помещик. Даже выделившийся на хутор литвин, откупив землю, все равно глядел в рот своему прежнему хозяину. Да от него же во многом и зависел. Лошадь ли пала, неурожай ли постиг, пожар ли на собственном хуторе – к кому пойдешь?
Петр Аркадьевич недолго раздумывал над словами обычно немногословного Ленара.
– Строить так строить. Но сами понимаете, я не могу руководить сельским сходом. Выберите по крайней мере себе старосту.
– А мы уже выбрали, – ответил Ленар. – Юзеф Обидовский согласился. Лучше, чтоб дворянин. Тогда, может, и еще кто из наших примкнет.
– Дельное решение, – пожал руку новоиспеченному старосте предводитель дворянства. – В Центральной России сейчас ратуют за отмену общины, а мы здесь вроде как наоборот – заново создаем. Как бы там ни было, Юзеф, поздравляю. Что потребуется от меня – не стесняйся. У меня теперь, пожалуй, и вторая должность появилась – быть твоим заместителем, а?..
Обидовский стеснительно поклонился.
А предводитель дворянства, уходя, отозвал в сторону Капсукаса.
– Как вы думаете, пан Ленар, кто поджог наши с вами деньги?
Капсукас был хитрый литвин, только и сказал:
– Погорели ведь последние грошики и у некоторых хуторян. Думаю, пан предводитель, они сами и разберутся. Получше всяких полицейских.
Ждать пришлось недолго. Через два дня, когда на новой лесосеке, отведенной Столыпиным на своих угодьях, стучали топоры – под их перестук и поднялся крик:
– Висит!
– Кто висит?..
– Да вот же, вот!..
И верно, на осине, которая в строевой лес, конечно, не годилась, висел пропавший управляющий. С запиской на груди: «Злодей-поджигатель!»
Ясно, по чьему-то наущению поджигал, но кара-то заслуженная?!.
Столыпин позвал к себе в домашний кабинет хохла Миколу.
Тот не слишком уверенно ходил по коврам. А тем более неловко садился в указанное кресло. Хозяин не стал его томить, просто сказал:
– Вот тебе, Микола, и должность. Теперь ты Николай Юрьевич Карпуша. Чтоб иначе тебя и не называли! Управляй именьем и всеми моими землями с толком и с честью. Сообразно должности и приоденься, – оглядел он хоть и городской, но подзатрепанный вид. Деньги на обзаведенье выложил из стола: заранее припасенный конверт. – Съезди в Ковно, потом покажешься мне. Как управляющий имеешь право пользоваться одноконной бричкой. С Богом, Николай Юрьевич!
Микола, в одночасье ставший Николаем Юрьевичем, вскочил с кресла:
– Да я, Петр Аркадьевич, расшибусь, если надо!..
– Все, все. Расшибаться не надо. Эй там! – хлопнул в ладоши. – Мы с управляющим желаем закусить.
Нет, без таких перевертов жизнь неинтересна. Хоть для управляющего, хоть и для самого хозяина.Петр Аркадьевич был сегодня в отличном настроении.
IХ
Год 1889 грозил перевалить уже в последнее десятилетие уходящего века…
Но не успел…
Пришло известие о смерти матери – Натальи Михайловны Столыпиной, генеральши и скромной героини Балканской войны. Господи, матерь упокой!
Сын самолично возложил ее боевую медаль на застывшую грудь и, набираясь житейского тепла, подзастрял в Москве и Петербурге. Отец тоже был не в самом лучшем здравии, а после похорон нуждался и в сыновьем участии. Конечно, гнал в Колноберже, к семье, к любимой внучке, к делам оставленным. Хотя кто запретит сыну побыть возле своего старого генерала? Только жена. Но Ольга умоляла, требовала остаться пока возле ее свекра, убеждая, что у них все в порядке. И только когда генерал вспомнил о своих обязанностях кремлевского коменданта и буквально выгнал сына домой, мол, мешаешь мне исполнять государев долг, – только тогда Петр Аркадьевич и засобирался восвояси. Вышло уже не через Москву, а через Петербург. С братом Александром они давно жили порознь и по душам давненько не разговаривали. Такова жизнь – провести последний вечер вдвоем…
Впрочем, втроем.
Третьим был Алексей Лопухин, одноклассник по орловской гимназии. Правда, мало ли сыщется одноклассников у человека, который теперь столь успешно служил в департаменте полиции – столоначальником или кем-то вроде того. Но Петр Столыпин с юношеских лет был на особом счету, и уж тут ничего не поделаешь. Да и проходил тоже по Министерству внутренних дел: честь только для предводителей дворянства Западного края. Вроде как сослуживцы.
Для брата Александра, годом постарше Петра, не было секретом, что друзья-одноклассники, как по уговору, после университетов записались в недоступное для других МВД. Был ли, не был ли уговор – теперь уже не имело значения. Они могли сходиться, расходиться по разным углам необъятной империи, но всякий раз, как выпадал случай, садились за один стол – будь то в ресторане, на квартире или на какой-нибудь даче. А разве ныне не случай, хотя и тяжелый?
Алексей Лопухин и для старшего брата закадычный приятель. Александр успешно вершил газетные дела в «Новом времени», а эта всесильная газета не чуралась всесильного министерства. И опять же будет неправдой, что кто-то перед кем-то заискивал. Разве что все трое перед единым ликом: Россией!
После похорон матери было, конечно, не до ресторанов; просто Петр пришел на квартиру к Александру, а там уже сидел и Алексей. Пока братья молча обнимались, он в разговор не встревал, а после сказал:
– Ничего, ничего, Петро. Жизнь продолжается. Как всегда в России: радость и горе на троих. Помянем?
– Да уж спасибо, Алексей. Пора на поезд.
– Ну, поезд полиция может и остановить!
Хорошо смеялся никогда не унывающий Лопухин. У Петра в таком тесном дружестве отлегло от сердца.
– Коль поезд стоит, да и мы стоим – так стоя и помянем…
Какие могли быть возражения?
– Господи, упокой рабу Божию Наталью Михайловну!..
– …матерь нашу!..
– …маму незабвенную!..
Помянули как след быть, и не однова, уже за столом. Но ведь были-то они где? В России, да еще в самом Петербурге. Явилось неизменное:
– На троих?
– На троих!
– Лучше сказать – за троих!..
Ничего грешного в том, что русские люди после официальных, отшумевших поминок и себя не забыли. А главное, понимали, помнили – куда идут-едут… и куда на этот вечер никуда не уйдут, не уедут. Алексею Лопухину и по должности следовало опекать предводителя дворянства. Чего там! Он без всяких хитросплетений решил:
– Не пущу, Петро. Как хошь – не пущу!
Вполне приятельское, словесное коловращение:
– Не пустит, братец, уж поверь мне.
– Верно, завтра уедешь.
Если не послезавтра.
– Утро вечера мудренее?
– Мудренее, вестимо!
– Значит, я иду к телефону…
И пошел, сам Бог не мог бы его остановить!
– Андрей Никанорыч, нынешний билет Петра Столыпина сдай да забронируй на завтрашний вечер… Что? Не пришлось бы на послезавтра переносить? А это как Бог даст. Не будем загадывать. Мой нижайший поклон супруге Настюше Павловне!
Петр отходил душой.
– Ну, что с вами делать?..
– А ничего не поделаешь, братец.
– И не моги делать! У-у, какой я грозный!..
Сюртуки давно уже скинуты, и всплыл бражной пеной неизменный вопрос:
– Так о чем говорят русские люди хоть на свадьбе, хоть на поминках… да хоть и после драки в полиции?..
– Он еще спрашивает!
– О России, да, все о ней, многогрешной…
Вот вроде бы серьезные люди, и всплакнули, как положено, и пошутили, а перед главным вопросом задумались…
– А не выпить ли сейчас кофейку?
Это уже дело хозяйское. Не голь перекатная в квартире жила. Одного взгляда довольно, чтоб народ услужающий мигом приносил, что нужно.
После кофейку-то Петр Аркадьевич и признался:
– Вот я недавно был на Смоленщине. У Александра Николаевича Энгельгардта… Да, да, того самого… гвардейского офицера-артиллериста, профессора химии, народника, которого полиция вышвырнула в родное Батищево… – Лопухин выдержал насмешливый взгляд друга, промолчал. – И что же? Озлобился он, как какой-нибудь недоумок Чернышевский? Пошел стрелять в императоров и губернаторов, как все эти Каракозовы, Кибальчичи, Перовские и иже с ними? Вы, конечно, слышали, а может, и читали «Письма из деревни»? – Утвердительный кивок брата это подтверждал. – Поверьте, друзья, я не встречал большего патриота России! Не на словах, а на деле. Там, в своем Дорогобужском уезде, он сделал то, чего не сделали ни целые дворянские сборища краснобаев, ни наши воровские министерства, ни даже всемогущая полиция… Да, да, Алексей, – упредил, чтоб не перебивали, – мало того, он научил не только помещиков, но и крестьян любить и понимать землю, он утихомирил целый бунтовавший ранее уезд. Без единого солдата, без единого полицейского. Когда человек работает, ему бунтовать некогда. Бунтуют только бездельники. Значит, не мешайте человеку работать! Развяжите ему руки, а тем более ноги… чтоб он мог идти, куда хочет, и делать, что хочет!
На этот раз Алексей Лопухин не утерпел:
– А ведь твои воззрения, Петро, недалеки от воззрений умных полицейских!
– Что, есть таковые?
– Есть, Петро, есть… Правда, немного.
– Немного и Энгельгардтов, – вставил свое слово Александр. – Взять хотя бы нас, борзописцев. Каждый думает, когда чирикает пером: «Я хорош до тех пор, пока хорош перед хозяином». Каково?
– Соглашусь, – повеселел Лопухин. – То же самое и у нас: «Хороший полицейский – хорошо глядящий в рот начальству!»
– Значит, начальство менять надо?.. – все подливал да подливал масла в огонь отбросивший грустные мысли Петр.
– Дружище, – обнял его Алексей, – так ведь помаленьку и меняем. Бьюсь об заклад: быть тебе губернским предводителем, а там и повыше…
Теперь уже Александр не вытерпел:
– Ну, Алексей! Прожектёр ты великий.
– Почему же? Предводитель Ковенской губернии – человек неплохой, да и только. Дела никакого не делает. К тому ж на старческом выдохе. Надо его менять? Надо. Кого ставить во главе губернии, как не лучшего уездного предводителя?!








