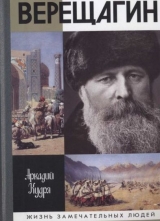
Текст книги "Верещагин"
Автор книги: Аркадий Кудря
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
В конце января – начале февраля 1877 года Верещагин и сам съездил в Лондон, вероятно, для того, чтобы написать в Кенсингтонском музее этюды костюмов английских вельмож и фельдмаршальского костюма принца Уэльского для задуманных им картин, связанных с Индией. Должно быть, тогда же он пытался договориться о своей выставке.
Однако дело до нее так и не дошло. Сначала пришлось заниматься в Париже судебной тяжбой. Некто Бруно Лорч, доверенное лицо Верещагина при покупке участка земли и постройке там мастерской, бессовестно обманывал его и обобрал на 25 тысяч франков. Когда же в письме близко знакомому с Лорчем художнику Громме Верещагин неосторожно рассказал о «канальской проделке» и назвал Лорча вором, то получатель письма посоветовал Лорчу обратиться в суд. Слушание этого дела состоялось в марте. Хотя Лорч и Громме заявляли на суде, что якобы заказчик задел их деловую репутацию обвинением их в мошенничестве, доводы истцов не были приняты во внимание. В ходе заседания, информировал Верещагин Стасова, «Громме и Лорч провалились самым позорным образом», и суд оставил дело, «как оно есть».
А вскоре все прежние дела и заботы отступили у Верещагина на задний план. 12 апреля Россия объявила войну Турции, и четыре дня спустя художник, быстро собравшись, выехал из Парижа в действующую армию. С Елизаветой Кондратьевной он договорился, что, пока он будет на фронте, она поживет у родных в Мюнхене.
Глава тринадцатаяВОЙНА НА БАЛКАНАХ
Покидая Париж, Василий Васильевич на всякий случай оставил своему парижскому приятелю, художнику Ю. Я. Леману, конверт с вложенным в него завещанием и запиской: «Любезный друг, прилагаемый конвертик вскрой только в случае какого-нибудь несчастья со мной. При первом свидании возврати мне его» [143]143
Верещагин В. В.Избранные письма. С. 46.
[Закрыть].
Война с Турцией начиналась в обстановке патриотического подъема, охватившего русское общество. Его предпосылками стали проникшие в печать и вызвавшие всеобщее негодование сообщения о турецких зверствах в отношении болгар и других боровшихся за свою свободу славянских народов. Откровенная поддержка Англией политики Турции стала причиной гнева и горькой иронии, которыми проникнуто тургеневское стихотворение «Крокет в Виндзоре» с бичующими заключительными строками: «Вам уж не смыть той крови невинной вовеки», адресованными фарисействующим правителям Британии. Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» столь же страстно обличает политику оправдания Турции со стороны британского кабинета во главе с Биконсфильдом и попытки бросить тень на массовое движение русских добровольцев, ушедших воевать за братьев-славян. Памяти одного из них, геройски погибшего в Болгарии Н. А. Киреева, Федор Михайлович посвятил несколько слов о всеобщих молитвах в русских церквах «за упокой души Николая Алексеевича Киреева, положившего жизнь свою за народное дело». Такие люди, считал Достоевский, достойны того, чтобы о них складывали народные песни [144]144
Достоевский Ф. М.Указ. соч. С. 69.
[Закрыть]. Смерть Киреева вызвала в России особый отклик и потому, что до отъезда в Болгарию он был одним из самых деятельных членов Славянского комитета в Петербурге.
Среди тех, кто по зову сердца отправился в то время на Балканы, были и русские художники, например Василий Дмитриевич Поленов. В начале 1877 года иллюстрированный журнал «Пчела» начал публиковать его «Дневник русского добровольца» с рисунками автора. Крамской, находясь в Париже, глубоко переживал отсрочку начала войны России с Турцией за свободу славян и сетовал в письме Третьякову: «Ужасное время, страшное время…» Несколько позже, в декабре, он писал тому же Третьякову о необходимости безотлагательной поддержки славянских братьев: «Какое нам дело до того, что Европа не соглашается на дело чести и добра, мы должны сделать свое дело и помочь человеку, которого режут на глазах у всех…» [145]145
Крамской И. Н. Письма, статьи. Т. 1. С. 374.
[Закрыть]
Сходные чувства испытывал, отправляясь на войну, и Верещагин. На Балканах, как и в Самарканде, он был готов к тому, чтобы не только наблюдать людей и сражения в критических ситуациях между жизнью и смертью, но и самому, когда понадобится, принять участие в боевых действиях. О пребывании на Балканах и участии в войне он написал впоследствии несколько очерков: «Дунай, 1877», «Набег на Адрианополь в 1877 году», «Переход через Балканы, 1878 г.», «Михаил Дмитриевич Скобелев». Богатый материал содержится в его письмах с фронта – Стасову, Третьякову, Леману… В одном из первых писем Стасову, отправленном в конце апреля, две недели спустя после отъезда из Парижа, Верещагин кратко сообщал: «Я иду с передовым отрядом, дивизионом казаков генерала Скобелева, и надеюсь, что раньше меня никто не встретится с башибузуками» [146]146
Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова. Т. 1. С. 164.
[Закрыть]. Упоминаемые в письме башибузуки – наемные отряды турецких войск из мусульман-фанатиков разных национальностей. Они отличались особой жестокостью не только по отношению к противнику, но и к мирному христианскому населению: распинали священников, сжигали и четвертовали детей, женщин, стариков. Рассказы об их зверствах пробудили у многих русских солдат желание поквитаться с ними.
По предварительной договоренности с начальником Главной квартиры генералом А. А. Галлом Верещагина причислили к группе адъютантов главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, но без казенного содержания и с правом носить штатскую одежду. Такие условия, на взгляд художника, обеспечивали ему, как некогда в Ташкенте, б ольшую свободу. «Передовой отряд», в составе которого предпочел двигаться Верещагин, представлял собой казачью дивизию. Командовал ею опытный генерал Дмитрий Иванович Скобелев, а начальником штаба той же дивизии был назначен его сын, тоже генерал, Михаил Дмитриевич. Скобелев-младший, воевавший в Средней Азии и удостоенный за храбрость уже двумя Георгиевскими крестами, был знаком Верещагину еще по Ташкенту. В очерке, посвященном ему, Василий Васильевич вспоминал, что они впервые встретились в 1870 году в ташкентском ресторане – их познакомил Жирарде, учивший детей генерал-губернатора Кауфмана.
И отец, и сын Скобелевы были Верещагину очень симпатичны. Дмитрий Иванович, с его большими голубыми глазами и окладистой рыжей бородой, отличался, по словам художника, своеобразной красотой. Во время смотра главнокомандующим подчиненных ему казаков Скобелев-старший, по наблюдению Верещагина, так сидел на своем маленьком коне, что, казалось, сливался с ним воедино. Что же касалось Михаила Дмитриевича, то он, по словам художника, за прошедшие годы «порядочно изменился, принял генеральскую осанку и отчасти генеральскую речь, которую, впрочем, скоро переменил в разговоре со мною на искренний дружеский тон».
Как-то в Бухаресте, находясь у М. Д. Скобелева, упоминал Верещагин, он познакомился с известным корреспондентом «Daily News» Януарием Мак-Гаханом – автором публикаций о турецких злодействах, всколыхнувших русское, да и английское, общество. Михаил Дмитриевич представил американского журналиста, писавшего и для английских газет, как «своего старого друга» еще по Средней Азии: Мак-Гахан писал репортажи о действиях там русских войск, в том числе о походе на Хиву. Но Василий Васильевич и не подозревал, что впервые заочно пересекся с американцем на страницах его книги о падении Хивы, напечатанной в Лондоне в 1876 году уже четвертым изданием и обильно иллюстрированной репродукциями с туркестанских картин Верещагина. Вероятно, английские издатели не потрудились согласовать с русским художником вопрос о праве иллюстрировать книгу о падении Хивы репродукциями с его картин и рисунков.
Обзавестись собственной лошадью, да еще с повозкой, куда можно было бы класть свой скарб, было во время военных действий на Балканах отнюдь не просто, и на первых порах художник ездил вместе со «стариком Скобелевым», с которым и квартировал в одной хате: «У него была тарантайка и пара лошадей, на которой мы выезжали утром по выступлении войск». Дмитрий Иванович, по наблюдению художника, любил немного пофорсить. «Когда мы подъезжали к деревням, – вспоминал Верещагин в очерке „Дунай, 1877“, – он не забывал откидывать полы пальто и открывать свою нарядную черкеску, обшитую серебряными галунами. Румыны везде дивовались на статного, характерного генерала». Генерал-отец чувствовал себя в Румынии превосходно, вполне на своем месте, а вот генерал-сын изрядно скучал из-за отсутствия боевого дела и не раз выказывал досаду, что приехал сюда, а не остался в Туркестане, где как раз в то время, как он говорил Верещагину, готовилась серьезная операция.
Пока настоящее «дело» еще не наступило, Верещагин с интересом наблюдает армейский быт, слушает казачьи песни, делает на досуге зарисовки в походный альбом: этюд Дуная, сторожевой пикет на реке… Иногда он сам сочиняет веселые вирши об «отце-командире» Д. И. Скобелеве:
Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет,
Все кругом живет.
Старый Скобелев с полками,
Со донскими казаками
В Турцию идет,
В Турцию идет…
Получив от художника письмо из действующей армии с сообщением, что он следует навстречу туркам «с передовым отрядом», Стасов готов опубликовать эту новость в одной из петербургских газет. В письме Верещагину он объяснял: «Этого еще отроду не делал, не говорил и не писал ни один русский художник – и надо, чтоб все знали и прочитали» [147]147
Там же. С. 165.
[Закрыть]. Сам же критик расценивал поступок Верещагина как действие безрассудное, но достойное восхищения. В том же письме Стасов сообщил, что пытается выполнить просьбу Василия Васильевича – пристроить в действующую армию младшего брата художника, Александра. Тот был профессиональным военным, окончил военное училище, но боевого опыта пока не имел.
Русские войска в это время обустраивались в селениях по Дунаю и готовились к схваткам с турками. В городке Журжево, где обосновались казаки Скобелева, Верещагин однажды попал под сильный обстрел их позиций. «Два раза, – писал он, – ударило в барку, на которой я стоял, одним снарядом сбило нос, другим, через борт, всё разворотило между палубами, причем взрыв произвел такой шум и грохот, что я затрудняюсь передать его иначе, как словом адский, хотя в аду еще не был и как там шумят, не знаю» [148]148
Верещагин В. В.Повести. Очерки. Воспоминания. С. 165.
[Закрыть].
В Главной квартире главнокомандующего Верещагин повстречал своего старого знакомого по Морскому корпусу Николая Илларионовича Скрыдлова. Тот учился в корпусе двумя классами младше, но они оказались вместе в учебном плавании на фрегате «Светлана». «Когда я был фельдфебелем в гардемаринной роте, – упоминал Верещагин, – он состоял у меня под командою». А ныне Скрыдлов – лейтенант в Дунайском отряде гвардейского экипажа – рассказывает, что скоро собирается атаковать на своей миноноске один из крупных турецких кораблей-мониторов [149]149
Монитор – тип низкобортного броненосного артиллерийского корабля, преимущественно прибрежного действия. (Прим. ред.).
[Закрыть], и приглашает художника взглянуть на это предприятие. Верещагин предложение с охотой принимает: это те впечатления о войне, ради которых он прибыл на передовую. Они вместе едут в расположение минного отряда, которым командовал обладатель могучего баса капитан первого ранга Новиков, отличившийся еще в Крымскую войну, за что и получил своего Георгия. В компании со Скрыдловым Верещагин несколько раз выезжает ночью на Дунай, чтобы с небольшой шлюпки «ставить вехи для обозначения пути, по которому должны были следовать миноноски при закладке мин». Он вспоминал тогдашнюю обстановку таинственности: «Тихо, едва опуская весла в воду, пробрались мы мимо густых ивовых деревьев; всякий внезапный шум, всплеск рыбы, крик ночной птицы заставлял нас вздрагивать». Интересовавший их островок на реке, где еще недавно турки косили сено, оказался покинутым врагом, и это облегчало проведение готовившейся Скрыдловым боевой операции. О ночном вояже Верещагин кратко упомянул в очередном письме Стасову: «Ездил недавно ночью со старым товарищем-моряком на турецкий берег, никто нас не заметил. Мы высматривали и выслушивали» [150]150
Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова. Т. 1. С. 168.
[Закрыть].
На предложение Скрыдлова отправиться вместе с ним в поход на миноносном катере «Шутка» Василий Васильевич ответил согласием. Насколько знал художник, вскоре предстояла переправа войск через Дунай с помощью понтонов, и он хотел идти вместе с «передовым отрядом». Но если уже сейчас есть возможность увидеть бой и даже принять в нем участие, чего же ждать? Можно успеть и здесь и там. Однако накануне операции в голову лезло всякое: «Было немного жутко при мысли, что турки не останутся хладнокровными к тому, как Скрыдлов будет взрывать их, а я смотреть на этот взрыв, и что, по всей вероятности, мины наши нас же самих первыми и поднимут на воздух» [151]151
Верещагин В. В.Повести. Очерки. Воспоминания. С. 172.
[Закрыть].
Зорким глазом художника он примечал всё, что предшествовало боевой операции, на которую выходили экипажи нескольких миноносок.
«Священник Минского полка, молодой, весьма развитый человек, стал служить напутственный молебен, – вспоминал в очерке „Дунай, 1877“ Верещагин. – Помню, что, стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную картину, бывшую передо мною: направо последние лучи закатившегося солнца и на светло-красном фоне неба и воды черным силуэтом выделяющиеся миноноски, дымящие, разводящие пары; на берегу – матросы полукругом, а в середине офицеры, – все на коленях, все усердно молящиеся; тихо кругом, слышен только голос священника, читающего молитвы.
Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помешало написать картину этой сцены, врезавшейся в моей памяти» [152]152
Там же.
[Закрыть].
В тот день на берегу Дуная оказался и Михаил Дмитриевич Скобелев. «Я обнялся со Скобелевым, – писал Верещагин. – „Вы идете, этакий счастливец! как я вам завидую“, – шепнул он мне».
Рано утром, минуя небольшие прибрежные островки, катера двинулись на фарватер Дуная и там начали закладывать мины для подрыва крупных турецких судов. Командир «Шутки», лейтенант Скрыдлов, расположился в передней части катера, у штурвала, для наблюдения за рулевым и носовой миной, а Верещагина попросил «взять в распоряжение кормовую, плавучую мину». Художник был обучен пускать ее в дело: когда следовало бросать и командовать «Рви!». На случай, если катер подорвется на собственной мине, экипаж облачился в пробковые пояса. Вышло так, что «Шутка» огибала лесистый островок с одной стороны, а с другой навстречу ей шел турецкий пароход-фрегат, скрытый до поры островом. Когда он вдруг появился из-за острова, все – и турецкий экипаж, и русские моряки – поразились столь близкому соседству. Этот пароход, вспоминал Верещагин, по сравнению с «Шуткой» показался ему громадиной. Но Скрыдлов не дрогнул, тотчас повернул руль, и «мы понеслись на него со скоростью железнодорожного локомотива». Турки быстро осознали, что «эта маленькая скорлупа» несет пароходу смерть. С его бортов и с турецкого берега по катеру открыли отчаянную пальбу. От близких разрывов снарядов миноноска подрагивала на ходу. Вопреки намеченному плану, в противостоянии с грозным противником русский катер оказался в гордом одиночестве – другие катера отстали. Словом, дела на «Шутке» приобрели совсем не шуточный оборот. Из воспоминаний художника: «„Ну, брат, попался, – думал я себе, – живым не выйдешь“. Я снял сапоги и закричал Скрыдлову, чтобы и он сделал то же самое. Матросы последовали нашему примеру». Укрываясь от ураганного огня, моряки попрятались под палубу, закрытую железными плитами, а вот командир катера остался незащищенным: «Вижу, что Скрыдлова, сидевшего у штурвала, передернуло; его ударила пуля, потом вторая…» Но всё же лейтенант нашел в себе силы и, припав к штурвалу, привел «Шутку» в соприкосновение с турецким пароходом. При этом должна была сработать носовая мина, но взрыва не последовало. Позднее выяснилось, что виной тому были перебитые огнем противника провода. Получившая пробоину «Шутка» под обстрелом медленно уходила в сторону, постепенно наполняясь водой и двигаясь не столько благодаря работе паровой машины, сколько влекомая течением реки. Ранен был и Верещагин. «В ожидании того, что вот-вот мы сейчас пойдем ко дну, я стоял, поставивши одну ногу на борт; слышу сильный треск надо мною и удар по бедру, да какой удар! точно обухом. Я перевернулся и упал, однако тотчас же встал на ноги» [153]153
Там же. С. 176.
[Закрыть].
«Шутку» и ее экипаж в ней спасло лишь то, что турки на пароходе, заметив, что катер подбит, не стали его преследовать: скоро, мол, сам уйдет на дно. Однако навстречу от турецкого берега спешил еще один турецкий монитор, снабженный крупнокалиберными орудиями. Решено было дать бой и ему, и Скрыдлов скомандовал Верещагину приготовиться к атаке кормовой миной. Оба понимали, что силы слишком неравны: один меткий выстрел – и от катера ничего бы не осталось. Но на удачу возле лесистого острова открылся небольшой речной рукав. Туда и свернули и быстро укрылись от начавшегося обстрела – ширина рукава не позволяла войти в него большому кораблю.
Так закончилась эта операция. Некоторое время спустя благополучно добрались до своего берега. «У Скрыдлова, – подводил итог Верещагин, – две раны в ногах и контужена, обожжена рука. Я ранен в бедро, в мягкую часть… Пуля или картечь ударила в дно шлюпки, потом рикошетом прошла от кости; тронь тут кость, верная бы смерть. Из матросов никто не ранен».
Встречавшие их на берегу сделали из весел носилки и на них понесли Скрыдлова. Верещагин, не обращая внимания на рану, пошел пешком, пока боль и потеря сил не заставили его опереться на плечи шедших рядом матросов. Среди тех, кто с берега наблюдал за установкой мин, были два генерала, Скобелев-младший и А. П. Струков, адъютант главнокомандующего. Подойдя к Верещагину, Скобелев расцеловался с ним со словами: «Какие молодцы, какие молодцы!» «Этому бравому из бравых, – прокомментировал их встречу художник, – видимо, было завидно, что не он ранен».
Доблестная атака «Шутки» стала известна военным корреспондентам, и один из них, художник Николай Каразин, ранее воевавший, как и Верещагин, под началом генерала Кауфмана в Средней Азии, написал о действиях русских моряков на Дунае в газету «Новое время». Его репортаж «На боевых позициях», опубликованный 22 июня, рассказывал со слов участников операции и очевидцев: «Турецкий пароход-фрегат имел шесть орудий громадного калибра и малый для стрельбы картечью, до 150 человек экипажа и столько же десанто-пехотинцев. На него налетела „Шутка“ с десятью человеками экипажа, вооруженными револьверами… Это всё равно что одиночному всаднику ринуться на батальонное каре…» Тем не менее, продолжал автор, при виде выдвинутой на «Шутке» торпеды «гигант стал позорно отступать перед смелым пигмеем». Каразин сообщал и о появлении близ полузатопленной «Шутки» турецкого двухпалубного броненосца, поспешившего на помощь пароходу, и о том, как Скрыдлов с Верещагиным, оба уже раненые, решили дать бой и ему: «…бить монитор и гибнуть – так уж вместе».
Заметим, что боевое столкновение маленькой «Шутки» с большим турецким кораблем попало не только на страницы газет. Известный русский маринист А. П. Боголюбов написал на эту тему картину «1877. Дело Скрыдлова на Дунае». Ее репродукция была напечатана журналом «Искусство и художественная промышленность» в двенадцатом номере за 1899 год. На картине, показывающей атаку миноноской турецкого парохода, наглядно представлено, насколько мала «Шутка» в сравнении с обстреливающей ее из корабельных орудий вражеской махиной.
Поначалу полученная рана казалась Верещагину легкой, и он надеялся вскоре вернуться в строй. Но этого не произошло. Их со Скрыдловым положили в госпиталь в Журжеве, а спустя некоторое время перевезли в Бухарест, где поместили в одной палате. Пребывание в бухарестском госпитале Верещагин позднее описал в своей книге «На войне».
Соседство в палате со Скрыдловым обернулось для художника нежданным беспокойством: уж слишком много друзей и знакомых успел завести в авангарде армии общительный лейтенант. Узнав о его геройстве и ранении, чуть не каждый из них теперь стремился зайти в госпиталь, чтобы оказать внимание командиру «Шутки» и выразить лучшие чувства. Эти бойкие и шумные посетители изрядно докучали художнику.
В госпиталь, еще почти пустой по причине пока небольшого количества жертв войны, как-то пожаловал император Александр II с большой свитой, включавшей румынского принца Карла и знакомого Верещагину лейб-медика С. П. Боткина. Скрыдлов первым удостоился высочайшего внимания. Подойдя к нему, государь воскликнул с волнением в голосе: «Я принес тебе крест, который ты так славно заслужил!» – и положил Георгиевский крест на грудь больному. Верещагин второго креста не удостоился. «У тебя уже есть, тебе не нужно!» – сказал ему император, ограничившись словами благодарности за геройство.
Вопреки ожиданиям врачей, Скрыдлов поправлялся быстрее, а вот состояние Верещагина, как он сам описывал, «было на точке замерзания», а потом начало опускаться еще ниже. Виной тому оказались попавшие в рану частицы материи, вызвавшие нагноение. Всякий раз, когда из раны извлекались кусочки сукна, начинались такие боли, что раненому становилось дурно. К тому же накатил очередной приступ лихорадки, подхваченной художником в Закавказье и с тех пор периодически мучившей его и в Туркестане, и на китайской границе, и в Индии. Ему начали давать хинин, но и это помогало мало. Пришлось перевести художника в отдельную палату для тяжелых больных. Ухаживала за ним румынская медсестра, ни слова не понимавшая по-русски, которая часто делала совсем не то, чего ему хотелось. Легко возбудимого да еще находившегося в лихорадочном состоянии больного такое отсутствие взаимопонимания сильно раздражало. Но вскоре число раненых в госпитале значительно возросло, и румынок сменили прибывшие на фронт русские сестры милосердия. Одна из них, «сестрица-волонтер» Александра Аполлоновна Чернявская, стала опекать Верещагина. «Это была, – с благодарностью вспоминал художник, – прелестнейшая особа, совершенно бескорыстно и самоотверженно ходившая за мной целых два месяца и буквально поставившая меня на ноги».
Изредка навещавшие Верещагина знакомые офицеры приносили известия с полей сражений – о взятии крепости Никополь, о тяжелых боях под Плевной. Но доктора, учитывая далеко не лучшее его состояние, пускали к больному далеко не всех и просили каждого посетителя не тревожить художника дурными вестями. Однажды зашел приехавший из Вологды младший брат Сергей. Рассказал новости о родных, спросил, чем может быть полезен. «Ничем, – ответил Верещагин, – но если ты не прочь посмотреть на войну, съезди в главную квартиру и оттуда к действующим войскам – послушай, как свистят пули». «Я нацарапал, – вспоминал Верещагин, – несколько слов рекомендации Д. А. Скалону, управляющему канцеляриею главнокомандующего, передал брату служившего мне пешего казака с повозкою, моих лошадей, палатку и всё нужное в походе… и отправил его за Дунай» [154]154
На войне. Воспоминания о Русско-турецкой войне художника В. В. Верещагина. М., 1902. С. 56.
[Закрыть].
Скрыдлов заметно окреп, долечиваться ему предстояло в России, и перед отправкой на родину он зашел попрощаться в палату, где лежал Верещагин. А Василию Васильевичу становилось всё хуже. Мучила лихорадка, и иногда за ночь сестрам приходилось по полтора десятка раз менять ему намокшее от пота белье. В лихорадочном бреду рождались странные видения, возникали картины потустороннего шабаша: «Открывались громадные неизмеримые пространства каких-то подземных пещер, освещенных ярко-красным огнем. В этой кипящей от жары бесконечности носились миллионы человеческих существ, мужчин и женщин, верхами на палках и метлах… дико хохотавших мне в лицо». После пробуждения – «белье хоть выжми», и вновь тяжелая дремота, и те же картины, и опять лихорадочный пот. Однажды ночью он почувствовал себя настолько скверно, что попросил старшую сестру общины милосердия, сменившую усталую Чернявскую, записать под диктовку его последнюю волю. «Ах, как смерть была близка и как мне не хотелось умирать, – вспоминал Верещагин свое тогдашнее состояние. – Что будет теперь, думалось, с большими начатыми полотнами? Как небрежно к ним отнесутся, как вкривь и вкось будут судить их: мысли выражены неясно, техника не отделана!» [155]155
Там же. С. 58.
[Закрыть]
Приходили на память упреки Стасова и других знакомых: зачем ему надо было идти на войну? Воевать, мол, должны военные, это их долг и обязанность. Но тот же Стасов чуть ли не с восторгом упоминал, что о его, Верещагина, и Скрыдлова геройстве хорошо написал Каразин в «Новом времени». А Леман прислал из Парижа статью, напечатанную в «Temps», в которой речь шла о том же подвиге и художник именовался «принцем Верещагиным». В ответ на все упреки думалось: «Не хотели люди понять того, что моя обязанность, будучи только нравственною, не менее, однако, сильна, чем их. Что выполнить цель, которою я задался, – дать обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому всё прочувствовать и проделать – участвовать в атаках, штурмах, походах, поражениях, испытать голод, холод, болезни, раны… нужно не бояться жертвовать своей кровью. Иначе картины будут „не то“…» [156]156
Там же.
[Закрыть]
Во время одной из перевязок лечивший Верещагина доктор заметил признаки начинавшейся в ране гангрены. Больному сообщили, что его нужно срочно оперировать. Он не возражал: «…Хуже того, что было, не могло быть; при вполне сохранившихся сознании и всех мыслительных способностях физические силы до того упали, что я едва мог говорить».
Операцию делали под хлороформом. Из разрезанной раны удалили гной и еще уцелевшие в ней частицы материи. Когда больной пришел в себя, ему дали выпить бокал шампанского. О том, как прошла операция, Верещагин рассказал в письме Стасову, вскользь упомянув: «Так приготовился умереть, что просто не верилось в возможность выздоровления, – авось». Однако благоприятные последствия операции сказались очень быстро, и уже через десять дней художник известил Стасова, что сделал первые шаги по палате. Стасов же, стараясь в это время сообщать больному только хорошие новости, написал, что Репин, вернувшийся из Парижа в Россию, увидел в Москве выставленные там Третьяковым туркестанские картины Верещагина и пришел от них «в великое восхищение». Критик привел слова Репина об искусстве Верещагина: «Я нашел в нем даже гораздо больше, чем ожидал… Теперь я оценил наконец эту свежесть взгляда, эту оригинальную натуральность представлений. Какие есть у него чудеса колорита, живописи и жизни в красках! Просто необыкновенно! Простота, смелость, самостоятельность, какой я прежде не ценил…» [157]157
Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова. Т. 1. С. 170.
[Закрыть]В ответном письме Стасову Василий Васильевич, поблагодарив Репина за «лестный отзыв», пожелал ему успеха и «поменьше детей (между нами)». По мнению Верещагина (в письме, впрочем, не высказанному), Репин, обзаводясь большой семьей, совершал ту же ошибку, что и Крамской, ибо дети отвлекают от творчества. Пройдут годы, прежде чем он сменит эту точку зрения.
Однако свой ответ Стасову в этом письме от 15 (27) июля 1877 года из Бухареста Верещагин начал с суровой отповеди критику на его последние письма. Стасов в них писал: «Вот что значит верещагинская татарская, тамерлановская нетерпеливость и торопливость… Я Васругаю на чем светстоит за присутствие на войне – это вовсе не дело художника, без Вас есть сотни тысяч людей, лезущих на сабли и на пушки. Ваша жизнь дороже – и все-таки не могу отказать Вам в глубочайшей симпатии и удивлении!!!» [158]158
Там же. С. 165.
[Закрыть]Верещагин на это отвечает: «Не упрекайте, пожалуйста, тем, что приходится лежать теперь, когда нужно было бы ездить и смотреть. Вы понимаете, что попрек этот очень тяжел мне. Вам бы, однако, не следовало так легко относиться к моей татарской торопливости (как Вы уверяете). Слушайте, я оставил Париж и работы мои не для того только, чтобы высмотреть и воспроизвести тот или другой эпизод войны, а для того, чтобы быть ближе к дикому и безобразному делу избиения; не для того, чтобы рисовать, а для того, чтобы смотреть, чувствовать, изучать людей. Я совершенно приготовился к смерти (еще в Париже), потому что решил, выезжая в армию, всё прочувствовать, сам с пехотою пойти в штыки, с казаками в атаку, с моряками на взрыв монитора и т. д.» [159]159
Верещагин В. В. Избранные письма. С. 51–52.
[Закрыть].
Выздоравливая, Василий Васильевич и не думает возвращаться из Бухареста в Париж. Он пишет Стасову: «Постараюсь видеть, что можно, из Дунайской драмы».
Примерно в эти дни, во второй половине июля, в бухарестском госпитале Бранкована Верещагина навестил корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» П. Трифонов. Делясь с читателями впечатлениями от встречи с известным художником, журналист сообщал, что после операции серьезная опасность, угрожавшая его жизни, миновала, рана заживает и, вероятно, недели через три он сможет оставить госпиталь. Из репортажа: «В. В. Верещагин лежит один в большой высокой комнате в пять окон. Подойдя к кровати и увидев бледное исхудавшее лицо дорогого русскому сердцу больного, я был глубоко растроган. Вся фигура В. В. и тонкие черты его лица сразу обнаруживают художника. Высокий, выпуклый лоб с начинающейся лысиной, очень живые блестящие глаза в глубоких глазных впадинах, орлиный нос, прекрасно очерченные губы, четко складывающиеся в улыбку, обнаруживая ряд ровных белых зубов, и густая темно-русая борода, доходящая до половины груди. В каждом движении, в каждом слове сказывается нервность, впечатлительность, горячность и большая нравственная сила, при замечательной доброте и искренности».
Трифонов писал, что за всё время пребывания в Бухаресте он ежедневно навещал Верещагина и они вели беседы по часу или два. «Посреди всех страданий одна мысль не покидала художника: скорее выздороветь и опять отправиться в действующую армию; он боится одного – чтоб болезнь не задержала его в постели до окончания войны и не помешала ему видеть то, что для него необходимо». В разговорах с корреспондентом Василий Васильевич коснулся судьбы тех полотен, над которыми работал в Париже перед началом войны. «О своих будущих картинах он высказывал, что, кажется, задумал их в слишком обширном плане и боится, что не достанет средств для его выполнения, особенно при плохом здоровье, окончательно расстроенном путешествием в Индию и последними страданиями» [160]160
Санкт-Петербургские ведомости. 1877. № 211.2 августа.
[Закрыть].








