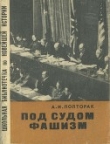Текст книги "Нюрнбергский эпилог"
Автор книги: Аркадий Полторак
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Еще до приезда в Нюрнберг Лев Николаевич имел опыт допроса и обвинения нацистских преступников. Человек большой культуры, высокообразованный юрист и один из наиболее талантливых наших судебных ораторов, он блестяще провел процесс над десятью немецко-фашистскими палачами в Смоленске. Там он выступал в качестве главного обвинителя и по ходу дела хорошо изучил самые разнообразные методы преступлений гитлеровцев против гражданского населения, приемы их маскировки. Именно поэтому в Нюрнберге ему и было поручено предъявление трибуналу доказательств виновности нацистской клики в преступлениях против человечности.
Выбор оказался очень удачным. Речи Л. Н. Смирнова на Нюрнбергском процессе поражали не столько пафосом чувств, сколько силой логики, убедительностью и, я бы сказал, своей научностью, весьма интересными и ценными для юристов и историков обобщениями. Вот он анализирует многочисленные акты зверств.
– Единство злой воли, – говорит советский обвинитель, – проявлялось в единстве приемов исполнителей злодеяний, однотипности техники умерщвления людей... Одно и то же устройство газовых камер, массовые штамповки круглых банок с отравляющим веществом «циклоном А» или «циклоном Б», построенные по одним и тем же типовым проектам печи крематориев, одинаковые планировки лагерей уничтожения, стандартная конструкция чудовищных машин смерти, которые немцы называли газвагенами, а наши люди душегубками, техническая разработка конструкций передвижных машин для размалывания человеческих костей – все это указывало на единую злую волю, объединяющую отдельных убийц и палачей... Вы увидите, господа судьи, что места захоронения немецких жертв вскрывались советскими судебными медиками на севере и на юге страны, могилы были отделены одна от другой тысячами километров, и очевидно... злодеяния совершались различными физическими лицами. Но одинаковыми были приемы совершения преступлений. Одинаково локализировались ранения. Одинаково подготавливались маскируемые под противотанковые рвы или траншеи гигантские ямы-могилы...
Лев Николаевич не раз возвращается к этому вопросу, раскрывая то главное, что содействовало созданию в Германии огромного слоя палачей. Советский обвинитель говорит о государственно организованном характере преступлений, о роли многолетнего расистского воспитания, о привитии гитлеровцам чувства материальной заинтересованности в войне, о специальных приказах Гитлера, запрещающих привлекать нацистов к ответственности за преступления, одним словом, о всем том, что помогло нацистской партии воспитать многие десятки тысяч исполнителей сатанинского плана массового уничтожения людей.
Недоуменные взгляды Геринга, Розенберга, Шираха, Штрейхера как бы вопрошают: «Позвольте, а мы-то тут при чем?» Эта их «святая наивность» никого, однако, не могла обмануть. Именно они, Геринг и Розенберг, Штрейхер и Ширах, в течение многих лет развращали немецкий народ, внушали ему, что «совесть – химера», от которой истый германец должен освобождаться, что, кроме немцев, нет в мире людей, достойных существования. Страшной иллюстрацией плодов такого развращения народа как раз и явились выставленные в зале суда вещественные доказательства.
Нацисты сами завели точный бухгалтерский учет своим преступлениям. Ни одно убийство не должно было остаться неучтенным. В концлагерях велись гроссбухи, где в алфавитном порядке отмечалось «прибытие» и «убытие» заключенных. Обвинитель предъявляет одну такую книгу. Она настолько массивна, что Л. Н. Смирнов с трудом передает ее на судейский стол.
Во время перерыва я сам заглянул в нее. У всех погибших каллиграфическим почерком указана одна причина смерти – «сердечное заболевание». В лагере они не задерживались. Смерть вскоре настигала их. И погибали они тоже в алфавитном порядке.
Никто даже из самых ярых противников гитлеровского режима не мог представить себе картину деловой сдачи в германский банк тысяч колец, серег, часов, брошей, снятых с убитых и истерзанных в концлагерях людей, золотых пломб, выдранных из их зубов. За всю многовековую историю человечества никогда еще ни одно государство не обвинялось в подобных преступлениях. Лишь на Нюрнбергском процессе все это раскрылось в страшной своей наготе и было подтверждено свидетельскими показаниями.
Точно так же, как Смоленск был для Л. Н. Смирнова этапом на пути в Нюрнберг, сам Нюрнбергский процесс, где он так мастерски изобличал кровавые злодеяния немецко-фашистских завоевателей, открыл перед ним новые дороги. Из Нюрнберга Лев Николаевич был командирован в Токио на судебный процесс главных японских военных преступников. А еще через несколько лет выступал в качестве главного обвинителя на Хабаровском процессе по делу опять-таки японских военных преступников, обвинявшихся в подготовке и применении бактериологического оружия.
Но вернемся в Нюрнберг. Много сюрпризов для подсудимых заключал в себе и сосредоточенный там огромный фотофонд. Гитлеровцы любили позировать перед объективами фото – и киноаппаратов, совершенно не подозревая, что в конечном счете это обернется против них.
Кальтенбруннер, например, отрицает, что он когда-либо бывал в лагере Маутхаузен и тем более присутствовал при массовой загрузке печей трупами. Но как на грех, сохранились фотографии: шеф гестапо с важным видом наблюдает за работой печей. Таких фотографий сотни. Но подсудимый не торопится узнать на них собственную персону. Для него «не ясно изображение». И тогда обличающие Кальтенбруннера фотодокументы передаются в комнату 158.
Там сидит плотный пожилой немец среднего роста в клетчатом пиджаке. Это Генрих Гофман. До 1938 года он никому не был известен. Зарабатывал «на хлеб» фотографированием обнаженных танцовщиц. Потом переключился на издание порнографических открыток. Натуру для своих съемок Гофман подбирал во второразрядных кабачках, и одна из многочисленных натурщиц ему понравилась, стала помощницей. То была Ева Браун, которой судьба судила впоследствии завоевать внимание и благосклонность Гитлера. Гофман не очень кручинился, когда Ева сменила его на фюрера, тем более что сделка, заключенная по этому поводу, была весьма выгодной: он обязался уничтожить все негативы, запечатлевшие обнаженную Еву Браун, и взамен приобретал монопольное право фотографировать Гитлера. Генрих Гофман быстро переключился с порнографии на гитлерографию и через самое короткое время сделал в «третьей империи» блистательную карьеру. Он основал большое издательство, оборот которого составил за двенадцать лет 58 миллионов марок. Гитлер присвоил своему лейбфотографу профессорское звание и даже наградил золотым значком нацистской партии.
Так до поры до времени развивалась карьера придворного фотографа. Но ничто не вечно под луной, а тем более под нацистским скипетром. В 1945 году уже состарившийся Гофман рад был и тому, что его «используют по специальности» в качестве эксперта фотодокументов. В зал суда этого эксперта не пускают. Только раза два по утрам до начала судебного заседания я видел его там затаившимся в углу. Блуждающим взглядом он обводил своих бывших клиентов, оказавшихся на скамье подсудимых.
Гофман был не единственным человеком, передавшим трибуналу многочисленные фотографии разоблачительного характера. Случалось и так, что сами заключенные концлагерей, чудом спасшиеся, привозили в Нюрнберг фотоулики.
У свидетельского пульта Франсуа Буа, молодой высокого роста француз, вызволенный из Маутхаузена. Будучи фотографом по профессии, он использовался администрацией этого концлагеря на работе в отделе по установлению личности заключенных. Это позволило Буа положить на стол суда целую пачку фотографий о Маутхаузене, либо сделанных им самим, либо переданных ему эсэсовцами в виде негативов для проявления и отпечатания.
Вот одна из этих страшных фотографии. На ней изображен так называемый «маскарад», Буа поясняет:
– Он устроен «в честь» одного сбежавшего австрийца. Беглец, работая столяром в лагерном гараже, смастерил такой ящик, в котором можно было спрятать человека, и в этой таре с помощью товарищей попытался вырваться из лагеря. Но его поймали, приговорили к казни и провели на виселицу перед строем из десяти тысяч заключенных под музыку оркестра цыган. На снимке вы видите этого несчастного уже качающимся в петле, а оркестр все еще играет польку «Бейер Барель».
На другой фотографии – человек, повешенный на дереве. Буа комментирует:
– Это еврей, я не знаю, из какой он страны. Его посадили в бочку с водой и держали там до изнеможения. Потом избили до полусмерти и дали десять минут на то, чтобы он сам казнил себя. Несчастный повесился, употребив для этого собственный пояс (он понимал, что его ждет в противном случае). А снимок этот сделан обершарфюрером Паулем Рикке.
Дальше Буа предъявляет фотографию, на которой запечатлен визит в лагерь Маутхаузен нацистского министра вооружений Шпеера. Министр в прекрасном расположении духа. С самодовольной улыбкой он пожимает руку начальнику лагеря оберштурмбанфюреру Цирайсу.
Советский обвинитель Руденко обращается к свидетелю с вопросом, что ему известно об истреблении в Маутхаузене советских военнопленных. Буа в затруднении:
– Я знаю так много, что мне не хватило бы месяца, чтобы рассказать об этом.
Франсуа Буа с волнением передает суду новую фотографию. Судьи рассматривают ее и затем предлагают ознакомиться с ней защите и подсудимым. Я вижу, как вытягиваются шеи Геринга и Кейтеля, как через их головы смотрят на фотографии Иодль и Дениц.
Во время перерыва я тоже взглянул на эту фотографию. На снегу донага раздетые и босые стоят, словно выстроенные на поверку, тридцать советских солдат. Они ужасно худы, ребра выпирают так, будто и кожи нет. Из темных глазниц с трагическим выражением смотрят глаза. Но в этих глазах еще горит огонь, еще есть непоколебимая решимость. Жить им осталось недолго, однако ни один из них не потерял присутствия духа, не обнаружил покорности, униженности.
* * *
29 ноября 1945 года подсудимые, которых, как обычно, доставили утром в судебный, зал, обратили внимание, что на одной из стен установлен белый экран. Предстояла демонстрация серии документальных фильмов, отснятых в свое время официальными нацистскими кинохроникерами.
Зал погружается во тьму, но лица подсудимых на виду: они подсвечиваются снизу специальным устройством. Первые кинокадры не вызывают беспокойства. На экране годы борьбы нацистов за власть, создание вермахта, воздушный парад Люфтваффе. Геринг улыбается. Он видит себя в качестве командующего нацистской авиацией.
Потом промелькнули парады сухопутных сил, новые огромные заводы вооружения и их крестный Яльмар Шахт. Это он щедро отпускал миллиарды марок на их строительство.
Геринг подталкивает Гесса, который безучастно смотрит то в пол, то в потолок. Гесс лишь на мгновение обращается к экрану, который переносит его на очередное фашистское сборище в рейхстаг. Он видит там самого себя приводящим банду «парламентариев» к присяге на верность фюреру.
Геринг довольно громко говорит своим соседям, что «фильм вдохновляющий». Настолько вдохновляющий, что под его влиянием «даже сам обвинитель Джексон, вероятно, захотел бы вступить в нацистскую партию».
Но вот настроение на скамье подсудимых резко меняется. На экране новый документальный фильм – «Концентрационные лагеря».
Когда вспоминаешь теперь реакцию на него главарей гитлеровской клики, невольно обращаешься мысленным взором к тому, что происходит сейчас в Западной Германии. Новому поколению немцев старые милитаристы стремятся ныне внушить, что все нападки на них и даже сам Нюрнбергский процесс – не что иное, как «ложь и софистика», «подлейшая фальсификация истории». Но пусть они попробуют ознакомить это новое поколение немцев с теми самыми хроникальными фильмами, которые показывались в Нюрнберге Герингу и Кейтелю, Иодлю и Деницу!
Гестаповская кинохроника не предназначалась, конечно, для широкой публики. Кадры, отснятые в концлагере Освенцим, леденят кровь. Нескончаемой вереницей проходят перед зрителем десятки тысяч несчастных, ожидающих смерти. Их избивают, травят собаками. А вот и конец их страдальческого пути – знаменитые печи-крематории. Перед входом в крематорий – горы обуви, детские вещи.
А это что такое? Целый склад тюков. Это волосы, срезанные у жертв перед казнью. На тюках надписи: «Волос мужской», «Волос женский».
Поглядываю на скамью подсудимых. Подсвеченные их лица выглядят какими-то жуткими призрачными масками.
А на экране опять горы ботинок, горы трупов и... оркестр, составленный из лучших музыкантов Европы. Он исполняет «танго смерти», заглушая стоны несчастных. Потом гитлеровцы уничтожили и самих оркестрантов, стоны которых уже не заглушал никто...
Шахт старается не смотреть на экран. Он отворачивается в сторону гостевой галереи. Какое ему, финансисту и коммерсанту, дело до всех этих преступлений? Но его величайшее ханжество никого не может обмануть. Не будь главного казначея войны, не было бы и печей Освенцима.
Нейрат опустил голову. Функ, который хранил в подвалах Рейхсбанка снятые с жертв золотые вещи и вырванные из ртов тысяч замученных людей золотые коронки и мосты, закрыл глаза и сам похож на мертвеца. Работорговец Заукель вытирает пот со лба. Франк всхлипывает. Шпеер подавлен и тоже всхлипывает. Геринг двумя руками опирается о скамью, смотрит преимущественно в сторону. Розенберг нервно покачивается, оглядывается, хочет видеть, как ведут себя остальные. Один из защитников произносит: «Боже мой, какой ужас!»
Освенцимские кинокадры сменяются кадрами из Бухенвальда. Снова всепожирающие печи и абажур из татуированной человеческой кожи.
Когда на экране появляются тюки волос и диктор объявляет, что это «сырье» использовалось для производства специальных чулок для команд подводных лодок, Дениц отворачивается, что-то шепчет Редеру.
А вот и Дахау. 17 тысяч мертвецов... Функ теперь плачет безудержно. Франк кусает ногти.
Потом на экране появляется Иосиф Крамер – палач Бельзенского концлагеря. В яму сбрасываются женские тела. И Франк совсем теряет самообладание. Он кричит задыхающимся голосом:
– Грязная свинья!
По окончании этого фильма доктор Джильберт услышал реплику Штрейхера:
– Может быть, в последние дни нечто подобное действительно происходило.
Ему отвечает Фриче:
– Миллионы в последние дни? Нет!..
Когда все эти неопровержимые данные о виновности нацистской партии и ее главарей исследовались трибуналом, мне невольно вспомнились слова одного из обвинителей: «Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна».
Вечером Джильберт направился в камеры. Зашел к Фриче. Тот глядел на него отсутствующим взглядом и еле выговаривал:
– Никто на земле и на небе не сумеет снять этого позора с моей страны. Ни в грядущих поколениях, ни в течение столетий.
Но пройдет всего шесть лет, и, оказавшись на свободе, в атмосфере нового милитаристского угара, охватившего Западную Германию, он напишет книгу, в которой будет начисто все отрицать...
От Фриче Джильберт проследовал к Франку. Едва доктор завел речь о просмотренном фильме, Франк заплакал и запричитал:
– Подумать только, что мы жили, как короли, и верили в этого зверя!.. Не позвольте никому убеждать вас в том, что мы ничего не знали. Все знали, все понимали, постоянно чувствовали что-то ужасное в нашей системе... Вы еще слишком хорошо обращаетесь с нами, – продолжал он, показывая на еду, стоявшую на столе. – Ваши военнопленные и наш собственный народ умирали от голода в концлагерях... Бог мой, спаси наши души!.. Да, доктор, то, что я говорю вам, истинная правда. Этого суда хотел сам господь...
Франк видел Треблинку, Майданек и Освенцим не только на экране. Он самолично наносил туда визиты. И тогда не плакал и не ударялся в истерику. А теперь вот, увидев документальный фильм и явственно почувствовав прикосновение веревки к собственной шее, вдруг разрыдался. Над чем? Конечно же только над своей судьбой.
...Джильберт у Папена. Доктор интересуется, почему этот старый диверсант, человек, открывший Гитлеру дорогу к власти, демонстративно отвернулся от экрана? Ответ предельно лаконичен:
– Я не хотел видеть позор Германии.
Шахт жалуется Джильберту:
– Неслыханно, что меня заставляют сидеть с этими преступниками на одной скамье!
Но мы еще убедимся, что ничего неслыханного в этом не было.
И может быть, ошибка состояла в том, что Шахта посадили далеко от Геринга.
...Камера Заукеля. Он дрожит всем телом и уверяет Джильберта:
– Я бы задушил себя собственными руками, если бы творил хоть малейшее из того, что нам показали. Это позор! Это позор для нас, наших детей, наших внуков!
Кейтеля Джильберт застает за едой. Он не вступает в разговор до тех пор, пока доктор сам не заговаривает относительно фильма. Положив на стол ложку, фельдмаршал германской армии роняет всего несколько слов:
– Это ужасно! Когда я смотрю подобные вещи, стыжусь, что я немец.
Геринг ушел от обсуждения этой темы.
Фриче оказался словоохотливее:
– Да, доктор, это была последняя капля. Я смотрел на экран, и у меня было чувство все возрастающей кучи грязи, в которую я погружаюсь и постепенно задыхаюсь.
Джильберт заметил Фриче, что Геринг гораздо спокойнее и, как видно, проще относится ко всему этому. Тогда Фриче стал проклинать Геринга, этого «толстокожего носорога, который позорит немецкий народ».
Для чего я воспроизвожу здесь все это? Разве не ясно, что и слезы, и причитания, и велеречивые восклицания подсудимых – сплошное лицемерие. Но не в том суть. Суть в другом: никто из тех, кто держал ответ перед лицом Международного трибунала, даже в неофициальных беседах наедине с доктором Джильбертом не решался отрицать содеянных нацистами преступлений, а лишь стремился выгородить самого себя, представиться сторонним наблюдателем. Какой же мерзостью является современная западногерманская пропаганда, стремящаяся реабилитировать нацизм!
На Нюрнбергском процессе Геринг и Риббентроп, Кейтель и Иодль боялись самого слова «киноэкран». Он не сулил им приятных минут. Но никому из них и в голову не приходило подвергать сомнению то, что запечатлено хроникерами-документалистами на десятках тысяч метров кинопленки.
Почему же в таком случае правительство Бонна заявляет теперь официальные дипломатические протесты правительствам других стран, где прогрессивные режиссеры попытались средствами художественного кинематографа довести до миллионов людей лишь малую толику того, что демонстрировалось в Нюрнберге? Почему их так тревожит кинопересказ давно разоблаченных преступлений Гитлера и Гиммлера, Геринга и Кальтенбруннера? Исчерпывающий, мне кажется, ответ дал на эти вопросы известный итальянский кинорежиссер Витторио де Сика, объясняя причины развернувшейся в Бонне кампании травли против антифашистского фильма «Затворники из Альтоны»:
– Западная Германия и сейчас заражена фашизмом.
И уж коль скоро зашла речь о кино, я никак не могу не вспомнить здесь добрым словом выдающегося советского кинодокументалиста Романа Кармена, его боевых товарищей Бориса Макасеева, Виктора Штатланда, Сергея Семенова, Виктора Котова и совместно созданный ими фильм «Суд народов». Перефразируя одного из обвинителей, можно смело сказать, что к этому фильму историки могут обращаться в поисках правды, а политики – в поисках предупреждения.
Если бы суду в Нюрнберге потребовались новые доказательства виновности гитлеровской клики, их мог бы доставить Роман Кармен. Этот человек видел так много и так хорошо, обладал такой коллекцией зафиксированных на пленку отвратительных преступлений германского фашизма, что стал бы, пожалуй, одним из главных свидетелей обвинения.
Увы, он прибыл в Нюрнберг не как свидетель, а как солдат, который считал, что его путь по пыльным и кровавым дорогам войны еще не завершен и что здесь, в Нюрнберге, он должен создать кинематографический эпилог войны, эпилог возмездия нацизму. Еще в комсомольские годы я видел боевые киноотчеты Кармена с фронтов героической Испании. А во время Великой Отечественной войны перед объективом его камеры поочередно прошли и страшные, но героические картины ленинградской блокады, и начало великого перелома в ходе нашей смертельной схватки с фашизмом – битве на Волге, и последующее неудержимое наступление победоносной Советской Армии. Были тут и радостные лица освобожденных людей, были и варварства Освенцима, Майданека, Треблинки. Все видел и запечатлел для истории советский режиссер. Запечатлел хорошо, выразительно, а главное – достоверно.
В отличие от многих своих зарубежных коллег здесь, в Нюрнберге, Роман Кармен никогда не гонялся за дешевой сенсацией. Как всякий большой художник, он явно предпочитал этому кропотливый отбор материала для своего будущего фильма.
Вот он наблюдает за Риббентропом. Кармен видел его во времена «славы и величия», а теперь ему нужен Риббентроп с таким жестом, который сразу раскрывал бы, чего ждет от судьбы этот некогда самодовольный субъект. И Кармен, набравшись терпения, ждет, как охотник в засаде. Вот Риббентроп левой рукой пытается расстегнуть ворот рубашки, ему душно. И камера сработала. Жест очень символичен.
Так кадр за кадром Кармен и его друзья создали настоящий исторический документальный фильм, потрясающий по силе своего воздействия на зрителя. Он и двадцать лет спустя после Нюрнберга по-прежнему находится на передовой линии борьбы за мир. Справедливость требует отметить, что успеху этого фильма в большой степени способствовали сопровождающие его гневные слова писателя-солдата Бориса Горбатова.
А из фотокорреспондентов мне особенно запомнился Евгений Холдей. Он с честью завоевал почетное право быть одним из фотолетописцев этого исторического процесса. С камерой и автоматом Женя прошел нелегкий путь от Москвы до Берлина. С десантниками высаживался на Малую землю в районе Керчи. В числе последних оставил осажденный Севастополь, а затем одним из первых вступил в освобожденный город-герой. С передовыми частями проследовал через Софию, Будапешт, Белград. Наконец, на первой полосе «Правды» появился его снимок, запечатлевший водружение Знамени нашей победы над рейхстагом. Снимал Женя и подписание акта о капитуляции фашистской Германии в Потсдаме. Фотографический же отчет о Суде Народов явился как бы логическим завершением его честного солдатского пути.