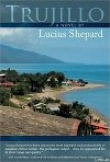Текст книги "Испанский садовник"
Автор книги: Арчибальд Кронин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 3
Для Николаса было устроено место под олеандрами, где цветущие ветки, свисая, образовали подобие беседки; здесь, в соответствии с составленным отцом расписанием, он проводил большую часть времени между ланчем и чаем, лежа в шезлонге, дыша морской свежестью и внимательно читая книгу, – несомненно, полезную, поскольку выбрал её сам консул.
Но в это утро взгляд мальчика то и дело невольно перебегал со страниц на фигуру нового садовника, приводящего в порядок разросшийся бордюр под катальпой. Николасу вот уже два дня очень хотелось с ним поговорить, но случай всё не никак не подворачивался, а подстроить его самостоятельно не позволяла застенчивость. Теперь же, видя, с какой скоростью Хосе продвигается вдоль бордюра, взрыхляя землю и выпалывая сорняки, мальчик понял, что садовник вот-вот окажется рядом, и сердце его застучало быстрее в предвкушении встречи, ведь он с самого начала почувствовал ток взаимопонимания – точнее не скажешь – текущий между ним и этим испанским юношей. Конечно, он мог ошибаться. Хосе вполне мог оказаться таким же лживым льстецом, как Гарсиа, но мальчик гнал от себя эту мысль – слишком велико было бы разочарование, такого ему не вынести.
В конце концов, садовник приблизился к беседке, выпрямился, облокотившись на ручку заступа, и улыбнулся Николасу. Мальчик знал, что ему следует заговорить первым, но он ничего не мог придумать, а когда, наконец, нашелся, слова застревали у него в горле.
– Вы так тяжело работаете, – выдавил он, по обыкновению зардевшись.
– Нет, нет! – улыбка Хосе стала шире, и он пожал загорелыми плечами. Он был обнажен до пояса, а туго подпоясанные хлопчатобумажные штаны и эспадрильи[1]1
Эспадрильи (espadrilles) – летняя обувь, матерчатые тапочки на верёвочной подошве из натуральных материалов. Носятся на босу ногу.
[Закрыть] не скрывали очертаний стройных сильных ног. Игра мускулов под гладкой золотистой кожей делала её живой и теплой. Дыхание, несмотря на физические усилия, было спокойным. – А вы не работаете? – наивно спросил он, помолчав.
– Я занимаюсь, – Николас указал на книги, лежащие рядом с ним на плетеном столе, при этом румянец на его щеках стал ярче.
– Да, конечно, – серьезно кивнул Хосе, в знак признания за собеседником интеллектуального превосходства. – Думаю, вы очень умны.
– Вовсе нет! – запротестовал Николас, еще сильнее раскрасневшись. – Просто мне нужно много отдыхать, поэтому я и читаю.
– Вы заболели?
– У меня температура всегда немного повышена, – смущенно пояснил Николас. – Слабое здоровье…
– Если бы вы работали, как я, – все так же с улыбкой сказал Хосе, – вы бы окрепли. – Он протянул руку. – Идёмте. Я вскопал землю, а сейчас буду сажать цветы. Вы мне поможете.
Николас онемел от восторга и заколебался, но всего на мгновенье. Он всем сердцем рвался пойти с Хосе, чья надежная рука, развеяв застенчивость мальчика, с такой легкостью подняла его на ноги, будто он весил не больше перышка. Они пошли в сарай, где Хосе поставил на плечо открытый ящик с рассадой петуний, который консул сегодня утром велел ему принести с рынка, а оттуда направились к дальнему краю газона. Здесь, натянув вдоль свежевскопанного бордюра две бечевки, Хосе приступил к посадке. Сначала Николас только наблюдал за работой садовника, затем, в ответ на его приглашающий взгляд, наклонился и сам несмело опустил рассаду в землю. После этого он уже не мог остановиться. До чего же приятно брать в руки прохладный зеленый стебелек, уминать теплую мягкую землю вокруг волосяных корешков, смотреть, как храбро тянется к свету этот маленький росток!
Николас всегда жил в городах, в домах, выходящих прямо на улицу, и теперь, сидя на корточках рядом с Хосе под припекающим затылок солнцем, вдыхая пьянящий дух земли, он чувствовал, что ничего более чудесного в своей жизни не знает. Даже пот, щекочущий тело под майкой, – обычно такой зловещий симптом – его совсем не беспокоил.
К четырем часам с посадкой было покончено, и, стоя рядом с Хосе, Николас с гордостью взирал на аккуратный цветник, где вскоре распустятся красивые яркие цветы. Мальчик был так поглощен содеянным чудом, что не услышал, как во двор въехала машина, и голос отца за спиной застал его врасплох:
– Николас, чем ты тут занимаешься? – в удивленном возгласе консула слышался оттенок неодобрения.
Мальчик подпрыгнул от неожиданности, а когда повернулся к отцу, его лицо ещё сияло радостью от собственного достижения.
– Папа, тут было так интересно! Я смотрел и даже помогал сажать эти петунии. Теперь их нужно полить, иначе они не расцветут, – и умоляющим тоном добавил: – Еще не очень поздно. Можно мне немножко подождать и посмотреть, как всё будет сделано?
Брэнд недовольно перевел взгляд с сына на садовника, а тот, зная свое место, отступил на пару шагов и стал наматывать бечевку на колышек. Его лишенное всякого намека на индивидуальность смиренное занятие, похоже, успокоило консула. Облачко, показавшееся было на его челе, как дымка на Олимпе, развеялось, и, подняв брови, он сухо изрек:
– Только не слишком долго. И смотри, не простудись. Привезли наш багаж. Пойду распаковывать.
– Спасибо, папа! – Николас радостно захлопал в ладоши. – Я уже давно не простужаюсь. Я к тебе скоро приду.
Харингтон Брэнд вошел в дом. В холле его ждали три аккуратных деревянных контейнера, уже освобожденные от крышек и излишков соломы. Расторопность дворецкого заслуживала похвалы. Консул подошел к сонетке и вызвал его звонком; затем, беспокоясь о сохранности своего сокровища, стал внимательно изучать содержимое багажа. А вот и оно! – он осторожно вынул из самого маленького ящика толстую пачку машинописных листов, перевязанную красной лентой.
– Звонили, сеньор?
Брэнд обернулся.
– Ах, да, Гарсиа. Отличное начало работы! Возьмите это. Осторожнее, пожалуйста. Это рукопись моей книги.
Дворецкий широко раскрыл глаза.
– Сеньор писатель?
Польщенный этим возгласом с примесью лести, Харрингтон Брэнд склонил голову.
– Я уже много лет занят одной серьезной работой… биографией великого человека.
– Сеньор имеет в виду себя?
Брэнд рассмеялся, по-настоящему рассмеялся от удовольствия.
– Ну-ну, Гарсиа. Вы слегка поторопились. Возьмите плотную оберточную бумагу и хорошенько упакуйте рукопись. Я хочу взять ее с собой в офис. Потом поможете мне с оружием.
– Слушаюсь, сеньор.
Дворецкий ушел, а консул, помешкав минутку, двинулся к ближнему ящику и стал ощупывать его содержимое, размышляя, с чего начать. Вдруг взгляд его упал на картонную папку, лежащую в верхней части ящика. Брэнд изменился в лице. С его губ сорвался приглушенный возглас. Упаковкой багажа занималась Гаврская фирма перевозок. Из недр письменного стола они извлекли на свет фотографию, которую он давно убрал с глаз долой. Портрет его жены.
Медленно, будто ядовитую змею, консул вынул фотографию и заставил себя посмотреть на нее. На лице его застыло выражение загнанности. Да, это была Марианна: бледное прелестное лицо с ласковыми темными глазами, чувственные губы приоткрыты в едва заметной улыбке, всегда вызывавшей у него недоумение. С фотографией в руке он задумчиво опустился на широкий подоконник в оконной нише, вспоминая тот роковой вечер, когда впервые её увидел.
Это случилось лет десять назад в Боудин-колледже[2]2
Боудин-колледж (англ. Bowdoin College) – частный гуманитарный университет в г. Брансуик, штат Мэн, США.
[Закрыть], куда во время своего длительного отпуска он приехал из Вашингтона выступить перед студентами с лекцией. На последовавшем за лекцией фуршете Брэнд заметил стоящую у дверей бледнолицую тоненькую девушку в черном – как позже выяснилось, она была в трауре по умершей матери – и был внезапно охвачен чувством, которого никогда ранее не испытывал в своих отношениях с противоположным полом. Он представился ей, наведя предварительно справки и выяснив, что она бедна, и что в одной из самых жалких в городе съемных квартир лежит её неизлечимо больной отец – бывший профессор университета, а ныне пенсионер.
Брэнд решил провести отпуск в Мэне, нашел поблизости хороший отель и самым серьезным образом – хоть и без особого успеха, но весьма настойчиво – принялся добиваться благосклонности Марианны. Она сказала ему, что замуж не хочет. Дважды получив отказ, он рассердился и уехал месяца на два, но, не в силах забыть её красоту, вернулся, влекомый страстью. В феврале умер её отец, и Марианна осталась одна. Грех было упускать такую возможность. В день похорон, когда одинокая, притихшая и несчастная сидела она, глядя, на дождь, струящийся по оконным стеклам, когда комната, слякоть и снег на улице, да и вообще все обстоятельства её жизни предстали перед ней ещё более унылыми, чем обычно, она со странным безразличием уступила ему.
Что же было потом? Он делал всё, что мог, чтобы доказать свою любовь, и не было на свете человека, более преданного. Он по-прежнему служил в Вашингтоне, его перспективы были радужными, а их номер в отеле уютным. Не жалея средств, он окружал её комфортом, выбирал для неё книги и цветы, планировал её развлечения, советовал ей, с какими людьми следует знаться, даже помогал в выборе одежды. Везде и всегда он был рядом – на приёмах, которые она вынуждена была посещать, он ни на шаг от неё не отходил. Когда же волей-неволей они бывали разлучены – за обедом или в переполненных гостиных – им овладевала такая тоска, что он устремлялся за ней, нимало не заботясь о том, что окружающие видят, насколько она желанна и необходима ему.
Она была невероятно тихой, и делалась всё более молчаливой, но его это не смущало, так как сам он любил поговорить. Порой, когда он пространно излагал ей свое мнение о политике, искусстве или, скажем, о личной гигиене, ему вдруг становилось неуютно от её взгляда и едва заметной необъяснимой улыбки. Тем не менее, для него было полной неожиданностью, когда через несколько месяцев после рождения ребенка она, без кровинки в лице, нервно отводя взгляд, попросила об отдельной комнате. Горечь от этой обиды так и не прошла.
– Но почему? – сильно побледнев, запинаясь, произнес он. – Разве ты не моя жена?
Она ответила так тихо, что он едва расслышал:
– Мне бы хотелось хоть иногда принадлежать самой себе.
Конечно же, он не согласился! Он имел на это право – ведь она была его законной супругой. Тогда он впервые почувствовал её отвращение к нему, странную и немыслимую неприязнь; вопреки всем его усилиям овладеть ею полностью – физически и духовно, барьер между ними всё больше рос.
Он был сильным мужчиной, убедительно и страстно исполняющим свою роль в чувственной области. Но как часто в момент кульминации его лишало наслаждения пугающее осознание своего одиночества: она лежала со стиснутыми зубами, застыв без движения, как труп, выброшенный из леденящего моря.
Понимая в душе всю абсурдность этого, он, тем не менее, был склонен подозревать наличие у неё любовника, ревниво следил за ней, вплоть до того – муж он или не муж? – что нанял агента шпионить за её передвижениями. И всё впустую. Может быть, она просто его не любила?
Затем он был направлен в Европу, а неизменный успех предпринимаемых им шагов привел их в Штутгарт, Льеж, Анкону… Нормальная любящая женщина была бы счастлива находиться там вместе с ним, говорил он ей с горечью. Возможно, она тосковала по родине? Эта мысль время от времени помогала ему, спасая уязвленное самолюбие. И, получив дополнительный отпуск, он отвез её с трехлетним Николасом назад в Америку. Увы, именно там ему нанесли последний удар. Однажды она, с опущенной головой, с ввалившимися щеками, пришла в их арендованную квартиру в Нью-Йорке и сказала, что должна на время его покинуть. Постоянное напряжение их совместной жизни совершенно расшатало её нервы, ей нужно несколько месяцев побыть одной, прийти в себя.
Он похолодел. Испытывая непреодолимое желание грубо стиснуть её, он, отметая мольбы, предъявил ультиматум:
– Если уйдешь, обратно я тебя не приму. Или всё, или ничего!
В её темных глазах таилась вечно мучившая его загадка. Он до крови закусил губу и, не дождавшись ответа, продолжил:
– Ни денег, ни положения ты не получишь. Ребенка тоже – не тебе его воспитывать!
– Как будто сейчас у меня это есть, – грустно ответила она и медленно вышла из комнаты.
Здесь, в оконной нише этого испанского дома, обхватив голову руками, он всё еще видел ее стройную покачивающуюся фигуру в сером платье, ощущал тепло и аромат ее присутствия. Она ушла, вырвав себя с корнем из его жизни; по последним, косвенно дошедшим до него сведениям, она жила в женском пансионате в Нью-Йорке, работая – за гроши, как он полагал – в местном центре социальной помощи. Значит, так тому и быть. По крайней мере, у него было то, чего не было у нее – их сын. Отвергнутая ею любовь теперь полностью принадлежала Николасу. Он не отрицал, что обожает мальчика, и что всегда будет холить и лелеять его. Всегда!
Довольно долго просидел он так, склонившись, с лицом, искаженным злобной страстью и губами, искривленными в подобии усмешки. Внезапно его вырвал из задумчивости донесшийся с улицы смех. Подняв голову, он угрюмо смотрел, как за окном Хосе и его сын вместе тащат лейку вдоль садовой дорожки, смеясь шутке, забавлявшей, очевидно, их обоих.
Щека консула непроизвольно дернулась, словно ему нанесли еще одну пощечину. Резко встав, он подошел к двери и, сдерживая голос, позвал:
– Николас, иди сюда, мой мальчик. Быстро сюда!
Глава 4
Недели три спустя, поздним воскресным утром консул не спеша завтракал с сыном в залитой солнцем столовой. За окном весна, прелестная как невеста, уже разворачивала перед ними такой восхитительный день, что Николасу захотелось съесть свой тостик с медом на открытой веранде. Но отец, опасаясь коварства утреннего воздуха, укоризненно покачал головой и велел Гарсиа поставить маленький столик у окна. Отсюда мальчик мог видеть мелькание алых попугайчиков среди кустов мимозы и слышать отдаленный перезвон церковных колоколов.
– Папа… – Время от времени Николас поглядывал на консула, который в самом благостном расположении духа с удовольствием раскуривал кубинскую сигару, просматривая при этом «Echo de Paris» двухдневной давности – единственную газету, которую он считал достойной внимания. Раз в неделю он получал её по почте от своего друга Галеви. – Папа, мне так хочется пойти сегодня на пелоту!
Консул медленно опустил газету.
– На пелоту? – непонимающе переспросил он.
– Да, папа. – Мальчик покраснел, но, набравшись смелости, продолжил. – Это здешняя игра, похожая на гандбол. Очень быстрая и захватывающая. Все города Коста-Бравы входят в лигу. Сегодня Уэска – чемпион – встречается с Сан-Хорхе.
Харрингтон Брэнд с изумлением взирал на оживленное лицо сына. Постепенно черты его лица разгладились.
– Так, так! – снисходительно воскликнул он. – Значит, Гарсиа успел с тобой пообщаться. Что за вздор творится здесь, пока я в офисе! Ну и где же состоится этот знаменательный матч?
– В рекрео, папа. – Николас вздохнул, не решаясь признаться, что Гарсиа тут совершенно ни при чем. – В четыре часа. Давай сходим…
На подвижных губах консула промелькнула улыбка. Ему было приятно, что его дорогое дитя само ищет его общества.
– Что ж, – покладисто ответил он. – Выпей микстуру, допиши сочинение на испанском, отдохни часок после обеда… А там посмотрим.
– Спасибо! Спасибо, папа! – радостно запрыгал Николас.
Они выехали из дому в половине четвертого – веселый и оживленный Николас и не скрывающий снисходительно добродушия мистер Брэнд, В спорте консул не разбирался. Однажды в Анконе он вбросил первый мяч в бейсбольном матче между командами, набранными из находившихся там моряков американских военно-морских сил; пару лет спустя в Нокке он вручал награды победителям местной регаты. Сейчас же он, как ни странно, присоединился к ожиданиям сына.
Оставив машину на площади, они по хитросплетению узких улочек на задах рынка вышли к рекрео, расположенному в нижней части города, что вызвало у мистера Брэнда нехорошее предчувствие. Рекрео оказалось невзрачной бетонной площадкой, огороженной штакетником, на котором красовались афиши местного театра и объявления о предстоящей апрельской корриде в Барселоне. Тем не менее, консул охотно прошел вслед за Николасом в первый ряд трибун, заставленных простыми скамейками без спинок. Прямо перед ними человек в одной рубашке без пиджака, макая кисть в ведерко с краской, освежал красные линии игрового поля.
Они пришли рано. Только на верхнем ярусе несколько парней, задрав ноги на скамейки, курили, хрустели сушеной саранчой, громко шутили и спорили в удручающе вульгарной манере. То и дело прибывали новые зрители, в основном молодые мужчины и подростки, занимали места в задних рядах и включались в общий разговор. Консул подумал было, что их места, по крайней мере, позволяют находиться в отдалении от этих хамов с руками в карманах. Но, увы, не успели портовые часы пробить четыре, как трибуна заполнилась шумной толпой настоящих болельщиков, локтями пролагающих себе путь к свободным местам. В одно мгновение все скамейки были заняты, и даже проходы заполнились сидящими на корточках людьми. Плотный коротышка в поношенном черном сомбреро и темном блестящем костюме, держа в одной руке половину луковицы, а в другой кусок хлеба, втиснулся рядом с консулом, дружелюбно оскалившись, наточил о сапог складной нож и начал шумно есть. Над всей ареной зазвучали короткие свистки, сопровождающиеся медленным ритмичным топотом ног и криками «Оле… Оле… Оле!»
– Скоро начнется, папа! Объяснить тебе правила игры? – подавшись вперед, Николас с увлечением указал на противоположный конец корта. – Видишь эти две стены? Они расположены точно одна против другой на расстоянии шестидесяти метров. Одна называется frontis, вторая pareo de rebote. Красными линиями на них очерчены места, куда должен ударять мяч. И то же самое означает красная линия на корте – она называется concha. Если мяч выскочит за эти линии – это ошибка, и противнику засчитывается очко.
Мальчик тараторил, не умолкая, под удивленно застывшим взглядом консула.
– С каждой стороны по два игрока: нападающий и защитник. Игроки Уэски в синих футболках, Сан-Хорхе – в белых. Пелота – это мяч – сделан из натурального каучука, обшит тканью и обтянут кожей; его бросают с помощью сесты. Игра быстрая, просто до жути быстрая…
Его рассказ был внезапно прерван слаженным криком зрителей, когда, перепрыгнув через ограждение на противоположной стороне бетонного прямоугольника, на корт вышли четверо игроков в футболках и белых полотняных брюках; к правой руке каждого была прикреплена с помощью перчатки легкая плетеная корзинка. Спортсмены начали разминаться, бросая мяч об стенки, и консул ощутил, как напрягся Николас.
– Ну вот, папа, теперь ты видишь, почему мы здесь. Ты не ожидал этого, правда? Ведь это же здорово?
Сначала Брэнд не понял, но, проследив за горящим взглядом мальчика, он увидел, что тот, не отрываясь, смотрит на младшего из двух игроков Сан-Хорхе, чья высокая гибкая фигура с изящной легкостью перемещалась по корту. Это был Хосе.
Консул вздрогнул, переменился в лице и застыл, как громом пораженный. Всё вдруг встало на свои места: стремление мальчика попасть на этот матч, его доскональное знание игры, его невообразимый и, тем не менее, очевидный сговор с молодым садовником.
– Папа, смотри, смотри! – крикнул Николас. – Скоро начнется! Хосе увидел нас. Он мне только что помахал!
На корте нападающий Уэски уже занял свое место на отметке; во внезапно наступившей тишине он ударил мяч о землю, а затем резко метнул его в стену. Харрингтон Брэнд тупо следил за мячом, с невероятной скоростью летающим взад и вперед. Боль и мешающее дышать стеснение в груди, еще более усиливало ощущение подавленности. Не будь они так стиснуты толпой, он бы встал и увел сына из этого отвратительного места. Вместо этого, сознавая, что только усугубит свои страдания, консул искоса посмотрел на мальчика – а тот, сидя на самом краешке скамьи и совсем не замечая неудобства, был весь поглощен ходом состязания. С горящими глазами и полуоткрытым ртом, сжимая и разжимая кулачки, он раскачивался и замирал в такт со всеми, одобрительно или испуганно вскрикивая вполголоса; время от времени, набравшись смелости, его голос взмывал к самым высоким частотам, вплетаясь в нарастающий рев толпы:
– Оле. Оле! Вперед, Сан-Хорхе! Отлично… Классный удар, Хосе, амиго!
Харрингтон Брэнд заставил себя отвести взгляд и снова уставился на корт. Там уже разогревшиеся игроки перешли к обмену дальними ударами и яростно гвоздили мячиком стенку с любой позиции. С невероятным проворством ловили они мяч и мгновенно отбивали, пулей направляя его в разметку на стене. Брэнд заметил, что силы сторон равны – цифры на табло показывали ничейный счет 19:19.
Оба игрока Уэски были молоды и очень ловки. В отличие от них невысокий смуглый защитник Сан-Хорхе был не первой молодости; коротко стриженный и кривоногий, он демонстрировал опыт и расчетливую игру, но недостаток скорости не позволял ему держать под контролем весь свой участок корта. Таким образом, его напарнику приходилось работать за двоих, и, с неприязнью наблюдая за точными движениями Хосе и его виртуозной работой с мячом, консул не мог не признать, что юноша намного превосходит остальных игроков на корте. И консул тут же мысленно пожелал команде Сан-Хорхе проиграть.
Сохраняя на лице привычно-бесстрастное выражение, Харрингтон Брэнд стал пристально следить за каждым броском, каждым поворотом игры. Счет был уже 35:32 в пользу пары из Уэски, которая мастерски наносила удар за ударом над головами команды Сан-Хорхе. Эти непрерывные атаки, а также груз прожитых лет заметно сказывались на старшем из игроков, и Брэнд злобно усмехнулся про себя, услышав крики местных болельщиков, осыпающих градом проклятий его седины.
– Оле… Оле… Шевелись, Хайме! Беги, старая кляча! Давай, Хосе, амиго, спаси нас от позора, ради бога!
И словно вняв их просьбам, Хосе, казалось, был вездесущ на корте – скользил, вытягивался, наносил удары; всё это время, несмотря на участившееся дыхание и обильный пот, с его лица не сходила улыбка. Но все его усилия разбивались о самоотверженное сопротивление парней из Уэски, их лидерство неизменно сохранялось, счет вырос до 48:46.
Публика не умолкала ни на секунду – она ревела, жестикулировала, умоляла и проклинала игроков с истинно латинским напором. И маленький Николас, бледный от возбуждения, неистовствовал вместе со всеми.
– Вперед, Сан-Хорхе! Вперед, Хосе! Даешь победу!!!
Тут форвард Уэски сделал обманный укороченный бросок, и совершенно вымотанный Хайме не успел его отбить. Он в отчаянии вскинул руки, и над трибунами раздался стон болельщиков Сан-Хорхе. Команде Уэски не хватало до победы всего одного очка.
Казалось, исход матча предрешен, как вдруг капитан Уэски, подпрыгнув, поскользнулся на бетоне и упустил мяч. Сразу же встав, целый и невредимый, он уверенно помахал своим болельщикам. Но, едва вернувшись в игру, был награжден пушечным ударом Хосе. Публика ахнула. Счет стал 49:48.
Переполненный стадион замер. Хосе подошел к центральной отметке. Розыгрыш мяча начался в полной тишине и длился невыносимо долго, нагнетая атмосферу азарта и неизвестности. Уэска играла сдержанно, рассчитывая на ошибку противника, но и противник, ощущая бремя лежащей на нем ответственности, также старался не рисковать. Монотонный обмен ударами был прерван маневром Хосе, который, внезапно нарушив ритм, сделал длинную передачу, послав мяч под углом между игроками Уэски. Счет сравнялся 49:49.
Публика затаила дыхание. Все вскочили и подались вперед, наблюдая за полетом мяча. Очертя голову, команда Уэски ринулась в последнюю атаку, осыпая Хосе сокрушительными ударами с лёту. Тот же, будто в него бес вселился, доставал и отбивал их как автомат. И вот в его сторону последовал пушечный удар, отбить который было явно невозможно. Парень рванулся изо всех сил, высоко-высоко взлетев над площадкой, и врезал по мячу так, что поставил победную точку в игре.
Единый протяжный выдох вознесся к небесам, и началось что-то невообразимое. Мужчины бросали в воздух шляпы, плакали, смеялись, обнимались, исступленно орали, как одержимые.
Николас с горящими глазами стоял на скамейке, не переставая размахивать руками, и дико кричал:
– Ура! Ура! Я знал, что он сможет! Я знал! Я знал! Ура!
Когда уставшие игроки вяло побрели с корта, толпа, перемахнув через ограду, налетела на них пчелиным роем. В одно мгновенье Хосе был окружен, его обнимали, целовали, хлопали по спине, а, когда он взмолился о пощаде, подняли его на плечи, вызволив из толчеи.
– Папа, – выдохнул Николас, слезая наконец со скамьи. – Правда, здорово? Я так рад, что ты привез меня сюда.
Консул натянуто улыбнулся. Кульминация игры и последовавший за ней ажиотаж повергли его в состояние глубочайшей подавленности. Но он ни за что не позволил бы этой странной необъяснимой горечи, разъедавшей его грудь, вырваться наружу. Он взял сына за руку и сквозь поредевшую толпу повел в сторону площади.
– Это наша победа! – не умолкал Николас по пути к машине. – Ведь Хосе работает у нас. А это он выиграл игру.
Не отвечая, Харрингтон Брэнд резко повернул ключ автоматического стартера. Он вел машину, глядя прямо перед собой, а мальчик украдкой поглядывая на него, думал, чем он мог непреднамеренно рассердить отца.
– Что-нибудь не так? – спросил он наконец.
Последовала ощутимая пауза.
– Нет, Николас, всё в порядке, не считая того, что у меня ужасно болит голова. Видишь ли, я не привык, чтобы всякая шушера стискивала меня, толкала локтями, пинала, и всё это ради какой-то дурацкой игры.
– Папа… – сбитый с толку Николас хотел было возразить, но взглянув на застывший профиль отца, умолк.
Это молчание продолжалось и во время обеда, который был накрыт к их возвращению, – одно из тех ледяных и отчужденных молчаний, периодически навязываемых консулом, когда он, казалось, полностью уходил в себя и смотрел сквозь людей и предметы с видом оскорбленного бога, для которого существует только неземное и вечное.
– Можно мне пойти к себе, папа? – тихо спросил Николас, допив молоко.
– Как хочешь.
Медленно и печально поднимался мальчик по широким деревянным ступеням. Радость этого дня с его восторгом и новизной, оттенками и блеском угасли в нем. Ни Хосе, ни игра больше не занимали его – он мог думать только о суровом, страдающем лице отца. Привыкший к совместному вечернему ритуалу, он почувствовал себя отвергнутым и поспешил укрыться в просторной темной спальне. Вяло раздевшись и умывшись, он натянул ночную рубашку. Потом обернулся и увидел в дверях консула.
– Ой, папа! – облегченно выдохнул он. – Я уж думал, ты не придешь.
– Я не забываю о своих обязанностях, Николас, – серьезно ответил консул.
– Папа, прости меня, если я виноват… – мальчик с трудом сдерживал слезы. – Только… только я не знаю, что я сделал…
– Приготовься к молитве, – консул занял своё обычное место и обнял его за плечи. – Ты растешь, Николас, – тихо сказал консул. – Ты должен сознавать, сколь трудна и тягостна моя жизнь. Ты знаешь, какое бремя я несу с тех пор… с тех пор, как твоя мать нас покинула. В последнее время из-за литературных трудов у меня усилилась бессонница, ночи превратились в кошмар. Бывают дни, когда я так измучен и истощен, что не могу сосредоточиться на работе. И, тем не менее… – консул приподнял сведенные брови, – несмотря ни на что, я полностью посвятил себя тебе.
Мальчик опустил голову. На его мягких ресницах, как хрустальные капельки росы, появились слезы.
– Да, Николас, я стал тебе не только отцом, но и другом, и учителем, и нянькой. Не скрою, эта преданная служба приносит мне большое счастье и радость… Она как бальзам для моей измученной души. Это, мой родной, – бескорыстный труд. Но даже самая бескорыстная любовь рассчитывает на ответное чувство. Именно поэтому сегодня мое сердце разбито от мысли, что я тебе безразличен.
– Нет, папа, нет! – крикнул Николас, обретя наконец дар речи. – Это неправда! Как ты мог так подумать?!
Искаженное страданием лицо задрожало.
– Иногда достаточно какой-то мелочи, дитя мое. Небрежное слово… взгляд… случайный жест…
– Нет, нет, – Николас почти кричал. – Я люблю тебя, люблю! Мама поступила с тобой отвратительно. Но я никогда тебя не брошу. Мы всегда будем вместе. – Истерически всхлипывая, дрожа всем телом, он поднялся с колен и бросился отцу на шею.
– Мой, мой мальчик, – пробормотал консул, крепко прижимая к себе эту легкую живую ношу. Он ощутил трепещущее, подобно птице, детское сердце, чье проникающее тепло растопило боль в его груди, и со вздохом закрыл глаза.
Наконец, мягко отстранившись, он с ласковой улыбкой произнес:
– А теперь помолись, дитя мое, и я тебе почитаю.

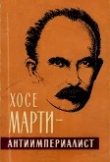

![Книга Кармен [переизданно в 2011 году] автора Проспер Мериме](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-karmen-pereizdanno-v-2011-godu-147561.jpg)