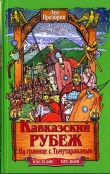Текст книги "Откуда есть пошла Русская земля - Века VI-X (Книга 2)"
Автор книги: Аполлон Кузьмин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Другой летописец считал, что русь – это варяги, которые пришли в середине IX века к северо-западным славянским и чудским (угро-финским) племенам и установили господство над ними, а затем спустились вниз по Днепру и обосновались в Киеве, сделав его "матерью городов русских". Судя по "Слову о полку Игореве" и позднейшим славянским хроникам, были и иные версии происхождения Руси и начала Русского государства, по крайней мере, происхождения династии. Но две названные оставались главными, повлиявшими и на позднейшую историографию.
Норманистская концепция зародилась в годы бироновщины (30-е годы XVIII века), когда правящей группировке важно было историческими примерами подкрепить и оправдать свою заведомо антинародную и антигосударственную деятельность. Это была эпоха повсеместного торжества абсолютизма, эпоха, когда верили, что от главы целиком зависит благосостояние государства и подданных, а любой произвол монарха оправдывался его якобы обязательно благими намерениями. Это была эпоха, когда на раздавленный аппаратом угнетения народ смотрели как на "не способный" на какую-либо самодеятельность. А начавшееся с развитием буржуазных отношений формирование наций заключениям о "способности" и "неспособности" придавало и этнический характер: одни народы более "способны", другие – менее. Славяне попадали в число последних, германцы, у которых пробуждение национального сознания началось несколько ранее, – в разряд первых.
Откровенная тенденциозность создателей норманской теории 3. Байера и Г. Миллера вызвала резкую отповедь М. В. Ломоносова, доказывавшего, что варяги-русь – выходцы с южного и восточного берегов Балтики, принадлежавшие к славянскому языку. Если учесть, что такое представление было распространено в источниках XV – начала XVIII века, причем не только славянских, то говорить о Ломоносове как о родоначальнике антинорманизма можно лишь условно: по существу, он восстанавливал то, что ранее уже было известно, лишь заостряя факты, либо обойденные, либо произвольно интерпретированные создателями норманно-германской концепции. Спор в это время довольно четко выявлял и позиции: немецкая часть Академии наук и бюрократии держалась норманизма, русские ученые и кое-кто из придворных антинорманизма.
В XIX веке картина станет более сложной. Против норманизма выступит немец Г. Эверс, а одним из столпов норманизма станет выходец из крепостного сословия М. П. Погодин (18001875). Правда, его эмоциональные восклицания в защиту норманизма слишком слабо подкреплялись конкретным материалом. Од вообще считал, что "главное, существенное в этом происшествии, относительно к происхождению Русского государства, есть не Новгород, а лицо Рюрика, как родоначальника династии". "Младенец Рюриков, Игорь, – поясняет эту мысль Погодин, – с его дружиною есть единственный ингредиент в составлении государства, тонкая нить, которою она соединяется с последующими происшествиями. Все прочее перешло, не оставив следа. Если бы не было Игоря, то об этом северном новгородском эпизоде почти не пришлось бы, может быть, говорить в русской истории или только мимоходом". Иными словами, норманское участие в сложении государства сводится у Погодина к происхождению государя.
В наше время многие из тех, кто отводит норманнам куда большую роль, кто признает норманской не только династию, но и дружину и вообще социальную верхушку, не считают себя норманистами. Это произошло потому, что вопрос о составе социальной верхушки стал отодвигаться как несущественный, а внимание сосредоточилось на отыскании элементов социального неравенства, которое должно вести к образованию классов и государства.
Спор норманистов и антинорманистов действительно не может теперь восприниматься так, как это было в прошлом столетии. Возможности князя с дружиной вовсе не были столь беспредельными, как это казалось дворянско-буржуазным историкам и социологам. Внутренние законы развития общества в конечном счете преодолевают внешнее воздействие. Но только в конечном счете. А живущее поколение может и не дождаться торжества исторической закономерности, потому что на пути ее встанет какая-то извне появившаяся сила. Татаро-монгольское иго оказалось петлей, накинутой извне. А оно не только на много столетий задержало естественное развитие народа, но и деформировало весь процесс. Как заметили Маркс и Энгельс, в эпоху феодализма "достаточно простых случайностей, вроде вторжений варварских народов или даже обыкновенных войн, чтобы довести какую-нибудь страну с развитыми производительными силами и потребностями до необходимости начинать все сначала" (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.) т. 3, с. 54).
В старой норманистской литературе обычно подчеркивался благодетельный характер норманского завоевания или просто утверждения норманнов на верху социальной лестницы. Но в отдельных работах и публицистических сочинениях просматривалось и чисто расистское упоение превосходством силы.
Антинорманисты обычно указывали на отсутствие германизмов в языке, языческих культах, вообще в культуре. Нынешние неонорманисты часто этим аргументам противопоставляют указания на то, что норманны и всюду в Европе не оставили никакого следа. Только это утверждение неверно. Норманны всюду оставили след, и след кровавый, разрушительный. Правильным было бы сказать, что они нигде не играли созидательной роли. А такой вывод будет полезен для сопоставления с тем, что происходило в Восточной Европе. Он, во всяком случае, должен учитываться нынешними приверженцами идеи "норманно-славянского синтеза", пытающимися представить дело таким образом, будто известные всей Европе кровожадные разбойники сразу "размякли", как только увидели созревших для получения государственности славян.
В предисловии и в приложении к первой книге приведен материал об этнической природе руси и ее взаимоотношениях со славянами в разных районах, главным образом в Подунавье. Ниже, в приложении, будут воспроизведены данные источников о руси и варягах IX-XI веков. Здесь же целесообразно остановиться на формах организации главных "действующих лиц" процесса складывания обширного государства на территории Восточной Европы.
Необходимо подчеркнуть, что норманскую теорию нельзя опровергнуть общими соображениями. Исходя из теоретических положений, можно лишь отвергнуть рассуждения о "способных" и "неспособных" к чему-либо народах. А эти рассуждения, вытекая из норманистской концепции, вовсе для нее не обязательны. Не имеет особого значения и спор о роли пришельцев. Если это норманны, то, по аналогии с Западной Европой, ее следовало бы оценить как отрицательную. Но и такая оценка не подрывала бы норманизма. Иными словами, норманизм опирается на самые различные методологические посылки, причем все, принимающие фактическую аргументацию норманистов, неизбежно являются ее приверженцами, как бы далеко они ни расходились в оценке роли и влияния норманнов в Восточной Европе.
Некоторое время назад решающим доводом против норманизма служило убеждение, что все народы из века в век развиваются примерно на одной и той же территории. Теперь этот аргумент помогает скорее норманизму, так как факт многочисленных переселений и перемещений народов очевиден. В Европе не найти ни одной страны, народ которой не включал бы в свой состав выходцев из доброго десятка языков и племен. И в Восточной Европе следует учитывать, когда и с чем пришли сюда те или иные племена и народности. Это, кстати, прояснит, что привнесли германцы, если они что-то привнесли.
О форме организации славянских племен, точнее, племенных союзов в VI – IX веках выше говорилось. По существу, это стройная, созданная снизу, прежде всего в хозяйственно-экономических целях система, в которой высший слой еще не отделился от низовых звеньев. Мы сейчас несколько искусственно заостряем вопрос на том, можно ли эту весьма устойчивую систему назвать государством, или же следует ограничиться более осторожным определением. А говорить стоило бы о возможных альтернативных государственных формах и их эффективности в данных условиях. И в этом плане интересны представления о задачах высшей власти, свойственные людям той давней эпохи.
У автора "Повести временных лет" на первом месте – понятие "земля". "Русская земля". "Деревская земля", позднее также "Новгородская" и "Суздальская земля". Не род, не племя и не князь. Само понятие "племени" в этом случае предполагает тоже не кровнородственное, а территориально-историческое значение, то есть имеет в виду не кровных родственников, а людей, объединенных общей территориальной организацией. В заслугу Владимиру летописец ставит то, что он вместе со старейшинами радел "о строе земленем, и о ратех, и о уставе земленем". В гриднице Владимира шли пиры, на которые свободно могли приходить "бояре и гриди, и соцкие, и десяцкие, и нарочитые мужи, при князе и без князя". Здесь, правда, уже нет простонародья, но представители народа еще есть, и князь заинтересован в привлечении их на свою сторону.
Древний киевский летописец поставил и вопрос о начале княжеской власти в Киеве. Но принципиальное значение придавалось ему лишь потому, что кто-то оспаривал княжеское достоинство Кия и его преемников, как княжеское же достоинство и правителей отдельных земель. Очевидно, сам летописец ставил выше власть, идущую от земли, по сравнению с той, которая ложится на землю извне, будь она "своя" или "чужая".
В сказании о призвании варягов, возникшем явно позднее, над "землями" возвышается внешняя и извне пришедшая власть. По летописи, потребность в ней возникла потому, что, освободившись от варяжской дани, племена словен, кривичей, веси, чуди и мери утонули в усобицах. Поэтому они договорились пригласить в качестве третейского судьи князя извне, "иже бы володел нами и судил по праву".
Достаточно взглянуть па карту, и станет ясно, что экономических потребностей в объединении обширнейшей территории союзов племен не было ни в IX веке, ни много позднее. Соединение разноязычных территорий могла осуществить только именно внешняя власть. Развитие частной собственности вносило противоречия в племенную организацию, но сломать ее она не могла. Эту организацию не сломает и внешняя власть, хотя она и будет к этому стремиться. Именно на этой российской территории вплоть до XIX века сохранится обычное право, противостоящее государственному законодательству. Это обстоятельство обыграл А. Н. Островский в драме "Горячее сердце": градоначальник обращается к купцам с вопросом, судить ли их "по закону, или по совести", пугая пухлыми томами Полного собрания российских законов. Купцы апеллируют к "совести" не только потому, что "законов у нас много", но и потому, что законы редко считались с действительностью. Общество откупалось от внешней власти взятками, но внутри его продолжали действовать законы, которые нельзя было обойти: законы традиции.
В сказании о призвании появляется и идея "права" на княжение единственного рода. Насаждалась эта идея Мономаховичами, отстоявшими от родоначальника династии Игоря на целых семь поколений. И похоже, что, кроме них, никто и не вел себя от Рюрика. Во всяком случае, в "Слове о полку Игореве" легендарным родоначальником русских князей признается Троян, а главный герой – Игорь Святославич – назван его "внуком", то есть потомком.
Необходимо иметь в виду, что и слово "владение" под пером летописца означало нечто иное, нежели позднейшее феодальное или княжеское владение. В славянском языке не случайно (так же, как в кельтском) одним словом обозначалась и земля, и управление на пей: власть (волость). "Владение" в этом смысле не означало ни господства, ни собственности. Это была форма почетной и доходной, по все-таки обязанности. На практике, конечно, владельцы стремились стать и господами и собственниками. Тем не менее княжеский удел никогда не сливался с государственным владением. Да и в рамках домена собственность князя ограничивалась. Не случайно, что, когда в середине XIX века в канун крестьянской реформы возник вопрос, кому принадлежит земля, ясного ответа на него никто не мог дать.
Как было сказано, экономически целесообразная земская власть не могла простираться на обширные территории. Возвыситься над ними могла лишь власть, так или иначе внешняя. Таковая, естественно, пользовалась противоречиями между отдельными землями-княжениями и, конечно, не забывала напомнить о своих заслугах в поддержании "порядка", а также в организации обороны или же походов па внешнего врага. На юге таким племенем-объединителем оказались поляне-русь.
Дунайские воспоминания древнейшего киевского летописца относятся к эпохе великого переселения. Но восстановить ход событий с VI по IX век в Поднепровье в настоящее время не представляется возможным. Можно лишь предполагать, что здесь сосуществовали еще не слившиеся собственно славянские и русские племена вместе с остатками какого-то иного местного и пришлого населения. Кое-что летописец прояснил, сам того не подозревая. Ему очень хотелось приподнять достоинство полян, обосновать их право на первенство в славянских княжениях, а показал он то, что поляне сохраняли еще черты, характерные для многих племен эпохи переселений.
Существеннейшие отличия от остальных славян поляне сохранили в двух наиболее стойких традиционных сферах: в формах семьи и в погребальном обряде. У всех славян было трупосожжение. Поляне выделялись трупоположениями, и это сообщение летописца подтверждается археологическим материалом. У славян при сохранении многоженства преобладала малая семья. И это тоже подтверждается археологическими данными: размеры полуземлянок (10-20 квадратных метров) могли вместить только малую семью. "Большие дома" черняховской культуры (II-IV вв.) обычно достигали сотни и более квадратных метров. Летописец особое значение придавал форме брака, отметив, что у славян вообще "брака не было", а было умыкание во время игрищ между селами по договоренности с невестой ("с нею же кто совещашеся"). Браком в данном случае обозначается своеобразная коммерческая сделка, покупка жены. У полян сохранилась даже такая специфическая особенность, распространенная у племен эпохи великого переселения, как "утренний дар" жениха молодой супруге после первой брачной ночи.
Летописец специально остановился на том, что молодежь древлян и других славянских племен не почитает старших, родителей. Сами молодые решают и устраивают свои семейные дела. Такое положение естественно, когда основной ячейкой является малая семья, а община строится по территориальному, а не кровнородственному принципу. У полян положение другое. Здесь молодежь в подчинении у старших, которые заключают и браки, причем молодую обязательно приводят в дом родителей жениха. "Большая семья" – обычно наследие кровнородственной общины. Судя по данным, относящимся к Центральной Европе, руги-русы всюду долго сохраняли ту форму общежития, которая была ранее характерна для готов, лангобардов и некоторых других племен. За основу здесь принималась не земля, не территория, а родственная группа, которая легко могла сменить место проживания. Но поскольку группы эти были сравнительно малочисленными, они так или иначе должны были включаться в местную территориальную структуру. Киевский летописец, прославляя полян, уже и не замечает, что "большая семья" менее гармонирует с территориальным принципом организации общества, нежели семья "малая".
Как отмечалось ранее, руги-русы обычно всюду отличались известными претензиями на особое положение, кичились древностью рода, знатностью происхождения. С какими-то притязаниями выступал и "род русский" в Поднепровье. Но суть их летописец нам не разъяснил, да он и не отделял русь от славян по языку и происхождению.
Киевский летописец, как было сказано, не слишком жаловал княжескую власть. Для него она была лишь вершиной земского устроения, а о ее наследственном характере он говорит лишь потому, что кто-то оспаривал права местной киевской династии. Вообще это очень существенно, что киевские князья не могут даже и похвалиться древностью своего рода: не перед кем. Может быть, сказывается и другое: в VIII-IX веках по днепровские племена, по летописи, платили хазарам дань, а освобождение от этой дани пришло извне, со стороны варягов-руси. Между тем в Западной Европе, где титулованию придавалось особенно большое значение, русские князья неизменно называются "королями", тогда как, скажем, польские князья лишь "герцогами". Адам Бременский и Гельмольд специально отмечают, что у западных славян "королей" имеют только руяне (русы) с острова Рюген. Королевское достоинство всех русских князей уходит, следовательно, в уже забытую древность, видимо, в ту пору, когда дунайские руги получили статут федеративного по отношению к Риму королевства.
По договорам 911 и 945 годов видно, что главными занятиями "рода русского" были война и торговля. В договоре Игоря названо 25 послов от княжеской семьи и бояр, причем от каждого индивидуально, и еще 26 послов-купцов, представляющих, видимо, остальных русов – торговцев и ремесленников. Многочисленное посольство в данном случае свидетельствует о противоречиях в корпорации, претендующей на первенствующее положение, о слабости самой княжеской власти, а также о господстве в рамках корпорации частной собственности. В сущности, у этого рода не было никакой общей собственности, если не считать притязаний на обладание славянскими землями по пути "из варяг в греки", что в Х веке означало сбор дани и замену в некоторых случаях местных княжеских династий сыновьями киевского князя.
"Род русский", известный по договорам, в большинстве, видимо, состоял из пришельцев с севера, хотя в числе дружинников и купцов было много носителей имен, характерных для Иллирии и Подунавья, а в княжеской династии преобладали славянские имена. Но пришельцы с севера вопреки мнению норманистов не только сами не были шведами, но даже и в состав дружины их еще практически не включали. Ведь даже после принятия христианства, до конца XI века, у шведов господствовало многоженство, тогда как у полян-руси была моногамия. Не было у шведов и наследственной королевской власти. Иван Грозный даже в XVI веке упрекал шведского правителя Юхана III в том, что он некоролевского рода и что в Швеции вообще никогда не было королей, а потому якобы и не могла шведская сторона претендовать на равный с московским царем дипломатический этикет.
Разумеется, из того, что шведские конунги вплоть до XIV века избирались племенными собраниями, никак не может следовать вывод, подобный тому, что сделал Иван Грозный. Как раз такая система признак не "отсталости", а целесообразности. Она эффективна практически во все времена. Именно такая система помогла Скандинавии очиститься от викингов и избежать крепостного права. Но это явно не та система, что характеризовала русов на любой занимаемой ими территории.
С точки зрения хозяйственных потребностей, привесок в виде "рода русского" был совершенно излишним, паразитарным на органичном теле славянских княжений. Тем не менее объединение оказалось достаточно прочным. И объясняется это тем, что взяли на себя русы столь важную вообще в эпоху становления государственности и особенно важную на границе степи и лесостепи внешнюю функцию. Показательно, что дань с племен нигде не превышала той, что ранее платили хазарам, в ряде случаев она вообще была номинальной, а обязанность защиты подвластных племен князь и дружина на себя все-таки принимали. Естественно, не обходилось и без конфликтов. По вине Игоря из Поднепровья ушли племена уличей, сам князь пал жертвой собственной жадности в результате восстания древлян. Каждому очередному князю приходилось заново подчинять ранее вроде бы покоренные племена. И именно в ходе этой борьбы в конечном счете определялась форма взаимодействия "земли" и извне пришедшей высшей власти. Существование такой власти признавалось и оправдывалось лишь постольку, поскольку сама власть оказывалась способной поддерживать соответствующее представление о ней. Рассказывая о больших походах Олега, Святослава, летописец не забывает отметить, что добыча делилась между всеми землями, поставившими войско для походов.
Необходимо иметь в виду, что неизбежные конфликты между "родом русским" и собственно славянским населением, по крайней мере, в Х веке не несли межэтнического антагонизма. Русы ощущали себя аристократическим, но славянским же родом. Не случайно, что славянские имена-титулы распространяются прежде всего в княжеской семье, а договоры писались на славянском языке (предположительно с помощью глаголического, "русского" письма). Естественно, что шло и обычное в таких случаях "размывание" рода в результате брачных контактов, включения в его состав иноплеменных дружинников и, главным образом, за счет стирания различий в культурной сфере, прежде всего в верованиях. Но при этом киевские русы все-таки не забывали о своих сородичах где-то в Подунавье, в Центральной Европе, может быть, и в Прибалтике. О такого рода контактах можно судить, в частности, по приложению, приведенному в первой книге. Правда, и во всех других районах, где оседали группы ругов-русов, преобладала славянская речь, и центральноевропейские рутены также обычно рассматриваются в источниках как особая ветвь славян.
В традиционном норманизме этнонимы "русь" и "варяги" воспринимались как равнозначные, а потому скандинавское происхождение варягов доказывалось обычно материалами, относящимися к руси. Большинство советских ученых считает русь южным, причерноморским (хотя и неславянским) племенем, варягов же в согласии с норманистами признает за шведов. Между тем, если о неславянстве русов говорят многие источники, то в отношении варягов IX-Х веков таких материалов вообще нет. Норманизм держится на том, что послы от "кагана росов" в Германии в 839 году вроде бы оказались "свеонами", что в 844 году на Севилью напали русы, пришедшие откуда-то с севера, что Константин Багрянородный в середине Х века называет днепровские пороги славянскими и "русскими" именами, что хронист Лиутпранд в Х веке отождествляет "русов" с нордманнами и что сами имена "рода русского" в договорах – неславянские. Но ведь это все именно русы, а не варяги. Варяги же могут рассматриваться в этом контексте лишь в той мере, в какой они русы, в какой оправданно их отождествление.
Ниже в приложении о варягах еще будет речь. Здесь же попробуем рассмотреть, какую форму социально-политической организации они с собой несли.
Совершенно очевидно, что именем "варяги" в разных случаях покрываются разные этносы. "Варяги-русь" – это, по всей вероятности, действительно русы – русы балтийские, родственные дунайским, поднепровским и прочим. Так могли называть и обитателей Рюгена, и группы русов-ругов, рассеянных по восточному побережью Балтики. Может быть, особое внимание должна привлечь Роталия (Западная Эстония), поскольку в русском именослове много имен явно чудского, эстонского происхождения, а такие имена, как "Игорь", "Игельд", "Иггивлад", могут прямо сопоставляться с "иговским языком", особо выделяемым Курбским еще в XVI столетии на территории Эстонии. Эстония зажимает особое место и во всех сагах, где речь заходит о Руси, в частности в сагах об Олафе Трюггвасоне.
Вместе с тем киевский летописец имеет в виду нечто иное, когда говорит о варягах. В самом раннем упоминании варягов – именно свидетельстве летописца времени Владимира – они живут на восток от чуди (эстов) до "предела Симова", под которым разумелась Волжская Болгария. Это были как раз те земли, на которых утвердились варяги, пришедшие с Рюриком. Самих новгородцев и южные и северные летописцы выводили "от рода варяжска". Западные пределы расселения варягов киевский летописец ограничивает, с одной стороны, польским Поморьем (Поморье принадлежало Польше в конце Х века) и с другой – территорией Дании, называемой в Повести временных лет "землей агнян", то есть англов – германского племени, занимавшего южную часть Ютландского полуострова. Соседями англов на южном берегу Балтики были "варины", "вары", "ваары", "вагры" – племя, принадлежавшее к вандальской группе и к IX веку ославянившееся. В генеалогии саксонского рода Веттинов, составленной в XIII веке, в связи с событиями конца Х – начала XI века упоминаются два маркграфа, управлявших "маркой Верингов". Так называлась именно область обитания варинов.
Тождество "варягов" с "варинами" с языковой точки зрения очевидно. У этнонимов один и тот же корень, а различия в этнообразующих суффиксах обычны для всей этой территории; в кельто-романских языках этноним должен звучать как "варины", в германских – "вэринги", у балтийских славян "варанги", у восточных – "варяги". Достаточно очевидно и значение этнонима. В немецкой литературе давно принята этимология племенного названия "варины" от старого индоевропейского "вар" – море, вода. В сущности, это одно из основных обозначений воды в индоевропейских языках, вариантами которого являются также "мар" или "нар" ("варангов" – варягов в Византии иногда звали также "марангами"). И только заведомо тенденциозное желание перенести "вэрингов" в Скандинавию побуждало искать для них какую-то иную этимологию.
Варяги, следовательно, – это просто поморяне. Поэтому название это всегда распространялось на разные морские народы, и только на морские.
Каждой эпохе свойственно смотреть на предшествующие свысока. Сколько раз летописцам приходилось подвергаться критике и поучениям со стороны не слишком благодарных потомков! Почему это варяги, построив новый город, называют его "Новгород"? Почему они дают название "Белоозеро" городу, воздвигнутому на территории, куда еще и славяне-то не проникали? Почему Изборск, Плесков-Псков – и ни одного "хольма", "бурга", "штадта"? А во времена, когда писал летописец, просто еще и не было этой проблемы. Он рассказал, что приходили варяги "из-за моря", а язык их был понятен и киевлянам. В XVIII веке летописца начнут журить за наивность и простоту. И XVIII век покажет, что даже не слишком многочисленного иноземного слоя в высших эшелонах власти достаточно, чтобы на тех же территориях место "градов" заняли "бурги".
Сейчас главным прибежищем норманизма является археология. Но и интерпретация археологических данных оказывается подчас полярной. Известный ленинградский археолог Г. С. Лебедев в ряде работ готов был увязать с норманнами чуть ли не все погребения киевской знати Х века. А в другой работе он признает, что к скандинавским может быть отнесено лишь одно погребение из 146. Почему-то до сих пор многие археологи просто закрывают глаза на известные археологические же факты. Так, по всему северу Руси распространена специфическая фельдбергерская керамика, характерная для балтийских славян VIII – Х веков. На посаде города Пскова она составляет в соответствующих слоях свыше 80 процентов. Много ее в Новгороде и других городах, доходит она до Верхней Волги и Гнездова на Днепре, то есть до тех областей, где киевский летописец помещал варягов. А в Киеве ее нет вовсе. И с такого вот рода фактами, видимо, и связано противопоставление "варягов" и "руси", прослеживающееся в ряде летописных текстов.
Влияние Балтийского Поморья сказалось даже на антропологическом облике населения Северной Руси. Проанализировав материалы, относящиеся к Х-XIV векам, известный специалист В. В. Седов установил, что "ближайшие аналогии ранне средневековым черепам новгородцев обнаруживаются среди краниологических серий, происходящих из славянских могильников Нижней Вислы и Одера. Таковы, в частности, славянские черепа из могильников Мекленбурга, принадлежащие ободритам". То же население достигало и Ярославского и Костромского Поволжья, то есть того района, к которому всегда привлечено особое внимание норманистов.
Даже и в наше время сохраняются островки, где живут непосредственные потомки тех давних переселенцев. Так, обследовав недавно население Псковского обозерья (западное побережье Псковского озера), антропологи Ю. Д. Беневоленская и Г. М. Давыдова обнаружили группу, принадлежащую к "западнобалтийскому типу", который наиболее распространен у населения южного побережья Балтийского моря и островов от Шлезвиг-Гольштейна до Советской Прибалтики".
Колонизационный поток с южного побережья Балтики на восток должен был начаться с конца VIII века, когда Франкское государство, сломив сопротивление саксов, стало наступать на земли балтийских славян и остатки давнего местного населения. В этом же направлении отступает и часть фризов (из области нынешних Нидерландов), особенно после крупного поражения от датчан в битве при Бравалле в 786 году. Распространение здесь христианства все более стирает этнические различия, но углубляет религиозные и социальные. Опорные же пункты язычества оказываются на южном берегу Балтики.
Сама Скандинавия также оказалась на пути колонизационного потока, идущего с запада на восток. В Скандинавии долго сохранялись славянские поселения. В поток этот неизбежно вовлекались и собственно скандинавы, не говоря уже о вооружении в предметах быта, которые можно было и купить, и выменять, и отнять силой на любом берегу Балтийского моря. Необходимо только иметь в виду, что в IX-Х веках уровень материальной культуры на южном берегу Балтики был едва ли не самым высоким в Западной Европе, а варины еще в VI веке славились изготовлением мечей, которые привозились на продажу в Италию.
В сказании о призвании варягов особенно подчеркивалась знатность рода Рюрика, хотя никаких доказательств в пользу этого не приводилось. В некоторых средневековых генеалогиях Рюрика с братьями выводили из рода ободритских князей (их считали сыновьями Годлава, убитого датчанами в 808 году), а тех, в свою очередь, привязывали к венедо-герульской генеалогии, по древности уступавшей только датской. Других альтернативных генеалогий для Рюрика нет, если не считать откровенно фантастическую легенду о родстве его с римскими Августами (кстати, и в этом случае его выводили с южного берега Балтики). Но летописцы, настаивавшие на приоритете Рюрика перед другими династиями, видимо, и не могли ни на что реальное опереться, так как на севере княжеская власть явно имела меньшее значение, нежели на юге, в Киеве. Варяги привносили с собой вовсе не монархическую систему, а что-то вроде афинского полиса. Древнейшие города севера, включая Поволжье, управлялись примерно так же, как и города балтийских славян. Кончанская система Новгорода близка аналогичному территориальному делению Штеттина. Даже необычно важную роль архиепископа Новгорода мы поймем лишь в сравнении с той ролью, которую играли жрецы в жизни балтийских славян, по крайней мере, некоторых из них. И не случайно, что позднее, когда княжеская власть будет осваивать Волжско-Окское междуречье, в противовес старым "боярским" городам будут воздвигаться новые, княжеские, а в самой новгородской земле княжеской власти так и не удастся утвердиться.