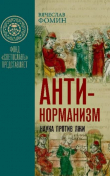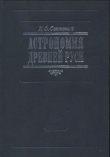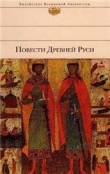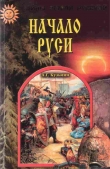Текст книги "Древнерусская цивилизация. Начало Руси"
Автор книги: Аполлон Кузьмин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Несмотря на весомые аргументы против норманизма и большое уважение к Эверсу как ученому, идея «Причерноморской Руси» не получила сколько-нибудь заметного влияния в исторической науке. Эверс все-таки оказался более убедительным в критической части своих рассуждений, а позитивная часть была им лишь слабо намечена. К тому же колоссальную поддержку норманизму оказал официальный историограф начала XIX в. Н.М. Карамзин. Для Карамзина, как и для многих норманистов, сам факт наличия неславянских имен в княжеской династии и социальной верхушке древнерусского общества являлся аргументом в пользу именно Скандинавии. Даже признав существование Неманской Руси и производя самое название «Пруссия» от реки Руса («порусье», по аналогии с «поморьем»), он не только не ставил под сомнение основные аргументы норманизма, но и Неманскую Русь представлял лишь как колонию норманнов [77]77
Н.М. Карамзин. История государства Российского. Т. 7. СПб., 1852 (Примечания к Т. 1–3.) С. 78–79.
[Закрыть].
Большой урон построениям Эверса нанес также Каченовский. Теорию южного происхождения и южнобалтийской природы варягов М.Т. Каченовский (1775–1842) попытался использовать как доказательство подложности или позднего (не ранее XIII–XIV вв.) происхождения русских летописей и других письменных памятников. Весь киевский период истории Руси ему представлялся «баснословным», а основание Новгорода как колонии балтийских славян, он относил ко времени не ранее XII в. В итоге для П. Буткова, например, «оборона» русской летописи сливалась с защитой тезиса о принадлежности ее печерскому монаху Нестору и норманистской интерпретации раздела, говорящего о возникновении государства [78]78
П. Бутков. Оборона летописи русской, Нестеровой от навета скептиков. СПб., 1840. С. 68–95.
[Закрыть].
На борьбе со «скептическими ересями» укрепилась и норманистская вера М.П. Погодина (1800–1875). Норманизм Погодина выглядел тем более убедительным, что он начинал как антинорманист и принял норманизм якобы под давлением аргументов, вопреки антинорманистским «патриотическим» настроениям. Погодин являлся главным столпом норманизма на протяжении почти полувека с тридцатых до семидесятых годов XIX столетия. Но среди его противников находились и куда более основательные исследователи, чем Каченовский, и, нужно отдать должное Погодину, он не стремился слепо цепляться за каждое норманистское положение, уступая напору фактов.
К 30-м гг. XIX в. относятся и антинорманистские выступления Ю. Венелина (1802–1839). Талантливый славист, скончавшийся едва начав научную деятельность, уступал многим норманистам в эрудиции, зато мало кто из современников Венелина обладал таким критическим чутьем, умением обнажить слабые стороны аргументации оппонентов. Летописные тексты заставляли Венелина искать варягов на южном побережье Балтики, откуда, по его мнению, вообще происходило славянское заселение русского северо-запада. Венелин собрал также сведения восточных авторов о варягах, находя и в них доказательство южнобалтийского происхождения этого народа [79]79
Ю. Венелин. Скандинавомания и ее поклонники. М., 1842; его же: О нашествии завислянских славян на Русь до Рюриковых времен. М., 1848 (отт. из ЧМОИДР. Т.6); его же: Известия о варягах арабских писателей и злоупотребление в истолковании оных. М., 1870 (отт. из ЧМОИДР, Кн. 4). Впервые с критикой норманизма Ю. Венелин выступил еще в конце 20-х гг., первое издание «Скандинавомании…» вышло в 1836 году.
[Закрыть].
Во второй четверти XIX столетия на связь южнобалтийского побережья со славянской колонизацией русского северо-запада и возникновением государственности в Новгороде указывали так или иначе С. Руссов, М.А. Максимович, И. Боричевский [80]80
С. Руссов. Письмо о Россиях, бывших некогда вне нынешней нашей России // ОЗ, ч.30 и 31. М., 1827; его же: О древностях России, новые толки и разбор их. СПб., 1836. М.А. Максимович. Откуда идет русская земля. По сказаниям Несторовой повести и по другим старинным писаниям русским. Киев, 1837. И. Боричевский. Русы на южном берегу Балтийского моря // Маяк, ч. VII. СПб., 1840. Известный славист О. Бодянский также считал варягов балтийскими славянами, а русь, вслед за Эверсом и Нейманом, связывал с хазарами.
[Закрыть]. Последний автор мобилизовал значительный документальный материал о Неманской Руси. В 1842 г. появилась большая работа Ф.Л. Морошкина, в которой давалась наиболее полная к тому времени сводка известий о Руси на южнобалтийском побережье (в районе Немана и острова Рюгена) [81]81
Ф.Л. Морошкин. Историко-критические исследования о руссах и славянах. СПб., 1842. Книге предшествовали ряд статей, вышедших в 30-х гг.
[Закрыть]. Несколько ранее Ф. Крузе подобного рода известия попытался истолковать как свидетельство господства германоязычных норманнов на южных берегах Балтики и Северного моря [82]82
Ф. Крузе. О пределах Нормании и названии норманов и руссов // ЖМНП, ч. XXI. 1838. Ср.: его же: Происходят ли руссы от венедов и именно от ругов, обитавших в Северной Германии? // ЖМНП, ч. XXXIX. 1843.
[Закрыть]. С 40-х гг. со статьями норманистского содержания начал выступать также А. Куник (1814–1903).

Венелин Ю.И. (1802–1839)
Главным столпом норманизма в этот период оставался, однако, М.П. Погодин. Именно Погодин прежде всего выступил против «новой ереси» Н.И. Костомарова (1817–1885), доказывавшего неманское («жмудское») происхождение Руси [83]83
Н.И. Костомаров. Заметка на возражения о происхождении Руси // Современник. Т. 80, 1860, № 4. Его же. Последнее слово г. Погодину о жмудском происхождении первых русских князей // Современник. Т. 81, 1860, № 5. Устный диспут состоялся в 1859 году.
[Закрыть]. Однако в ходе полемики норманизм Погодина претерпевал такие изменения, что аналогичные взгляды в наше время многие авторы не склонны считать норманистскими. «Главное, существенное в этом происшествии, относительно к происхождению Русского государства, – полагал Погодин, – есть не Новгород, а лицо Рюрика, как родоначальника династии. …Младенец Рюриков, Игорь, – поясняет эту мысль Погодин, – с его дружиной, есть единственный ингредиент в составлении государства, тонкая нить, которою оно соединяется с последующими происшествиями. Все прочее перешло, не оставив следа. Если бы не было Игоря, то об этом северном эпизоде почти не пришлось бы, может быть, говорить в русской истории, или только мимоходом» [84]84
М. Погодин. Норманский период русской истории. М., 1859. С. 138.
[Закрыть]. Иными словами, норманское участие в сложении Древнерусского государства сводится у Погодина к происхождению династии. Развитие же русского общества в целом от прибытия норманнов никак не зависело. С другой стороны, Погодин должен был согласиться с фактом существования Руси на южном берегу Балтики, хотя и склонен был объяснять природу этой Руси через призму норманистских представлений [85]85
М. Погодин. Борьба не на жизнь, а на смерть с новыми историческими ересями. М., 1876. С. 156, 390.
[Закрыть].
Выступление Костомарова имело довольно широкий резонанс. На него, в частности, обратил внимание Н.Г. Чернышевский. Но сам Костомаров скоро как будто охладел к своей идее, во всяком случае, он в дальнейшем к этому вопросу больше не обращался. Гораздо большие последствия для судеб обоих направлений имело исследование С. Гедеонова (1818–1878), вышедшее в 1862 г. под названием «Отрывки исследований о варяжском вопросе», а затем, в 1876 г., в переработанном виде, в качестве капитальной монографии «Варяги и Русь». Работа Гедеонова остается до сих пор непревзойденной по объему привлеченного материала, достаточно интересна она и по методу, хотя именно с этой стороны ее по сей день пытаются принизить некоторые норманисты-позитивисты.
Некоторые положения, не укладывающиеся в русло академического позитивизма, Гедеонов изложил уже в предисловии. Книга, замечает он здесь, «прежде всего протест против мнимонорманского происхождения Руси». Предвидя возможность упрека в предвзятости из-за «патриотических побуждений», Гедеонов оговаривается: «Не суетное, хотя и понятное чувство народности легло в основание этому протесту; он вызван и полным убеждением в правоте самого дела, и чисто практическими требованиями доведенной до безвыходного положения русской науки. Полуторастолетний опыт доказал, что при догмате скандинавского начала русского государства научная разработка древнейшей русской истории немыслима» [86]86
С. Гедеонов. Варяги и Русь. СПб., 1876. ч.1–2 (пагинация частей единая). С. V–VI.
[Закрыть]. Гедеонов видел главную причину своеобразного тупика, в который зашла академическая наука по вопросу о начале Руси именно в том, что «неумолимое норманское veto тяготеет над разъяснением какого бы то ни было остатка нашей родной страны». Между тем, уже главный источник по обсуждаемым вопросам, летопись, является, по Гедеонову, «живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси» [87]87
Там же. С. VII, IX.
[Закрыть].
В работе Гедеонова в гораздо большей мере, чем у Эверса или Венелина, заметно, как здравый смысл разрывает узкие позитивистские рамки «строгой» «немецкой учености» его оппонентов норманистов. Уже в цитированных положениях устанавливается такой характер связи причин и следствий, которые и до сих пор оказываются вне поля зрения самых «строгих» норманистов. Взаимосвязь, взаимообусловленность явлений, учет направленностипроцессов – все это намного расширяло и фактическую базу исследования, и арсенал познавательных средств. Но Гедеонов не сформулировал (да, видимо, и не осмыслил) своих исследовательских принципов. А для многих его будущих оппонентов самая сильная сторона его научного мышления казалась проявлением дилетантизма, отсутствием академической школы.
Весьма убедительно разрушив многие норманистские представления, Гедеонов оказался, однако, менее доказательным в построении своей положительной схемы. Он пошел по пути совершенного разделения руси и варягов. Русь ему представлялась коренным населением Приднепровья, а варяги – балтийскими славянами. Династию киевских князей он выводил именно от славян-вендов – балтийских славян. Отождествление варягов и руси Гедеонов объяснял «ученой системой» предполагаемого автора Повести временных лет – Нестора. Он видел в летописи «не факты, а представление, какое монах XI–XII столетий себе составил об устройстве словено-русского общества в эпоху мифической древности» [88]88
Там же. С. 105, 106.
[Закрыть]. «Сухость известий, а иногда и умышленное его молчание о княжеских родах до варягов, – полагал Гедеонов, – понятны; новая династия боялась воспоминаний и переворотов. Как у подозрительных греков, так и у нас не терпели князей из чужого рода… Из благочестия Нестор молчит о язычестве, из осторожности о прежних князьях, о судьбе, постигшей Мала и древлянский княжеский род после Ольгиной мести, и пр. Предание о Вадиме, о восстании новгородцев дошло до нас только в одном, позднейшем списке летописи» [89]89
Там же. С. 125–126.
[Закрыть].
Даже полстолетия спустя А.А. Шахматов будет считать общественную среду, в которой возникали летописные сочинения, «недоступными» для нашего понимания [90]90
А.А. Шахматов. Отзыв о сочинении С.К. Шамбинаго «Повести о Мамаевом побоище» // Отчет о XII присуждении премии митр. Макария. СПб., 1910. С. 84–85.
[Закрыть]. «Неученый» Гедеонов не знал о таких не переходимых гранях между знанием и незнанием, которые привносили в науку позитивизм и неокантианство. Он пытался увидеть за летописными строками не только то, что написано, но и то, о чем и почему умолчано. И если его конкретные соображения могут оказаться спорными (особенно потому, что сводного характера летописей он не учитывал), то сам принцип исследования – не только от текста к реальности, но и от реальности к тексту – был, безусловно, плодотворным.
Гедеонов убедительно показал, насколько далеким от истины может быть прямолинейное толкование источника, сколь многими факторами обуславливается каждое утверждение или отрицание древнего автора. Но он не сумел с равной мерой критичности отнестись к собственным построениям: «…являясь самым опасным врагом норманской системы, – не без оснований писал в этой связи Ф. Фортинский, – Гедеонов, по нашему мнению, оказывается не особенно осмотрительным при постройке своей собственной» [91]91
Ф. Фортинский. Варяги и Русь. Историческое исследование С. Гедеонова. СПб., 1878 (отд. отт.). С. 47.
[Закрыть]. Фортинский относил к существенным недостаткам построения Гедеонова то обстоятельство, что необъясненным остался факт превращения варягов в норманнов, а также сохранение в Византии названия «варанги» вместо «викинги» [92]92
Там же. С. 44.
[Закрыть]. Явно недостаточными были и этимологические экскурсы.
Насколько серьезным оказался удар, нанесенный Гедеоновым норманизму, показали выступления с возражениями ему двух главных столпов норманизма – М.П. Погодина и А.А. Куника. Если сопоставить аргументы того и другого, то окажется, что из суммы их почти набирается концепция… Гедеонова. Погодин считал главным недостатком построения Гедеонова его взгляд на летопись. По его мнению, Гедеонов «смотрит на летопись неверно. Нестор представляется ему сочинителем, воспитанником византийцев, с полуучеными затеями, который не только имеет, но и составляет систему, соображает, очищает дошедшие до него сведения, связывает разнородные показания, изобретает средние члены и т. д.». «Совсем не так! – патетически возражает Погодин. – Нестор есть простой русский человек, со здравым смыслом, какие и теперь встречаются часто в простонародье, толковый человек, грамотный, но не грамотей, не краснобай. Он описывает, по выражению Пушкина: не мудрствуя лукаво…» По мнению Погодина, «приписывать киевскому монаху XI столетия, поступившему в монастырь 17 лет от роду, какое-нибудь желание провести свою любимую мысль – ни с чем не сообразно» [93]93
М. Погодин. Г. Гедеонов и его система о происхождении варягов и руси // ЗАН. Т. VI. Приложение № 2. СПб., 1864. С. 4–5.
[Закрыть]. Куник также признал вопрос о способности Нестора создавать систему главным. Но он решил его в прямо противоположном смысле, нежели Погодин. «Не могу, – сразу определяет свою позицию Куник, – не заподозрить почтенного составителя летописного сборника в некоторой наклонности к произвольной систематике; но покуда не могу и вполне согласиться с г. Гедеоновым, будто бы Нестор, или тот, кому должно приписывать последнюю редакцию древнейшей Киевской летописи, искусственно проводит в сказании о происхождении Варяго-Руссов ученую систему» [94]94
А. Куник. Замечания. Там же. С. 53.
[Закрыть]. Куник с бесспорностью обнаруживает такую «систему» в рассказе о расселении славян, а потому полагает, что «вовсе не странно предполагать искусственную систему и в его сказаниях о Варяго-Руссах». Но он считает, что «доказать это осязательно было бы очень трудно» [95]95
Там же. С. 57–58.
[Закрыть].
Таким образом, в главном Куник согласился не с Погодиным, а с Гедеоновым. Что же касается самого фактического материала, на котором строилась норманская система, то Погодин проявил значительно меньше уверенности в его доказательности, чем Куник. В этой части Погодин оказался склонным идти очень далеко навстречу Гедеонову. Он напоминает свои прежние мимоходом сделанные допущения, не исключая какого-то общего или сходного в основных чертах подхода: «…мы искали, – говорит он, – и указывали на норманство между славянами; г. Гедеонов находит славянство в норманнах. Читая внимательно его исследования, не соглашаясь со многими утверждениями, чувствуешь однакожь невольно присутствие славянского участия, короткое знакомство и тесную связь между племенами славянскими и готскими, по близкому их соседству между собою» [96]96
М. Погодин. Г. Гедеонов и его система…. С. 1–2.
[Закрыть]. Говоря о смешанном (датском и славянском) населении «Вагирской провинции», Погодин ранее сделал допущение, что «чуть ли не в этом углу Варяжского моря заключается ключ к тайне происхождения варягов и руси». Погодин полагал, что «если б, кажется, одно слово сорвалось еще с языка у Гельмольда, то все б нам стало ясно». Теперь, признает он, «это слово если не нашел, то, кажется, с успехом ищет Г. Гедеонов, и ловит некоторые звуки. Найди он это слово, и последует всеобщее примирение живых и мертвых, покойных и непокойных исследователей происхождения Руси, норманистов и славистов» [97]97
Там же. С. 2.
[Закрыть].

Погодин М.П. (1800–1875)
Хотя «слово», о котором говорит Погодин, в данном случае символизирует убедительность всей концепции, сама убедительность в представлении Погодина должна была опираться на прямое чтение источника. Уступая Гедеонову, Погодин соглашается с тем, что название «Русь» нельзя производить ни от финского «ruotsi», ни от шведских «родсов» [98]98
Там же. С. 6.
[Закрыть]. Но он считает возможным опираться на «Нестора», пользуясь тем, что Гедеонов, в сущности, без какого-либо сомнения отдал летопись норманистам – признал норманистом самого предполагаемого составителя первоначальной летописи.
Если в 40-е гг. XIX в., когда Гедеонов начинал свой труд о варягах и руси, еще господствовало представление о цельности и принадлежности одному автору Начальной летописи, то к 70-м гг., когда он подготавливал свое исследование в окончательном виде, такое представление было анахронизмом. Гедеонов, одним из первых заметивший тенденциозность летописных материалов, не смог ни понять, ни принять летопись как многослойный памятник. Он, в частности, вступил в полемику с Д.И. Иловайским (1832–1920), который в начале 70-х гг. выступил с обоснованием тезиса о позднем включении в состав Повести временных лет всего сказания о призвании варягов [99]99
Д.И. Иловайский. Разыскания о начале Руси. М, 1882. С. 3, 46–47. Первые статьи автора по этим вопросам вышли в 1871–1872 гг. Первое издание «Разысканий», как и книга Гедеонова, – в 1876 г.
[Закрыть]. Иловайский основное внимание уделил доказательству южного и славянского происхождения Руси. Его указание на чужеродность сказания о призвании варягов имело впоследствии широкий резонанс. Несколько иным путем к тому же выводу пришел позднее А.А. Шахматов. Этот вывод был взят на вооружение многими учеными, но Иловайский допустил своеобразный логический перескок. Доказательство факта вставки текста сказания у него автоматически вело к признанию его недостоверным. Напротив, Шахматов, признав позднее появление вставки и даже ее тенденциозность, тем не менее склонен был считать основное содержание сказания достоверным [100]100
Ср.: А.А. Шахматов. Отзыв о сочинении Владимира Пархоменко «Начало христианства Руси». СПб., 1916 (отд. отт.). С. 258. Его же. Отзыв о труде В.А. Пархоменко: «Начало христианства Руси» // ЖМНП, ч.52. 1914, № 8. С. 342. Его же: Разыскания…. С. VIII–IX, 289–340.
[Закрыть].
Вывод Иловайского и Шахматова о позднем включении текста сказания о призвании варягов в летопись, безусловно, имеет очень большое значение для всего исследования варяжского вопроса. Но непосредственно это с вопросом о достоверности сказания не связано. Сказание могло иметь более или менее длительную историю за пределами вообще летописи или данной летописи. Просто в этом случае приемы его исследования будут другими, нежели при анализе собственно летописных записей. В результате Иловайский необоснованно отказался от поисков какой-либо реальной основы сказания. Другой слабостью его работ явилось стремление придать неславянским корням (именам и терминам) славянское звучание и осмысление. У И. Первольфа сразу же по выходе первых публикаций было достаточно оснований заметить, что «этот способ этимологизирования вредит прекрасным работам г. Иловайского не менее, чем вредили русские корсары Византии» [101]101
И. Первольф. Варяги-Руси и Балтийские славяне // ЖМНП, ч.192. СПб., 1877. С. 91.
[Закрыть].
Работы Гедеонова и Иловайского лишили норманизм ареола «строгой научности», поскольку было мобилизовано больше материала, чем это делали сами эрудированные норманисты. В конце XIX в. в исторической литературе в целом преобладало скептическое отношение к норманистским построениям. При этом А. Котляревский и И. Забелин обращались к балтийскому Поморью, а В.Г. Васильевский обосновывал положение о существовании Руси на юге задолго до «призвания». Сам норманизм в это время уже не покушается объяснить норманно-германским участием все явления жизни Древней Руси, а аргументация вынужденно обходит основные факты. А. Куник вынужден писать «Открытое письмо к сухопутным морякам», где «сухопутными моряками» именуются историки-антинорманисты, а обращается он к «подрастающему поколению», имеющему «пока непомраченный еще предубеждениями здравый смысл» [102]102
А. Куник. Известия ал-Бекри и других авторов о руси и славянах. Ч.2. СПб., 1903. С. 1–2.
[Закрыть]. Главный аргумент, с которым один из ведущих норманистов обращается теперь к молодежи, – это представление, будто существуют исконно морские и так же исконно сухопутные народы. Славяне, естественно, отнесены у него к последним. Работу В.И. Ламанского «О славянах в Малой Азии, в Африке и Испании» (СПб., 1859), где собраны источники о морских походах и переселениях славян, он, видимо, не знал, как не знал и о том, что именно славяне и славянизированные племена южного берега Балтики первыми осваивали Волго-Балтийский путь, колонизируя также острова Балтики и балтийское побережье Скандинавии. Своих оппонентов Куник пытается уязвить тем, что они не могут договориться между собой: Костомаров, Гедеонов, Иловайский предлагают весьма различные позитивные решения, объединяясь лишь неприятием норманизма.
Отсутствие доверия к норманистским построениям во второй половине XIX в. в научных кругах России привело к тому, что основная сводка аргументов в пользу норманского происхождения Руси появилась за рубежом. Датский ученый В. Томсен опубликовал курс лекций, прочитанных в Оксфордском университете, сначала в Англии (1877), затем в Германии (1879), потом в Швеции (1882). Книга эта и позднее издавалась неоднократно, в том числе и в русском переводе (1891). Полемику с антинорманистами В. Томсен подменил общей пренебрежительной оценкой их трудов. «Изо всей массы сочинений этого рода, – уверял он свою зарубежную аудиторию, – лишь ничтожная доля имеет научную ценность. Я называю здесь лишь одного писателя из лагеря антинорманистов, сочинение которого, по крайней мере, производит впечатление серьезной обдуманности и больших познаний, – С. Гедеонова» [103]103
В. Томсен. Начало русского государства. М., 1891. С. 19.
[Закрыть].
Должно заметить, что ни в том ни в другом отношении книжечка Томсена не может сравняться с капитальным трудом Гедеонова. Возражая против такого высокомерного отношения к работам антинорманистов, видный славист и норманист В.А. Мошин отмечал, что «патриотической подкладки» нет у «немца Эверса, еврея Хвольсона или беспристрастного исследователя Гедеонова» и что Эверса, Костомарова, Юргевича, Антоновича и Иловайского «никак нельзя причислить к дилетантам» [104]104
В.А. Мошин. Варяго-русский вопрос //Slavia, r.X, s. 3, v Praze. 1931. С. 113, 114.
[Закрыть].
Томсен постулировал два положения, которые ему следовало бы доказать. Он исходил из того, что «имя варяги употреблено в смысле общего обозначения Скандинавии и что Русь есть имя отдельного скандинавского племени», что «племя, основавшее русское государство и давшее ему свое имя, было скандинавского происхождения» [105]105
В. Томсен. Указ соч. С. 15, 16.
[Закрыть]. В ходе исследования, однако, он не доказал ни того ни другого. Более того, на каждом шагу у него выявляются внутренние противоречия: так, говоря о погребении руса, описанного Ибн-Фадланом, Томсен должен оговариваться, что «арабский писатель, очевидно, перемешал здесь черты норманского и славянского быта». В результате вопрос решается весьма своеобразным и неоригинальным в длительном споре норманистов и антинорманистов «голосованием»: упоминаемый в сообщении корабль «указывает на народность, привычную к мореплаванию, чего нельзя сказать про русских славян» [106]106
Там же. С. 47.
[Закрыть]. Не находит Томсен и Руси в Скандинавии [107]107
Там же. С. 80–85.
[Закрыть], в отношении же «варягов» он оговаривается, что «чисто норманское слово vaeringyar… по своему смыслу является наполовину иностранным, так как оно обозначает только скандинавскую лейб-гвардию, состоящую на службе у византийского императора» [108]108
Там же. С. 106.
[Закрыть]. Находя «несомненным», что «в нравах и обычаях общественной жизни и государственных учреждениях России долго оставались признаки конкретной меры этого влияния», Томсен сам уклонялся от определения конкретной меры влияния, оставляя это на будущие исследования [109]109
Там же. С. 115.
[Закрыть]. И, как и у всех норманистов, у Томсена оставался, в сущности, единственный серьезный аргумент: параллели для варяго-русских имен в Скандинавии. И, как и в большинстве подобных работ, указание на параллель должно заменить доказательство, что это имя является по происхождению германским, или что именно германцами оно принесено на Русь. Действует все тот же универсальный принцип: если не славянское – значит германское.
К концу XIX столетия фонд письменных источников для решения вопроса о начале Руси в целом оказался исчерпанным, и для убедительного решения проблемы прямых данных стало уже недостаточно. Необходимо было, с одной стороны, привлечение каких-то новых источников, а с другой – существенно иной методологический подход. Выражая неудовлетворенность традиционной позитивистской методологией, один из последовательных антинорманистов писал: «Над словами и неясными фактами должна господствовать логика событий: теоретический вывод иногда может вернее угадать правду, чем запутанный исторический намек. Эта теоретическая правда, если она на верном пути, может найти себе подтверждение и сделаться аксиомой, когда найдутся для нее фактические доказательства из другой научной области, которой еще так скудно пользуется историческая наука, именно из области филологии и археологии» [110]110
В.М. Флоринский. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни. Ч.1. Томск, 1894. С. 64.
[Закрыть].
«Теоретическая правда» и действительно должна была снять многие вопросы, как неверно поставленные или в не правильном направлении решаемые. Это, в частности, в первую очередь должно отнести к таким важнейшим обсуждаемым явлениям, как процесс формирования древнерусской народности и государственности. Но в академической науке конца XIX столетия теория еще не стояла «на верном пути», поскольку диалектика, в особенности материалистическая, встречалась как идеология, угрожавшая разрушить сложившиеся социально-политические отношения. Другие же методологии были не более перспективны, чем позитивизм.
Указание на возможность значительного расширения круга источников за счет филологических данных было вполне справедливым. Как раз в конце XIX в. сравнительно-историческое языкознание начинает даже доминировать в решении многих вопросов, связанных с историческими судьбами древнейших народов. Но на первых порах индоевропеистика могла лишь поддержать падающее здание норманизма, поскольку в европейской науке языкознание выступало прежде всего как «индогерманистика», т. е. все вопросы рассматривались прежде всего через призму германоцентризма. И это, в частности, сказалось на большинстве работ по славянской этимологии.
Примерно по той же причине на первых порах за норманизмом оставался приоритет и при использовании археологических материалов. Как и в филологии, в русской археологии своеобразным ориентиром являлись данные европейской, прежде всего германо-скандинавской археологии. Именно археологический материал был использован для нового массированного вторжения викингов на Русь в основательной работе Т. Арне «Швеция и Восток» [111]111
Т. Arne. La Suede e l'orient. Upsala, 1914.
[Закрыть]. Это вторжение археологов шло рука об руку с аналогичным наступлением филологов, в ряду которых были, в частности, М. Фасмер и А. Стендер-Петерсен. Если учесть, что в первые годы Октября в правящих верхах преобладало негативное отношение ко всему, что могло быть как-то истолковано в национально-ограничительном плане, а история даже была исключена из преподавания в школах, то неудивительно, что в советской литературе преобладали поначалу работы норманистского характера [112]112
Ср.: П.П. Смирнов. Волзький шлях i стародавнi Руси. Киев, 1928; Ю.В. Готье. Железный век в Восточной Европе. М., 1930. Норманскую концепцию начала Руси принял в своих работах М.Н. Покровский. В 1928 г. был издан специальный сборник: Памяти В. Томсена. К годовщине со дня смерти. В нем, в частности, выражалась полная солидарность с норманистскими построениями Томсена (этому вопросу посвящена статья А.Е. Преснякова).
[Закрыть], а один из давних норманистов, находившийся в эмиграции, заметил в 1925 г. с удовольствием, что «дни варягоборчества, к счастью, прошли» [113]113
Ф.А. Браун. Варяги на Руси // Беседа. Т. 6–7. Берлин, 1925. С. 308.
[Закрыть].
«Новое учение» Н.Я. Марра вошло в непримиримое противоречие как с норманизмом, так и с антинорманизмом, если последний не отталкивался от абсолютной автохтонности. Стремление отыскать прямую зависимость между классовыми позициями авторов и их научными концепциями приводило к оценкам вроде того, что «норманская школа и почти все ее разновидности в основном отразили дворянско-монархическую концепцию, разновидности славянской школы – концепцию буржуазию, собственно торгово-буржуазную» [114]114
С.Н. Быковский. Яфетический предок… С. 3.
[Закрыть]. «Старый норманизм, – говорит тот же автор, – доведенный до логического абсурда в новейшей работе П. Смирнова, а равно и разновидности старой славянской школы, должны уступить место новой схеме, осуждаемые – первая в основном, как дворянско-монархическая, вторая – как буржуазно-шовинистическая». Автор находит, что «впрочем, норманская школа изжила себя в работах М.Н. Покровского, превращенная последним в разрушение монархических идей четким выявлением грабительской роли князей-норманнов, возвеличенных ортодоксами-норманистами в качестве законных, по благородству крови, претендентов на престол» [115]115
Там же. С. 99.
[Закрыть]. М.Н. Покровский придал норманизму противоположное значение, подчеркнув негативную роль государства. Но в этом вопросе, как и во многих других, у него наблюдалось как перенесение представлений об изживающей себя буржуазной государственной машине эпохи империализма в эпоху, когда государственный организм только складывается, так и общее негативное отношение (по той же причине) к русской истории.
Наступление фашизма, рост национализма снова пробудили политическую сторону концепции норманизма. Норманизм становится оружием в руках наиболее реакционных сил. С конца 30-х гг. с норманизмом ассоциируется обязательно антимарксистское понимание исторического процесса. Напротив, почти любая разновидность антинорманизма претендует на то, чтобы выступать от имени исторического материализма. В основном же норманизм отвергается за счет ряда положений, содержание которых было рассмотрено выше. Конкретная аргументация норманистов при этом почти не рассматривалась и постепенно стала выпадать из работ, посвященных началу Руси.
Критический пересмотр некоторых теоретических положений в 50–60-е гг., коснувшийся многих важных философских и исторических проблем, привел к быстрому возрождению норманизма. Старые, традиционные норманистские аргументы вдруг предстали как откровения, хотя они уже неоднократно опровергались. В филологии это прошло почти незаметно в ходе преодоления некоторых заблуждений Марра. В археологии развернулась полемика, которая продолжается и по сей день. Состояние этой полемики на середину 60-х гг. представлено в специальных монографиях В.П. Шушарина и И.П. Шаскольского [116]116
В.П. Шушарин. Современная буржуазная историография Древней Руси. М., 1964; И.П. Шаскольский. Норманская теория в современной буржуазной науке. М.-Л., 1965.
[Закрыть]. В целом норманизм укреплял свои позиции, очень часто все еще выступая под флагом антинорманизма. И не случайно болгарский ученый Е. Михайлов констатировал, что советскими историками доказана подготовленность восточного славянства к принятию государственности к IX в. и показано, что политическая сторона этого процесса окрашена активным норманским участием [117]117
Е. Михайлов. Съветската историческа наука за образуването на древнеруската държава // Исторически преглед. София, 1970, № 3. С. 89–99. Ср.: А.Г. Кузьмин. Болгарский ученый о советской историографии начала Руси // ВИ. 1971, № 2.
[Закрыть]. С 70-х гг. во властных структурах заметно поднимается та сила, которая привела к развалу страны и ее экономики. В археологической литературе появились работы, в которых доказывалась преобладающая роль норманнов в социальной верхушке древнерусского общества и даже в населении важных экономических центров Руси [118]118
Ср.: Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев, В.А. Назаренко. Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения // Исторические связи Скандинавии и России. Л., 1970.
[Закрыть]. В академической сфере антинорманистам становится все труднее изложить свое видение проблемы. Лишь обрывками публиковались статьи Г.П. Смирновой, в руках которой находился огромный керамический материал, свидетельствующий о заселении Новгорода и Северо-Запада Руси балтийскими славянами. В публикации И.П. Шаскольского 1983 г. антинорманизм, по существу, осуждается, и автор становится на позиции норманизма. «В отличие от антинорманистов, – заключает автор свой выпад против них, – мы возражаем против норманистской концепции об основании Древнерусского государства не потому, что мы не хотим признавать ведущую роль скандинавов в важнейшем событии начала нашей политической истории, а потому, что в свете данных современной науки иноземные пришельцы были не в состоянии создать государство (а следовательно, и классовое общество) на огромном пространстве восточнославянских земель» [119]119
И.П. Шаскольский. Антинорманизм и его судьбы // Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1983. С. 49.
[Закрыть].
Приверженность «марксизму» автор подтверждает традиционной ссылкой на высказывание Энгельса: «Государство никоим образом не представляет собой силы, извне навязанной обществу». И, как и большинство подобных «марксистов», он не замечает, что Энгельс спорил с идеалистами, переносившими причины возникновения государств на небо. «Извне» же (т. е. в результате внешних завоеваний) возникло множество государств Европы. А переход Шаскольского на позиции норманизма фиксируется заключением: «Марксистские ученые (в этом тоже их принципиальное отличие от антинорманистов) не отрицают скандинавского происхождения варягов и самого факта пребывания скандинавов на Руси в IX–XI вв. и их участия в событиях, приведших к формированию и дальнейшему развитию Древнерусского государства» [120]120
Там же. С. 50. В число подобных «марксистов» автор зачислил и академиков М.Н. Тихомирова и Б.А. Рыбакова – последовательных приверженцев антинорманизма.
[Закрыть]. Как вспоминал недавно один из убежденных норманистов Л.С. Клейн, И.П. Шаскольский лишь маскировал свои норманистские взгляды ссылкой на «марксизм». При обсуждении его книги в «норманском семинаре» ЛГУ в 1965 г. автор заранее согласовал свое выступление с руководителем семинара [121]121
Л.С. Клейн. Норманизм – антинорманизм: конец дискуссии. «STRATUM». Неславянское в славянском мире. 1999, № 5. С. 2. («Вы будете главным моим противником, но не я буду главным Вашим противником» – определил свою позицию автор книги. Автор напомнил также, что принципиальная статья «Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения» в соавторстве с Г.С. Лебедевым и В.А. Назаренко, была опубликована в 1970 году именно в сборнике под редакцией И.П. Шаскольского. («Исторические связи Скандинавии и России. IX–XX вв.»).
[Закрыть]. Вспомнил автор и о том, что бывший в то время зам. редактора журнала «Вопросы истории» Кузьмин выразил свое несогласие с обвинением соавторов «в немарксизме». Могу сказать больше. Мне всегда представлялось, что истинным норманистом и немарксистом являлся именно И.П. Шаскольский. В концепции трех авторов и в ряде других публикаций археологов культуры Северо-Запада Руси IX–X вв. представлялись неким синтезом или смешением скандинавских и угро-финских древностей. А проявился в этой смеси почему-то славянский язык. Этот факт, собственно, и являлся главным, вытекающим из материалов названных археологов [122]122
Об этом и говорилось в статьях 70-х гг.
[Закрыть]. И.П. Шаскольский это хорошо понимал и потому настаивал: не завышать процент «норманских» древностей (конечно, ради спасения самой норманской концепции).