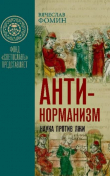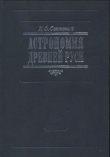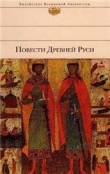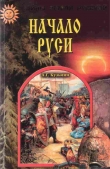Текст книги "Древнерусская цивилизация. Начало Руси"
Автор книги: Аполлон Кузьмин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Земляные укрепления поселений появляются уже на поздних этапах существования трипольской культуры. Движение на северо-запад коневодов среднестоговской культуры в конечном счете явилось важнейшей причиной гибели трипольского общества, просуществовавшего почти два тысячелетия. Но, не разбирая вопроса о технических возможностях населения эпохи неолита (они, может быть, не так уж и ограничены, о чем свидетельствуют и мегалитические сооружения), должно отметить, что трипольская культура не выходит за пределы Правобережья Днепра. Валы же простираются и на значительной части Левобережья.
В последующий период существуют культуры, которые включают территории по обе стороны линий валов. Лишь с вторжением скифов в Приднестровье складывается ситуация, напоминающая эпоху триполья. Но характерная для этого времени чернолесская культура выходит южнее ареала приднепровских валов, и признаков противостояния ее степным пришельцам не видно. Правда, далее всего на север скифы проникали по Левобережью, а не по Правобережью Днепра. На Правобережье устойчивее сохраняются местные традиции и местное население. Однако это население довольно скоро втягивается в то хозяйственное и политическое объединение, которое возникло в результате скифского вторжения. «В течение почти четырех столетий, – заметила В.И. Ильинская, – население лесостепи оказалось вовлеченным в сферу политического, экономического и культурного влияния со стороны степного скифского мира. Ни до этого, ни на многие века позднее, после падения скифского могущества, население степной и лесостепной зоны Северного Причерноморья не было объединено в столь прочное культурно-политическое объединение, как в период от VII–VI до конца IV и начала III вв. до н. э.» [441]441
В.А. Ильинская. Раннескифские курганы. С. 171.
[Закрыть].
Безусловно нужны оговорки: наши знания об отдаленных эпохах, и тем более о конкретных ситуациях, складывавшихся на протяжении даже нескольких поколений, крайне недостаточны для уверенных заключений. Весьма вероятно, что традиция укреплений жила здесь еще от трипольского времени. Но реальная потребность и возможность их сооружения ведет в эпоху второго железного века, когда в степи Причерноморья вторглась новая волна кочевников, значительно уступавших по уровню культуры предшествовавшему степному и земледельческому населению. Речь идет о сарматских племенах.
Для всех древнейших цивилизаций варвары представляли наибольшую опасность своей политической аморфностью. С варварами нельзя договориться, и почти с каждым племенем необходимо иметь дело заново. Более организованное общество либо наступает, используя свое превосходство, как это было на заре многих рабовладельческих государств, либо откупается и отгораживается от варваров в эпохи кризисов или просто перед лицом превосходящих сил. Именно в последние столетия существования Римская империя ограждает себя линией валов, используя для их сооружения труд рабов или подвластного ей населения. И в Приднепровье валы сооружались обороняющейся стороной, стороной относительно цивилизованной, противостоящей варварскому кочевому миру.
В докиевский и послескифский периоды имеются только две культуры, с которыми можно связывать строительную деятельность такого масштаба: Зарубинецкая и Черняховская. Яркая Черняховская культура, несомненно располагавшая значительным экономическим и производственно-техническим арсеналом, может рассматриваться в числе первых претендентов на роль создателя нескольких поясов оборонительных сооружений. Именно к ее эпохе относится сооружение валов в Румынии и Молдавии, причем они, как отмечалось, использовались дважды, т. е. один раз, видимо, приднестровскими черняховцами. Но Среднее Поднепровье в это время не было этноразделяющей областью. Здесь сложился локальный вариант той же Черняховской культуры, которая достигает Причерноморья.
Не очень точный, но возможный в данном случае метод исключения приводит к зарубинецкой культуре, к которой ведут и предварительные археологические оценки. Именно территория зарубинецкой культуры соответствует линиям оборонительных валов. Ясен и противник, от которого хотели таким образом отгородиться. В III в. до н. э. сарматы разгромили скифов и нанесли тяжелейшие удары по Среднему Поднепровью [442]442
Ср.: Д.А. Мачинский. О культуре Среднего Поднепровья… С. 4.
[Закрыть]. Однако некоторое время спустя здесь появляется культура зарубинецкого облика и район снова довольно плотно заселяется. Даже у границ с коварной степью зарубинцы покидают укрепленные городища и спускаются на более удобные для жилья приречные долины. Это было возможно только в том случае, если безопасность гарантировалась. Внутри культуры, очевидно, это обеспечивалось государственного плана институтами, от внешних врагов защищали валы.
Зарубинецкая культура оказалась отгороженной от южных соседей не только в прямом, но и в переносном смысле. Начало культуры более яркое, чем ее продолжение. Вначале на поселениях встречается большое количество кельтских и причерноморских вещей (из греческих колоний, в частности, поступали амфоры, видимо, с вином). Разрыв связей с югом и юго-западом из-за сарматского вторжения с востока и римского наступления с запада не мог не сказаться на функционировании хозяйственного организма. Оттесняемая из южных пределов плодородной лесостепи, а также от богатых ископаемыми предгорий Карпат и от южных культурных центров, зарубинецкое объединение подвергалось постепенной варваризации. Этот процесс продолжался и после гибели самой культуры и оттеснения самой культуры на восток и северо-восток [443]443
Ср.: П.Н. Третьяков. Основные итоги и задачи изучения зарубинецких древностей // МИА. № 160, Л., 1959. С. 15.
[Закрыть].
В пользу славянства зарубинецкой культуры говорят теперь уже довольно многочисленные данные, поскольку найдены памятники второй четверти I тыс. н. э., которые являются как бы переходными от зарубинецких к бесспорно славянским [444]444
Там же. С. 13–16. «Связующему звену» между зарубинецкой культурой и древностями летописных племен посвящен специальный сборник под ред. П.Н. Третьякова. См.: Раннесредневековые восточнославянские древности. Л., 1974.
[Закрыть]. Расселяясь по балтским территориям, зарубинцы-славяне прерывали тысячелетнее однообразие развития этих областей. Но и сами они во многих районах попадали под влияние балтов, в известной мере утрачивая ранее достигнутый уровень. Новые территории требовали иного способа хозяйствования, и нужно было значительное время для достижения прежнего уровня. К тому же на новых территориях славяне вряд ли были господствующей силой. Уходя со старых территорий сравнительно небольшими группами, они должны были приспосабливаться к форме организации местных племен и в итоге утрачивали преимущество широких межплеменных объединений и вообще устойчивой системы обмена производственным опытом.
Гибель зарубинецкой культуры привела к постепенному освоению славянами верховьев Днепра и бассейна Десны. В свое время скифы продвинулись далеко на север по Левобережью Днепра, в то время как на Правобережье этническая граница мало менялась. Теперь славяне, отступая с Правобережья в северном и северо-восточном направлении, возвращаются на юг днепровским Левобережьем. В бассейне Десны и Сейма они оказались действительными «северянами».
Зарубинецкая культура просуществовала не так долго, чтобы могли нивелироваться племенные различия, в частности разных волн славянского населения, приходившего с запада и юго-запада. Этим может объясняться отмечаемое специалистами возрождение элементов милоградской культуры. Какая-то их часть давно проникла на днепровское Левобережье южнее ареала зарубинцев. Вызывает интерес, в частности, особая культура района впадающей в Днепр реки Ворсклы. Здесь возник как бы остров доскифского населения, окруженный пришельцами с юга. В литературе отмечалось, что эти поселения генетически связаны с чернолесской культурой [445]445
Ср.: Г.Т. Ковпаненко. Племена скіфського часу на Ворсклі. Київ, 1967; Е.Ф. Покровская. Предскифское поселение у С. Жаботин / CA, 1973, № 4. С. 186–188.
[Закрыть]. Здесь находилось самое крупное в Восточной Европе Вельское городище, размеры которого превышают 4000 гектаров [446]446
Ср.: Б.А. Шрамко. Восточное укрепление Вельского городища Скифские древности. С. 111. Автор называет цифру в 4020 га. Здесь же – сравнительные данные: площадь Ольвии – 50 га, Херсонеса – 26,5 га, крупнейшие кельтские оппидумы в Европе Кельхайм и Манхинг – 650 и 400 га.
[Закрыть]. Весьма вероятным представляется отождествление этого городища с городом гелонов Геродота [447]447
Там же. С. 112. Его же. Крепость скифской эпохи у села Бельск – город Гелон Скифский мир. См. также: М.И. Артамонов, этнография Скифии. Ученые записки ЛГУ» № 85. Серия исторических наук, вып. 13. Л., 1949. С. 162; В.Д. Блаватский. О северной окраине Скифии Геродота // Древности Восточной Европы. М., 1969. С. 32. Главным аргументом в пользу отождествления Вельского городища с городом гелонов является почти совпадающая с описанием Геродота величина городищенских укреплений. Геродот называет 300 стадий на одной степе, что в сумме для четырех стен даст 25 км. Овальная длина валов – около 26 км. Еще В.А. Городцов обнаружил следы деревянных сооружений на валу. Б.А. Шрамко убедительно подтвердил, что на валу были деревянные укрепления, и это также соответствует описанию Геродота. Город явно был хорошо известен в греческом причерноморском мире. Многочисленные материалы на городище говорят о связях населения с греческими городами. В свою очередь и жители городища умели обрабатывать различные металлы, которые производились на месте из привозной руды. На Вельском городище жизнь продолжалась с VII по III в. до н. э. и традиция давних связей с городом могла породить записанную Геродотом легенду, будто гелоны – выселившиеся на север эллины.
[Закрыть]. Язык населения чернолесской культуры неизвестен. Но соображения А.И. Тереножкина о его славянской природе не лишены основания [448]448
А.И. Тереножкин. Культура предскифского времени в Среднем Поднепровье / Вопросы скифо-сарматской археологии. С. 109–110.
[Закрыть]. В пользу этого говорит и способ погребения, перекликающийся с погребениями лужицкой культуры и восточногальштатской области, и полоска славянских гидронимов, проникающая с Правобережья на Ворсклу [449]449
Ср.: О.Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины. С. 271 (карта архаических славянских гидронимов).
[Закрыть].
Население чернолесской культуры, конечно, не было однородным в языковом отношении. Даже на территории Вельского городища совмещаются, по крайней мере, два разных типа погребений, и материальная культура его восходит к разным традициям. Родственный славянам этнический компонент имеет явно западное происхождение, связываясь с карпато-дунайским миром. Другой компонент может быть связан с населением, восходящим еще к киммерийским временам [450]450
Ср.: Б.А. Шрамко. Исследования лесостепной полосы УССР // Археологические открытия, 1966 г. М., 1967. С. 200; его же: Крепость скифской эпохи…. С. 119.
[Закрыть].
Таким образом, к рубежу н. э. в Приднепровье просматривается несколько отличающихся друг от друга культур, население которых говорило на языках славянского облика. В контактных зонах происходили процессы взаимоассимиляции, складывалось двуязычие (именно это должно иметь в виду, когда Геродот говорит о знании скифского языка гелонами), воздействие языков друг на друга. В разных условиях довольно заметно различались и темпы развития славянских и родственных им племен. Более развитые или более сильные выступали на стадии перехода к военной демократии в качестве гегемонов и завоевателей и по отношению к своим родичам. Но наряду со славянскими в Приднепровье сохранялись и иные языки. На севере и востоке – это были прежде всего разные диалекты балтских языков, на юге и юго-востоке – иранские, в Прикарпатье – дако-фракийские и кельтские. Неславянские, в том числе очень древние племена, сохранялись и на основных славянских территориях в Поднепровье.
Решение вопроса в пользу славянства зарубинецкой культуры в значительной мере предрешает и вопрос о пшеворской культуре как одной из основных славянских территорий конца I тыс. до н. э. и первых веков н. э. В связи с этой культурой обычно возникают проблемы выделения в ней германских элементов [451]451
Ср.: П.Н. Третьяков. У истоков древнерусской народности. С. 24–25.
[Закрыть]. Но следовало бы уточнить, о каких элементах идет речь. Германские элементы ищут в пшеворской культуре, исходя из общего представления о том, будто на Балтийском Поморье накануне н. э. обитали только венеды и германцы. Между тем этническая карта Прибалтики была гораздо более пестрой, причем германские элементы не составляли здесь преобладающего начала.
Одним из племен, начавших «исход» из Прибалтики на юго-восток, были бастарны. К концу III в. до н. э. бастарны занимали значительные территории от Карпат до Нижнего Дуная, по течению реки Прут. При определении их этнической принадлежности обычно рассматривается альтернатива: германцы или кельты. К германцам бастарнов относили многие немецкие ученые, но именно это обстоятельство и обесценивает данную точку зрения. Бастарны какое-то время возглавляли в придунайских областях значительный союз племен, а мимо таких фактов традиционная германистика равнодушно не проходила. Для доказательства германоязычия бастарнов нередко ссылаются на Страбона и Тацита. Но Страбон не причисляет их к германцам даже и географически [452]452
Страбон. География. С. 96, 119 (бастарны отличаются от германцев). В другом месте, правда, говоря, что бастарны граничат с германцами (там же. С. 280), он предполагает,что «бастарны также, быть может, германская народность и делятся на несколько племен». Но среди этих племен оказываются и роксаланы, народность, конечно, не германская.
[Закрыть]. Тацит же гораздо больше склонен признать германцами венедов, нежели бастарнов [453]453
Тацит. Соч. Т. I. С. 372. Бастарны причисляются к германцам после оговорки, что автор не знает, причислить ли их к германцам или сарматам. Германия здесь представлена как альтернатива сарматам. Венеды, перенявшие что-то от певкинов-бастарнов (в негативном плане), скорее могут быть причислены к германцам, потому что «сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими» (там же. С. 372–373).
[Закрыть]. Кельтами признают бастарнов Полибий, Тит Ливий, Плутарх [454]454
Ср.: 3. Мади. Припонтийские кельты Античное общество. М., 1967. С. 179–182.
[Закрыть].
Археологически бастарны изучены слабо. С ними связывают культуру Поянешты-Лукашевка [455]455
Д.А. Мачинский. К вопросу о датировке, происхождении и этнической принадлежности памятников типа Поянешты-Лукашевка Археология стран Старого и Нового Света. М., 1966. С. 82–96.
[Закрыть]. Поскольку эта культура стоит неизмеримо ниже центральноевропейских кельтских культур, Д.А. Мачинский «согласился» отдать ее германцам [456]456
Его же. Кельты на землях к востоку от Карпат. С. 53–54.
[Закрыть]. Но это, конечно, не решение вопроса. Погребальный обряд бастарнов напоминает поморский (трупосожжения в урнах, покрытых сосудом), т. е. область балтийских венедов. В именах бастарнов никаких признаков германизмов нет: в них проявляется влияние кельтской и балканской антропонимии [457]457
З. Мади. Указ. соч. Балканскими могут быть имена с суффиксом «ст» (Аристо, Плист. Ср.: Б.М. Граков. Материалы по истории Скифии в греческих надписях ВДИ, 1939, № 3. С. 299).
[Закрыть].
В аргументации Д.А. Мачинского проявляется естественное представление о связи культуры с языком. Но уровень, достигнутый центральноевропейскими кельтами, вовсе не был обязателен для всех племен, говоривших на языках кельтской группы. С одной стороны, не все кельты вошли в центральноевропейское объединение, а с другой – у кельтов может быть более чем у других европейских племен заметны «перепады» – смена подъемов культуры «варваризацией».
На Балтийском Поморье, как отмечалось, на рубеже н. э. еще сохранялся отличный от собственно кельтского венетский язык. Вместе с тем сюда издавна проникало и кельтское влияние, а ряд племен, по-видимому, говорили на диалектах кельтского языка. И если у бастарнов прослеживаются какие-то кельтизмы в языке, то их необязательно связывать с центральноевропейскими кельтами. Такую окраску их язык мог получить и в Прибалтике.
На рубеже III и II вв. до н. э. ольвийский декрет в честь Протогона упоминает крупные силы «галатов и скирров», незадолго до этого угрожавших городу. «Жестокости галатов» опасались также скифы и другие причерноморские племена [458]458
B.Latyschev. Inscriptiones oraeseptentrionalis Ponti Euxini. Petropoli, 1916, 1, № 32. 85 F. Stahelin. Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte // Festschrift zum 60. Geburtstage von Th. Pluss. Basel, 1905, S. 46–56. В немецкой литературе преобладает представление, что бастарны в данном случае ошибочно названы галатами (ср.: П.О. Карышковский. Истрия и се соседи на рубеже III–II вв. до н. э ВДИ, 1971, № 2. С. 53, прим. 102). 3. Мади (указ соч.) склонен считать это название соответствующим действительности.
[Закрыть]. Высказывалось мнение, что под «галатами» в данном случае имелись в виду бастарны [459]459
Там же.
[Закрыть]. Галатами греческие авторы именовали кельтские племена, причем о составе угрожавшего Ольвии союза они получили достоверные сведения от перебежчиков [460]460
Ср.: И.О. Карышковский. Указ. соч. С. 53.
[Закрыть]. Существенно также, что ветвь бастарнов – певкины при крещении просили себе епископа из Галатии, что имело смысл только при языковой близости тех и других. Что касается скирров, то одноименное племя упоминается в Южной Прибалтике. Очевидно, они также входили в первую волну колонизационного движения от Прибалтики на юг и юго-восток. Их древности не выявлены, и обычно они сближаются либо с бастарнами, либо с причерноморскими иранскими племенами, либо с германцами. Если учесть, что этноним известен также в Прибалтике, их, как и бастарнов, следует связывать с поморской культурой и этнически с прибалтийскими венетами. Противоречия источников в определении их этнической принадлежности, видимо, из того и проистекает, что язык венетов был настолько близок к кельтским, что его можно было признать за «галатский», и настолько отличался от него, что его можно было назвать «германским», т. е., в данном случае, просто не-кельтским. Самое разделение «галатов» и «скирров» как разных, очевидно, и по языку племен может указывать и на разную степень кельтской окраски языка и культуры пришельцев. С другой стороны, кельты придунайской области (если нападение на Ольвию приходилось на время после 212 г. до н. э.) после разгрома их государственного образования должны были искать прибежища у соседних нейтральных племен, каковыми в это время и являлись бастарны [461]461
Декрет в честь Протогена датируется рубежом III–II вв. до н. э., т. е. после разгрома образования придунайских кельтов. (Ср.: Т.Н. Книнович. К вопросу о датировке Ольвийского декрета в честь Протогена /, ВДИ, 1966, № 2). Но об угрозе со стороны галатов говорится как о факте прошлого, что может быть отнесено ко времени как до, так и после 212 г. до н. э. С другой стороны, не случаен наплыв кельтских вещей в Причерноморье (равно как и в области пшеворской и зарубинецкой культур) именно во II в. до н. э., а не ранее, когда существовали мощные кельтские объединения в Центральной Европе и на Дунае.
[Закрыть].
Таким образом, с конца III в. до н. э. по всему юго-западному ареалу Среднего Поднепровья располагаются племена и этнические группы кельтического и поморско-балтийского происхождения. Просачиваются они и в самое Приднепровье. Несколько позднее в этом же направлении продвигаются и дако-фракийские племена, отходящие под натиском римлян. К последним, в частности, относится липицкая культура первых веков н. э., существовавшая относительно короткое время в Северном Поднестровье [462]462
Ср.: В.М. Цигилик. Населення Верхнього Подністров'я перших столітть Нашої ери. (Племена липицької культури). Київ, 1975.
[Закрыть].
Вторжение сарматских племен в Причерноморье привело к ряду передвижений и в другом направлении: с востока на запад и северо-запад. В то время, как остатки скифов, тавров и других древнейших насельников этого района, искали защиты у греческих городов-государств или просто в районах неудобных для кочевий, пришедшие в движение кочевые племена проникали все далее на запад, смешиваясь с другими варварскими племенами или сдвигая их с насиженных мест. Среди пришельцев возвышались то одни, то другие племена, возникали союзы, называемые обычно по какому-то преобладающему в данный момент племени. Некоторые племенные наименования позднее послужили основанием для создания концепций начала Руси или, по крайней мере, происхождения имени «Русь» [463]463
Здесь искал истоки Руси М.В. Ломоносов. Позднее эту идею пытался обосновать Д.И. Иловайский (ср. его: Разыскания о начале Руси. М., 1882. С. 74 и далее), полагавший, что племена эти были славяноязычными. Это мнение отразилось у Г. Вернадского. Ср.: G.Vernadsky. Ancient Russia. New Haven and London, 1964, P. 76. См. также: С.П. Толстов. Из предыстории Руси // СЭ, сб. VI–VII. М.-Л., 1947. С. 42–43. К этой точке зрения одно время примыкал М.И. Артамонов (ср. его: Спорные вопросы древнейшей истории славян и Руси, КСИИМК. Вып. VI, М.-Л., 1940. С. 13). Склонялся к нему и П.Н. Третьяков (см.: У истоков древнерусской народности. С. 104–105), хотя окончательное решение вопроса он оставлял открытым.
[Закрыть]. Имеются в виду прежде всего аорсы и роксаланы. Аорсы – ираноязычные племена, обитавшие до н. э. в низовьях Волги и далее на восток. Во II–III вв. н. э. это название вытесняется именем «аланы», коих будут называть также и «русами» (об этом речь пойдет ниже). Как бы оба названия соединило в себе племя «роксаланов» [464]464
Ср.: С.П. Толстов. Из предыстории Руси. С. 42.
[Закрыть]. Оно, во всяком случае, легко этимологизируется как состоящее из двух компонентов «рокс» – из иранского «светлый, блистающий, белый» речь идет явно о племени, считавшем себя особо благородным среди алан (о последнем варианте речь будет ниже), – и «аланы» [465]465
На это было указано еще В. Миллером. См. его: Осетинские этюды. Ч.III Ученые записки Московского университета, 1887, № 8. С. 86.
[Закрыть].
Имя аорсов и роксалан, несомненно, способствовало укреплению традиции, по которой «Русь» рассматривалась как один из древнейших народов Причерноморья. Но следует учитывать настойчивое указание восточных источников на «два вида русов». О действительной роли в создании Древнерусского государства этих «видов» речь будет ниже. Здесь отметим, что аланы принимали самое активное участие в Великом переселении народов, неоднократно проходили до крайнего северо-запада Европы, послужили версии о приходе норманнов во II в. с Дона, крайне запутав «норманскую проблему» вообще [466]466
См. В.А. Кузнецов, В.К. Пудовин. Аланы в Западной Европе CA. 1961. № 2; В.Б. Виноградов. Аланы в Европе ВИ, 1974, № 8; MGH SS. Т. VI. Hannoverae, 1844, PP. 576, 689. Некоторые источники будут рассмотрены в связи с норманской проблемой.
[Закрыть].
2. Среднее Поднепровье в черняховское время (II–V вв.)
Во II в. в Приднепровье и Причерноморье складывается яркая культура, получившая в археологической литературе название Черняховской. О ее природе и истоках, равно как о преемниках, ведутся многолетние споры. В германской литературе ее обычно связывают с готами. Высказывалось такое мнение и в нашей литературе [467]467
Ср.: М.И. Артамонов. Вопросы расселения восточных славян и советская археология Проблемы всеобщей истории. Л., 1967. С. 49 и др. Ранее автор придерживался мнения о славянской (антской) ее принадлежности (ср. его: Происхождение славян. Л., 1950. С. 21, где критиковалась «немецкая националистическая наука»). Различным германским племенам приписывала культуру М.А. Тиханова. См. ее: Еще раз к вопросу о происхождении Черняховской культуры / КСИА, вып. 121. М., 1970. Примерно той же точки зрения, с некоторыми оговорками, придерживался Ю.В. Кухаренко (ср. его: Волынская группа полей погребений и проблема так называемой готско-гепидской культуры / КСИА, вып. 121).
[Закрыть]. Некоторое время назад у археологов преобладало мнение о славянстве культуры. Дольше других на этой точке зрения стояли украинские авторы [468]468
См.: М.Ю. Брайчевський. Похождения Pyci. Київ, 1968; Є.В. Махно. Пам'ятки культури полiв поховань черняхівського типу Археологія. Т. IV, Київ. С. 76–88. И ряд других. Последовательно настаивал на славянстве черняховцев Э.А. Сымонович. Ср.: его. Итоги исследований Черняховских памятников в Северном Причерноморье История и археология Юго-Западных областей СССР начала нашей эры. М., 1967; и др.
[Закрыть]. Позднее стали больше уделять внимания иранским, фракийским и кельтским истокам культуры [469]469
Ср.: Г.Б. Федоров. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н. э. 7 МИА, № 89. М., 1960. С. 90–97 (гетские трупосожжения и сарматские трупоположения. – источники Черняховского биритуализма); Э. А. Рикман. О фракийских элементах в Черняховской культуре Днестро-Дунайского междуречья // Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969; и др.; В.И. Бидзиля. Латенские традиции в черняховской культуре (тезисы доклада), КСИА, вып. 121; М.Б. Щукин. Черняховская культура и явление кельтского ренесанса, КСИА, вып. 133.
[Закрыть].
От II в. н. э. дошло довольно обстоятельное описание «Сарматии» Птолемея. Хотя этому греческому географу посвящено ряд работ, источниковедчески он изучен явно недостаточно. Обычно отмечаются анахронизмы в его изложении или слабое знание глубинных районов «Сарматии» (особенно территории между Днепром и Доном) [470]470
Ср.: Ю. Кулаковский. Карта европейской Сарматии по Птолемею. Киев, 1899. С. 22 и далее; A.M. Ременников. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом в III веке. М., 1954. С. 9; Скептическая традиция в отношении к Птолемею у нас шла от Н.М. Карамзина, который отправлялся от работавших в России немецких ученых. С попыткой «реабилитации» Птолемея выступил В. Борисов (см. его. Карта Сарматии (нынешней России) во II в. по р. Хр. по греческому географу Птолемею. Вып. 1. Ковна. 1909).
[Закрыть]. Отмеченные недостатки характерны для всей древнейшей географической литературы, и почти каждый географ был самостоятельным исследователем. Географы искали источники, сопоставляли их, принимали решения согласно каким-то общим представлениям. Птолемей пользовался градусной сеткой. Так он распределял племена относительно друг друга. Поскольку обычными источниками географических сведений являлись сообщения путешественников, маршруты которых переводились на «дни пути», ошибки в размещении были неизбежны: даже незначительное смещение направления могло отодвинуть друг от друга соседние племена. Не исключено и смешение одних племен с другими: у всех народов соседние территории часто носят название по традиции, даже если населения с таким названием давно уже нет на этом месте. Тем не менее подобные указания весьма ценны, поскольку они указывают, по крайней мере, время, не позднее которого тот или иной народ появился на данной территории.
Среди Птолемеевых племен, населявших Сарматию, в разных планах представляют интерес аварины (обарины) и омброны в районе истоков Вислы (Вистулы), игиллионы, проживавшие где-то восточнее, соседившие с аорсами боруски и занимавшие территорию между бастарнами и роксаланами хуны [471]471
В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, ВДИ, 1948, № 2. С. 236–237; В. Борисов. Указ. соч. С. 3–4.
[Закрыть]. Первое племя представляет интерес совпадением его названия с появившимися здесь позднее тюркоязычным племенем. В русской летописи отразились предания о насилиях, которые причиняли обры славянам-дулебам, причем дулебов летописец помещал на Волыни. Обры были «телом велици и умом горди». Однако «Бог потреби я, и помроша вси, и не остася ни един Обърин». Все это представляло живейший интерес и для Руси, поэтому, как сообщает летописец, «есть притъча в Руси и до сего дне: погибоша аки Обре; их же несть племени ни наследка» [472]472
ЛЛ, С. 11. Ср.: С. 12: «Дулеби живяху по Бугу, где ныне Велыняне».
[Закрыть]. Хотя сам летописец не сомневался в том, что имеются в виду авары, угрожавшие в VII в. Византии, более вероятно, что русская притча отражает более ранние события. Отношения славян с аварами-тюрками вообще касались не только дулебов. А Русь они практически не затрагивали. Да и характер отношений был иной: славяне в VI–VII вв. повсеместно наступают. Для византийцев авары и славяне – две равнозначные противостоящие им силы. Славяне и контактировали с аварами главным образом на Нижнем Дунае, у границ с Империей. «Гордые умом» обры должны были находиться по соседству с Русью. В этой связи может представить интерес еще одна параллель. Слово obar по-кельтски означает «тщеславие». Очень может быть, что такое название племя получило со стороны, причем именно в кельтской среде. Летописец своим эпитетом дает перевод этого кельтского названия.

Карта «Германии» Тацита
Соседнее с обаринами племя омбронов хорошо знакомо по более раннему периоду. Это родственное тевтонам и кимврам племя амбронов, принявшее участие в походе на юг в Италию в конце II в. до н. э. С одноименным племенем им пришлось встретиться в Галлии у берегов Роны. И означало оно – живущие по обеим берегам Роны [473]473
К.Н. Schmidt. Die Komposition in gallischen Personennamen. Tübingen, 1957. S. 56–57 (Ambi– dravi, Amb– isontes, Ambi– savi, Ambi– renus).
[Закрыть]. После поражения, понесенного у северо-западных пределов Италии, амброны – выходцы с северного побережья Ютландии, куда-то ушли. Птолемей застал их в Прикарпатье, у истоков Вислы. Это племя появилось здесь, очевидно, позднее, чем остатки фракийских племен, а культура их, видимо, была ближе ютландским кимврам и тевтонам, чем центральноевропейским кельтским племенам боев или вольков.
Иггилоны могут сопоставляться с именем Иггивлада из договора Игоря с греками. Возможно, того же корня и имя Игельд (тоже купец из договора Игоря) [474]474
ЛЛ. C. 46.
[Закрыть]. В первом случае возможен механический перевод из греческого вместо Ингивлад (удвоенное «г» в греческом читается как «нг»). Но не исключено, что эти корни вообще одного порядка и речь идет об одном из племен ингевонской ветви. На территорию восточнее Вислы они могли попасть в потоке движения вендских племен из Поморья.
Племенное название борускиизвестно в Прибалтике [475]475
У Географа Баварского (VIII–IX вв.) упоминаются в Прибалтике Пириссани и Бруци. Последние, очевидно, – пруссы, которые пишутся в ранних источниках и как Бруссы. Автор XVII в. Г. Гарткнох объяснял этноним как По-руссы. Т. е. живущие по реке Руса – рукаву низовьев Немана. (Ch.Hartknoch. Selectae dissertationes Historicae de variis rebus Prussicis. Havniae, 1679, P. 63–64). Из пояснения автора следует, что этноним традиционно объяснялся из славянского языка.
[Закрыть]. В данном случае племя с таким именем оказывается далеко на Левобережье Днепра. С III в. на этой территории упоминается племя боранов, которое некоторые авторы отождествляют с борусками [476]476
A.M. Ременников. Указ. соч. С. 10, 90. Автор, впрочем допускает и отождествление их с булопами Птолемея. Булонов или Болонов, можно было бы сближать и с полянами. Но Птолемей помещает их в бассейне Вислы, и речь может идти о польских полянах, или полонах.
[Закрыть]. Этническая принадлежность их затруднена, поскольку неясно, какие именно древности должны с ними связываться. Но можно обратить внимание на характер чередования «рус» и «ран». Аналогичное чередование наблюдается в отношении названия населения балтийской Ругии (об этом речь будет ниже). Если, как полагают некоторые авторы, этноним носит славянский характер, это будет аргументом в пользу существования Руси в Приднепровье во II в. н. э. При этом собственно «Русь» может быть и неславянской, но среди ее соседей должно предполагать славян.
Первое упоминание «гуннов» в Причерноморье относится еще ко времени до Птолемея: их называет около 160 г. Дионисий Периегет [477]477
Ср.: А.Н. Бернштам. Очерк истории гуннов. Л., 1951, С. 135.
[Закрыть]. Птолемей (два десятилетия спустя) помещает их по оба берега Днепра на довольно обширной территории (между бастарнами и роксаланами). В сущности, это вся территория Черняховской культуры. Поскольку потрясавший Европу гуннский союз складывался только в конце IV в., важно было бы установить, какое отношение ранние гунны имели к последующим.
В вопросе о происхождении «настоящих» гуннов у специалистов расхождений практически нет: считается, что это племя, пришедшее в Европу из Азии. Однако остается неясным, в каком отношении позднейшие гунны находятся к гуннам II столетия. Мнение о том, что это первая волна, просочившаяся с востока, нуждается, по крайней мере, хоть в каком-то обосновании. А.Н. Бернштам полагал, что пришельцы принесли с собой во II в. в Причерноморье только имя, за которым скрывались местные племена [478]478
Там же. С. 37.
[Закрыть]. И это положение более чем спорно.
Обращаясь к этой проблеме, необходимо учитывать, что какие-то уральские племена прошли морем и расселились по побережью Атлантического океана едва ли не с эпохи неолита, когда «Ледовитый» океан вообще не замерзал. Племенные и личные имена с корнями «гун» и «инг» означают, как и в большинстве племен древнейшей эпохи, высокое звание: «муж», «человек». И больше всего остатков этой древности сохранили кельтские языки. Достаточно сказать, что широко распространенное (и до сих пор) в Прибалтике имя Инга в кельтских языках – просто «девушка».
Нельзя не обратить внимания на глубокую путаницу в источниках и ранней историографической традиции в связи с определением этнической природы гуннов. Так, в «Норманской хронике» (837–891 гг.) имеется свидетельство, размещающее «гунов» среди населения острова Сканзы (т. е. Скандинавии) [479]479
MGH SS. Т. I. Hannoverae, 1826, Р. 532 (Gothi et Huni atque Daci). Ср. T. III, P. 425.
[Закрыть]. Отстаивая традиционное норманистское положение об этнической однородности скандинавского населения, А. Стендер-Петерсен заметил, что «анналист, очевидно, хотел блеснуть своими поверхностными познаниями и прибавил отсебятину самого плохого качества» [480]480
А. Стендер-Петерсен. Ответ на замечания В.В. Похлебкина и В.Б. Вилинбахова. «Kuml». Arhus, 1960. С. 145.
[Закрыть]. Объяснение явно также не лучшего качества, тем более что еще один автор говорит примерно о том же: Видукинд (X в.) отмечает, что «гунны вышли из готов, а готы, как повествует Иордан, вышли с острова по названию Сульце» [481]481
Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975. С. 74, 127.
[Закрыть].
Имеется группа источников, которая сближает гуннов со славянами. Известно, что название «Хунгария» – Венгрия явилось в результате осмысления династии венгерских королей в качестве преемников Аттилы. В славянской же историографии было распространено убеждение, что «хунгары» – это славяне, пришедшие из Поморья, от реки Втра или Укра. Отсюда в некоторых случаях смешение «укран» с «унгарами» [482]482
Ср.: «Pomniki dziejowe Polski». T. VIII, cz.2. Warszawa, 1970, str. 134–135; MGH SS. T. VI, P. 362 (Ungariorum – так называются Гротевитом славяне под 880 годом. Т. е. еще до прихода венгров в Дунайскую котловину). Ср. также: А. Павинский. Полабские славяне. СПб., 1871. С. 59.
[Закрыть]. Сам Аттила в средневековой славянской традиции воспринимался нередко в качестве первого короля Померании или в качестве первого правителя вандалов, коих обычно рассматривали как предков славян на территории между Эльбой и Вислой. В качестве такового Аттила рассматривается в «Хронике Великопольской», где также ставится знак равенства между хунгарами и вандалами. В саге о Тидреке Бернском «Гуналанд» располагается на запад от Польши и прямо отождествляется с Фрисландией [483]483
См.: А.Н. Веселовский. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском) / ИОРЯС. T. XI, Кн. 3, СПб., 1906. С. 4–5.Текст воспроизведен в издании «Откуда есть пошла Русская земля». Кн. 1, М., 1986, С. 573–632, анализ сведений – С. 542–550.
[Закрыть]. П. Шафарик привел большое количество сведений о позднейшем смешении славян с гуннами, причем даже в XIX в. немцы именовали «гуннами» группу славян, проживавших в Швейцарии [484]484
П. Шафарик. Славянские древности. Т. 1, Ки. 1. М., 1837. С. 259.
[Закрыть]. «Городом гунов» в некоторых сагах именуется балто-славянский Волин, а этническое название «гунов» распространяется на вендов-венедов [485]485
Там же. С. 257–258.
[Закрыть]. С другой стороны, Адам Бременский (XI в.) знал, что Русь, называвшаяся варварами Дании Острогардом, имела еще и другое название: Хунгард, поскольку здесь первоначально проживали гунны. Этот сюжет повторяет и Гельмольд, склонный и предполагаемых потомков гуннов – венгров отнести к славянам [486]486
Adam Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Hannoverae et Lipsiae, 1917. P. 240: Ruzzia vocatur a barbaris Danis Ostrogard… Haec etiam Chunigard appelatur со quod ibi sedes Hunorum primo fuerit». Гельмольд. Славянская хроника. M., 1963. С. 33.
[Закрыть].
Авторам V в., оказавшимся свидетелями разрушительного гуннского нашествия, естественно, пришлось доискиваться истоков появления в Европе этой мощной силы. И снова, как это неоднократно было в связи с оценкой вновь возникавших образований, столкнулись автохтонная и миграционная версии. Так, автору IV в. Филосторгию казалось, что «унны» – это Геродотовы «невры», спустившиеся от истоков Танаиса к Мэотийскому озеру. Зосим в конце V в. оставляет как равнозначные две версии: автохтонная (царские скифы или другое местное население) и миграционное (переселение из Азии). Приск Паннийский (V в.) называет гуннов «царскими скифами». Иордан производит их от изгнанных «пятым» готским королем Филимером ведьм, т. е. тесно увязывает происхождение гуннов с готами [487]487
Ср.: А.Н. Бернштам. Указ. соч. С. 136–137; Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960. С. 90.
[Закрыть].
Уже по крайней мере со времен П. Шафарика путаницу источников о гуннах объясняли разнородностью возглавляемого гуннами союза племен. Такое объяснение, однако, не может быть признано достаточным. Восточные «хунну» – это, очевидно, тюрко-монгольские племена, хотя возникавшие там образования включали индоевропейские и уральские племена. В гуннах II в. района Приднепровья нет никаких оснований видеть тюрок, как не видно их следа и в «Гуналанде» – Фрисландии. Напротив, и археологические, и лингвистические данные свидетельствуют о их индоевропейской принадлежности (может быть с очень древним уральским налетом).
Иордан отметил обычай племен «перенимать по большей части имена» и указал на «гуннское» происхождение многих имен готов [488]488
Иордан. Указ. соч. С. 77.
[Закрыть]. Это указание иногда корректируется в том смысле, что, наоборот, гунны заимствуют германские имена [489]489
Там же. С. 332, прим.653 (комментарий Е.Ч. Скржинской).
[Закрыть]. Но, очевидно, Иордан, равно как и его потенциальные читатели, понимали, что имена эти не германские. Вместе с тем в них нет и какого-либо тюркского элемента. Это особый пласт индоевропейских имен.
Круг имен, воспринимавшихся Иорданом и его современниками как не-германские, «гуннские», достаточно хорошо известен. Это имена т. н. «германских» племен, вторгнувшихся в Центральную Европу с побережья Северного моря и из Прибалтики: ругов, вандалов, гепидов и т. д. В них очень часто повторяется и компонент «гун»: Гунимунд, Гунильда, Гунар, Гундобад и т. п. Можно с большой долей уверенности предполагать, что компонент «гун» в данном случае обозначает либо племенное название, либо просто человека. Весьма вероятно, что в конечном счете истоком такого обозначения окажется упомянутая древняя уральская языковая ветвь. Но на рубеже н. э. оно уже воспринималось как коренное местное. В кельтских языках, помимо отмеченного выше, корень hun охватывает целый ряд понятий, связанных с субъектом: это определение «сам», указательное местоимение «этот». Родственным по происхождению может быть и такое «удобное» для личных и этнических наименований слово, как gnath – «известный» (ср. украинское Гнат, Гнатюк).
В IV в. вместе с другими племенами из Восточной Европы на Дунай вторглись и тюркские племена, которые тоже приняли имя «гуннов». У новых «гуннов» тюркский элемент проявлялся и в их облике (на что указывают многие источники), и в культуре, и в именах. Однако преобладают индоевропейские «гуннские» имена. Приск указал, что «гуннский» язык отличался от собственного «варварского» языка части правящей верхушки, который употреблялся лишь в качестве домашнего. На «гуннском» языке Приск называет два слова: название напитка – medos и название погребальной тризны – strava. Многие авторы на основе этих примеров приходили к заключению о славянском присутствии в гуннском объединении [490]490
Ср.: П. Шафарик. Указ. соч. T. I, Кн. 2. С. 256–257; А.Н. Бернштам. Указ соч. С. 159, 167.
[Закрыть]. Последнее не исключено. Осторожнее и правильнее, однако, рассматривать этот язык как родственный славянским. Так, напиток medd в том же значении, что и у славян, был распространен и у кельтов. Слово «страва» для определения пищи, довольствия, стола, а затем и подати продовольствием – известно древнерусскому языку и некоторым современным славянским (например, чешскому и польскому). В форме strova понятие имелось в литовском языке. В последнем случае не исключено славянское влияние. Но возможно и просто более широкое распространение корня в гуннскую эпоху (в частности должно учитывать исчезнувшие иллиро-венетские языки).
Некоторые «гуннские» имена, видимо, поддаются этимологии. Характерным «гуннским» является имя самого Аттилы (согласно саге о Тидреке Бернском, конунге фризов, которого конунг вилькинов, т. е. вильцев-лютичей, Озантрикс третировал как ниже стоявшего на генеалогической лестнице), оно явно индоевропейское. В.М. Жирмунский объяснял его из готского языка как «батюшка» [491]491
ВДИ, 1938, № 4(5). С. 260.
[Закрыть]. Значение, видимо, такое, но не в готском языке. Это как раз одно из характерных «гуннских» имен, и смысл его легко раскрывается из кельтских языков. Ирландское athir значит «отец». Еще ближе шотландское Athill (Hathill) – «знатный» [492]492
Ср.: Г. Льюис. и X. Педерсен. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954. С. 53; W. A. Craigie. A dictionary of the older scottish tongue from the twelfth century to the end of the seventeenth. Vol.III. Chicago, 1953–1957, PP. 66–67.
[Закрыть]. A.A. Шахматов сопоставлял славянское «отец» с кельтским oticos – человек из boaire [493]493
А.А. Шахматов. К вопросу о древнейших славяно-кельтских отношениях. С. 45.
[Закрыть]. Специалисты отмечают в качестве характерного отличия кельтских языков утрату начального «p» (иногда с промежуточным переходом в h) [494]494
Г. Льюис и X. Педерсен. Указ. соч. С. 52–53.
[Закрыть]. Эта закономерность, по-видимому, отражалась и в языке, названном Приском и Иорданом «гуннским», в известной мере не чужды ей и славянские языки.