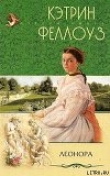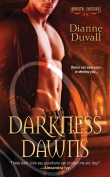Текст книги "Обладать"
Автор книги: Антония С. Байетт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
считать, будто во всякой истории достоверен только её смысл, будто всякая история есть лишь символическое изображение вечной истины – такое суждение первый шаг к тому, чтобы уравнять все религии между собою… А существование одних и тех же истин во всех религиях – могучий довод как в пользу, так и против наибольшей истинности какой-то одной религии.
Теперь я должен сделать одно признание. Сначала я написал это письмо по-другому – и уничтожил. В этом уничтоженном письме я призывал Вас – призывал от души – крепче держаться своей веры, не увлекаться «извивами и оплётами» критической философии; я писал, хоть, может быть, это и вздор, что женский разум – а он не так замутнён, более послушен голосу интуиции и менее предрасположен к искривлениям и вывертам, чем обыкновенно мужской, – возможно, он как раз и привержен истинам, которые ускользают от нас, мужчин, отвлечённых своими бесконечными вопрошаниями, этим большей частью суемудрием по привычке. «У человека может быть не меньше прав на владение истиною, чем у иного – на владение городом, и всё же он будет принуждён сдать это достояние противнику», – мудро заметил сэр Томас Браун [67]67
Цитата из трактата Т. Брауна «Religio medici».
[Закрыть]., и быть орудием той силы, которая во имя своих несостоятельных притязаний принудит Вас отдать ключи от этого города – такая роль не по мне.
Но потом я рассудил – рассудил справедливо, не так ли? – что Вам едва ли понравится, если я избавлю Вас от участия в споре на основании превосходства Вашей интуиции и оставлю поле боя.
Не пойму, отчего мне пришла эта мысль – не пойму, как я догадался, но поручиться готов, что это так, а значит, не вправе я, беседуя с Вами, отделываться недомолвками, хуже того: не вправе из приличий обходить молчанием столь важный предмет. Вы, должно быть, заметили – с Вашим зорким умом не заметить! – что нигде в этом письме нет и намёка на то, что я разделяю бесхитростные, может, наивные взгляды юного сочинителя «Рагнарёка». Но если я изложу свои взгляды – что-то Вы обо мне подумаете? Будете ли Вы и впредь писать мне столь же откровенно? Не знаю. Но знаю, что во мне говорит потребность высказаться начистоту.
Я не сделался ни каким-то атеистом, ни тем паче позитивистом – по крайней мере, не дошёл до совсем уж радикальных воззрений тех, кто сводит религию к поклонению человечеству; я желаю своим собратьям по роду человеческому всяческого благополучия и нахожу их бесконечно интересными, однако же «есть многое на свете, друг Горацио», что было сотворено для иных целей, нежели их – то бишь наше – благополучие. Обратиться к религии побуждает обычно потребность возложить на кого-то свои упования – либо способность удивляться; мои религиозные чувства питала всегда именно эта способность. Трудно мне обретаться на свете без Творца; чем больше мы видим и познаём, тем больше удивительного открывается нам в этом нагромождении хитро сопряжённых друг с другом явлений – нагромождении отнюдь не беспорядочном. Впрочем, я чересчур тороплюсь. И притом я не могу, не имею права докучать Вам полным изложением своего символа веры: всё равно это не больше, чем крайне сумбурный, крайне бессвязный набор – вернее, пока ещё горстка – идей, ощущений, полуправд, удобных вымыслов. Я не обладаю символом веры – я в бореньях его добываю.
Дело в том, любезная мисс Ла Мотт, что мир, где мы живём – это старый мир, мир утомлённый – мир, который наслаивал и наслаивал теории и наблюдения, покуда истины, так, должно быть, легко постигавшиеся на вешней заре человечества – снизошедшие на юного Плотина, на вдохновенного Иоанна Богослова на Патмосе – не помрачились, не сделались в наши дни палимпсестом [68]68
Палимпсест – древняя рукопись на пергаменте, где текст написан на месте стёртого, ещё более древнего текста.
[Закрыть] поверх палимпсеста, покуда их ясность не скрылась под плотным роговым наростом: так змее с её новой упругой блистающей кожей застит взгляд не вполне сброшенный выползок, – так прекрасные очертания веры, что запечатлелись в устремлённых ввысь башнях старинных соборов и аббатств, истачиваются дыханием веков и ветров, теряются в сажисто-сизой дымке, густеющей умножением наших промышленных городов, наших богатств, наших открытий, с ходом нашего Прогресса. Не будучи манихеем [69]69
Манихейство – религия, возникшая в III в. н.э. в Ираке и получившая широкое распространение в Азии и отчасти в Европе. По верованиям манихеев, во Вселенной сосуществуют царство света и царство тьмы, духовное и материальное. Душа человека томится в темнице тела и полное освобождение духа произойдёт лишь после мировой катастрофы, которая приведёт к гибели материи.
[Закрыть], я не могу поверить, будто Он, Создатель, если Он существует, сотворил нас и наш мир иными, чем мы есть. А сотворил Он нас любопытствующими, вопрошающими, и тот, кто записал книгу Бытие, справедливо относит наше ничтожное состояние на счёт той самой жажды познаний, которая в известном смысле оказывается сильнейшей из всех причин, побуждающих нас к добру. К добру, но также и к злу. И того и другого сегодня много больше, чем во времена пращуров наших.
И вот я задаюсь важнейшим вопросом: Он ли скрылся от наших глаз, чтобы мы стараниями своего дозревшего разума отыскали пути Его, такие сегодня от нас удалённые, либо это мы в силу своей греховности или какого-то огрубения кожи, непременного условия новой метаморфозы – либо это мы пришли к такому состоянию, когда неизбежно должны осознать свою слепоту и бого-оставленностъ? И что стоит за этой неизбежностью: здоровье или болезнь?
И в «Рагнарёке» – где Один-Вседержитель превращается попросту в странствующего в мире земном Вопрошателя – и неизбежно гибнет вместе со всем своим творением в последней битве на исходе страшной последней зимы – и в этой поэме я – безотчётно – уже приблизился к тому, чтобы задать подобный вопрос.
Ещё один большой вопрос – какого рода истину можно выразить в «повести о чудесах», как Вы справедливо её называете, – но я и так уж бессовестно злоупотребляю Вашим терпением, и оно, должно быть, уже на исходе: боюсь, Ваше острое и наблюдательное внимание уже и не поспевает за моей мыслью.
Я ещё не ответил на Ваше суждение об эпической Вашей поэме. Что ж, если Вам по-прежнему небезразлично моё мнение… Хотя с какой стати? Вы поэт, и ценность для Вас должно иметь лишь собственное мнение. И всё же если и моё мнение Вам небезразлично, то – почему непременно эпическая поэма? Отчего не драматическая, на сюжет из мифологии, в двенадцати книгах? Не вижу причин, почему такие поэмы, должны сочинять исключительно мужчины, а не женщины, было бы желание.
Я выразился резко? Это с досады: Вы – с Вашими дарованиями – находите нужным оправдывать свой замысел!..
Я прекрасно вижу, что оправдываться следует мне – за тон этого письма, которое я и перечитывать не стану: всё равно поправлять его я не в силах. Пусть этот черновик предстанет перед Вами со всеми погрешностями, «не причащен и миром не помазан» [70]70
У. Шекспир, «Гамлет», I, 5. Перевод Б.Пастернака.
[Закрыть], – а я – со смирением и надеждой – стану ждать, сочтёте ли вы его достойным ответа…
Ваш Р. Г. Падуб.
* * *
Уважаемый мистер Падуб.
Извините меня за молчание – которое так затянулось. Я раздумывала не над тем, отвечать ли, но что отвечать, раз уж Вы удостоили меня чести – чуть было не написала «нелёгкой чести» – да полно, нелёгкой ли? – выслушать Ваше искреннее мнение. Я не кисейная барышня из нравоучительного романа, чтобы деликатным манером ударяться в благородное негодование, едва кто-нибудь признается в своих сомнениях; я даже отчасти согласна с Вами: сомнения, сомнения – в этом мире, в наш век никуда от них не уйти. Не стану оспаривать Вашего видения наших исторических обстоятельств; да, мы удалены от Истока Света, и мы знаем такое, что мешает нам исполниться простою верою, и мешает ею проникнуться, и мешает ею воспылать.
Вы много пишете о Том – о Создателе, – нигде не называя его Отцом, – кроме как в истории о скандинавских богах, которую Вы ставите в параллель евангельской. О подлинной же истории Сына пишете Вы на удивление мало – а ведь это она в основании нашей веры: жизнь и смерть вочеловечившегося Бога, истинного нашего Друга и Спасителя, Кому подражаем мы, на Кого уповаем, видя в Его Воскресении из мертвых надежду на будущую жизнь, без чего превратности и явные беззакония в жизни земной делали бы её нестерпимой насмешкой. Но я заговорила как… как проповедник: должность, которой мы, женщины, объявлены непригодными; притом в моих словах, верно, нет ничего такого, о чём Вы – с Вашей мудростью – не передумали тысячу раз.
И всё же – будь это так, откуда бы взялось у нас представление об этом Высочайшем Образце, об этой Благороднейшей Жертве?
В ответ Вам могу выставить свидетельство Вашей собственной поэмы о Лазаре – загадочное название которой Вы должны мне когда-нибудь объяснить, В самом деле: «Deja-vu, или Явление Грядущего». В каком смысле? Мы с моей приятельницей – моей компаньонкой – заинтересовались в последнее время психическими явлениями; мы посещали лекции о необычных состояниях сознания и появлениях духов, читавшиеся тут неподалёку, у нас даже достало смелости заглянуть на устроенный некой миссис Лийс спиритический сеанс. – Так вот, миссис Лийс убеждена, что deja-vu, то есть случаи, когда человеку представляется, будто с ним происходит нечто уже происходившее прежде и, возможно, не единожды – говорят о кругообразности времени в мире ином, соседствующем с нашим земным, – там, где всё пребывает вечным, не изменяясь, не дряхлея. Надёжно же засвидетельствованная способность наблюдать явления грядущего – дар предвидения, дар прорицания, пророчества – есть ещё один род погружения в это вечно обновляющееся пространство. Если применить этот вывод к Вашей поэме, то она словно бы заключает в себе намёк, что умерший Лазарь отошёл в вечность и вернулся обратно – «из времени во время», как у Вас говорится, – и, если я правильно Вас поняла, теперь видит Время с точки зрения Вечности. Игра ума, достойная Вас: теперь, когда я знаю Вас лучше, мне это ясно; и увиденная воскресшим чудесная природа обыденных мелочей – жёлтый, в разбегающихся полосках, глаз козы, хлебы на блюде с чешуйчатыми рыбами, ждущие отправиться в печь, – всё это для Вас составляет самую суть жизни. Это лишь Вашему смятенному повествователю чудится, будто взоры ожившего мертвеца безучастны на самом деле тот видит ценность во всём – решительно во всём…
До знакомства с миссис Лийс я понимала Ваше «Явление Грядущего» в более широком смысле: как преображение Второго Пришествия – как явление грядущего Спасителя, которого мы ожидаем – когда в глазах мертвеца и малые песчинки будут просеяны и сосчитаны, как волосы на головах наших…
Сын Божий в Вашей поэме не произносит ни слова, но посланный делать перепись римлянин, от лица которого ведётся рассказ, этот приметливый ко всякой пустячной подробности чиновник – разве он, вопреки своим природным наклонностям, вопреки плоской своей чиновничьей натуре, не изумляется он разве, видя, как окрыляет присутствие этого Человека горстку уверовавших в Него, готовых с радостью жизнь за него положить, готовых и прозябать в нищете: «Для вас все жребии равны», – недоумевает писец. Он – но не мы: ибо разве тот Человек не отверз перед ними Врата Вечности, за которыми просиял им свет, озаривший хлебы и рыб?
Или, может быть, я чересчур простодушна? Не был ли Он – так горячо любимый, так тягостно отсутствующий, так мучительно мёртвый – попросту Человеком?
Удивительно живо изображаете Вы, как любят Его, как нуждаются в Его утешении лишившиеся Его женщины в доме Лазаря, неутомимая хлопотунья Марфа и воспаряющая мыслью Мария, – как ощущают они Его живое присутствие, каждая на свой лад: Марфа видит в нём устроителя домашнего благочиния, Мария – Свет Угашенный. А Лазарь видит… Лазарь видит одно: то, что видится ему всякий миг.
Вот загадка! Но я кончаю свой по-школярски корявый пересказ Вашей мастерской поэмы. – Удалось ли мне передать живое дыхание Живой истины? – Или я всего лишь явила в своём монологе изображение веры, чувства оставленности?
Вы ведь растолкуете мне свою поэму? Не есть ли Вы, как апостол: «всё для всех»? [71]71
Первое Послание к Коринфянам, 9,22.
[Закрыть] Куда меня занесло? – Куда я, я себя завела?
Скажите же мне, что Он – жив. Для Вас – жив.
Итак, любезная мисс Ла Мотт, «привязан я к столбу сносить всё должен» – это, впрочем, единственное, что роднит меня с Макбетом. [72]72
В том виде, в каком приводит это высказывание Падуб, оно встречается не в «Макбете», а в «Короле Лире», III, 7. Перевод Т. Щепкиной-Куперник. Похожее выражение действительно имеется и в «Макбете», V, 7.
[Закрыть] Когда я получил Ваше письмо, – знак того, что меня не предали отлучению, – у меня было отлегло от сердца, но, поразмыслив, я не решился тут же его распечатать и ещё долго вертел в руках: ну как его содержимое станет мне жупелом огненным?
Распечатал – и какая же в нём обнаружилась щедрость духа, какая истовая вера, какое тонкое понимание моих сочинений – не только сомнительного моего послания, но и поэмы о Лазаре. Вы ведь тоже поэт, Вы знаете: сочиняешь, бывало, а сам думаешь: «Вот удачный штрих… Эта мысль бросает отсвет на ту… Не слишком ли выйдет прямолинейно для читающей публики?.. Ни к чему так густо класть краски, изображая очевидное…» Слишком обнажённой мыслью почти гнушаешься. Но вот сочинение попадает в руки к читателям – и его объявляют и чересчур по-домашнему незатейливым и чересчур уж по-небожительски невразумительным; и ты понимаешь: всё, что ты надеялся высказать, утонуло в непроглядном тумане. И дыхание жизни в твоём сочинении слабеет, слабеет – так представляется не только читателям, но и тебе самому.
И вдруг – Вы и Ваши мудрые наблюдения, как бы вскользь, играючи, – и оживает моя поэма, оживает от одних уже недоверчивых вопросов, заключающих Ваше письмо. Воистину ли Он совершил это чудо? Вернулся ли Лазарь к жизни? Правда ли, что Богочеловек воскресил умершего, когда ещё Сам не победил смерть, или, как полагал Фейербах, эта история всего лишь воплощает человеческие чаяния?
Вы просите: «Скажите же, что Он – жив. Для Вас – жив».
Верю: жив. Но как верю? В каком смысле? Истинно ли я верую, что Человек этот вступил в склеп, где лежал уже тронутый тлением Лазарь, и повелел ему встать и идти?
Истинно ли я верую, что это всего-навсего навеянная надеждой и мечтаниями выдумка, искажённое предание простаков с прикрасами для легковеров?
История в наше время – это наука: свидетельства мы признаём с разбором, мы знаем, что такое рассказы очевидцев и в какой мере можно на них полагаться. Так вот: что видел, что поведал, что думал этот живой мертвец (я не о Спасителе нашем, а о Лазаре), как убедил своих любящих домочадцев в существовании того края, что лежит на страшном другом берегу – об этом нигде ни слова. И если я сочиняю свидетельство очевидца – правдоподобное, убедительное, – то значит ли это, что мой вымысел пробуждает к жизни истину, или что моё разгорячённое воображение наделяет жизнеподобием величайшую ложь? Поступаю ли я, восстанавливая события задним числом, как те, евангелисты? Или же я поступаю как лжепророки, раздувающие пустые свои измышления? Чародей ли я, подобный макбетовым ведьмам, который, мешая истину с ложью, лепит из них светозарные образы? Или я кто-то вроде второразрядного составителя пророческой книги: рассказываю ту истину, какую в себе нахожу, прибегая к тем вымыслам, какие признаю подходящими, – как Просперо признавал Калибана? – Я ведь нигде не утверждаю, что недалёкий, косноязычный чиновник-римлянин – не просто моя выдумка, не просто глиняные уста, моим свистом высвистывающие.
«Ну что это за ответ!» – заметите Вы и, склонив голову набок, окинув меня зорким взглядом премудрой птицы, сочтёте, что я криводушничаю.
А знаете ли, единственная жизнь, в подлинности которой я убеждён, – это жизнь воображения. Истинная ли правда – или неправда – эта давняя история про жизнь, не угашенную смертью, – но поэзия способна умножить дни жизни человека настолько, насколько станет Вашей или чьей-то ещё веры в его бытие. Не скажу, что мне под силу воскресить Лазаря, как воскресил его Он, но как Елисей – простершись на мертвеце, вдохнуть в него жизнь [73]73
Четвёртая книга Царств, 4, 34.
[Закрыть] – пожалуй, сумею…
Или как поэт-евангелист: кем-кем, а поэтами они были; учёными-историками – не знаю, но поэтами – несомненно.
Вы, понимаете мою мысль? Сочиняя, я знаю. Вспомните удивительное высказывание юного Китса: «Я не уверен ни в чём, кроме святости сердечных привязанностей и истинности воображения». [74]74
Цитата из письма Дж. Китса к Б. Бейли от 22 ноября 1817 г. (Перевод С. Сухарева).
[Закрыть]
Я веду не к тому, что «в прекрасном – правда, в правдe – красота» [75]75
Дж. Китс, «Ода греческой вазе» (Перевод Г. Кружкова). Сходная мысль содержится и в цитируемом выше письме к Б. Бейли.
[Закрыть] или ещё к какому-нибудь софизму в этом роде. А к тому я веду, что без воображения Создателя для нас ничто не живо – ни живое, ни мёртвое, ни воскрешённое, ни ждущее воскресения…
Ну вот: хотел изложить Вам свою истину, а свёл дело к тягостным софизмам. Но Вы знаете, верю: знаете…
Скажите же, что знаете – а знание это не простое, и не просто от него отмахнуться: истина – в воображении.
* * *
Уважаемый мистер Падуб.
Макбет был чародей. Если бы рождённый не женщиной не сразил его острым мечом, – как по-Вашему, неужели славный король Яков – сочинитель благочестивой «Демонологии» [76]76
«Демонология» – трактат в форме диалога, написанный королём Яковом I Стюартом.
[Закрыть] – не преисполнился бы желания послать его на костёр?
Легко Вам – в наши-то дни, – посиживая в покойном кабинете, оправдываться: «Я – что, я всего-навсего поэт, и если я утверждаю, что мы постигаем истину не иначе как посредством живой Лжи – „живой“ в обоих смыслах, – то что в этом дурного? Всё равно и ложь и истину мы впитываем с молоком матери, где они пребывают нерастворимо: таков уж удел человеческий».
А Он сказал: «Я есмь Истина и Жизнь» [77]77
Евангелие от Иоанна, 14, 6.
[Закрыть] – что Вы на это, милостивый государь? Что такое эти слова? Утверждение, всего лишь не лишённое справедливости? Или поэтическое иносказание для красоты слога? Так что же, что? Ведь это в вечности раздаётся: Я ЕСМЬ…
Я готова признать – спущусь уж с недоступной для меня кафедры проповедника, – что бывают истины и вроде тех, о которых пишете Вы. Спорить станет лишь тот, кому невдомёк, что страдания Лира, боль герцога Глостера – это всё правда, хоть люди эти и на свете не жили – вернее сказать, не жили въявь: ведь Вы скажете, что это всё же своего рода жизнь, и что У.Ш., премудрый пророк-чародей, ввёл их в такую великую жизнь, что ни одному актёру на этой сцене роль не удаётся и всем им приходится – чтобы она обрела плоть и кровь – полагаться на наше с Вами ремесло.
Но что был такое поэт в тот век исполинов, он же век вышесказанного короля Якова с его «Демонологией»? – И не только «Демонологией», но и выполненным по его воле переводом Священного Писания на английский язык – таким переводом, что всякое слово в нём гласило об истине и вере, и с каждым веком всё громче – о вере во всяком случае – до самых времён нашего безверия.
Что был поэт тогда – прорицатель, дух путеводный, сила природы, целый мир, – то не есть он теперь, в наше, время материалистического огрубения…
Быть может. Ваше добросовестнейшее восстановление картин прошлого – как бы подновление старинных фресок – это наш путь к истине. Присадка неброских заплат. Согласны ли Вы с таким уподоблением?
Мы снова были на лекции о недавних спиритических явлениях, читанной одним достопочтеннейшим квакером. Вначале он говорил о склонности людей верить в существование духов – но верить не для пошлого удовольствия поражаться невиданному или щекотать себе нервы. Сам англичанин, он отзывался об англичанах примерно в таких же выражениях, что и поэт Падуб. Мы, говорил этот добрый человек, черствы двойной зачерствелостью. Торгашество и протестантское отвержение духовных связей вкупе произвели в нас окаменение, окостенение. Мы грубые материалисты и приемлем лишь материальные, как мы их называем, доказательства фактов духовного порядка, оттого духи, снисходя к нашей слабости, разговаривают с нами посредством стуков, шорохов и мелодического гудения, в каких прежде – когда мы были исполнены, живой пламенной веры – не было нужды.
Он прибавил, что у англичан зачерствелость эта усугублена тем, что мы обитаем в более плотной атмосфере, не столь насыщенной электричеством и магнетизмом, как в Америке, жители которой заметно превосходят нас впечатлительностью и возбудимостью; они более умелы по части общественного устройства, больше верят в возможность усовершенствования человеческой натуры. Американский ум – под стать тамошним общественным учреждениям – разрастается с быстротою тропических джунглей и вследствие этого более свободен и восприимчив. Американками были сестры Фокс, первыми услыхавшие производимые духами стуки, американец и сподобившийся откровения автор труда Univercoellum Эндрью Джексон Дэвис, Америка выпестовала гений Д. Д. Хоума.
Наши же «теллурические условия» – выражение, которое ласкает мне слух, а Вам? – не так благоприятствуют передаче духовных впечатлений.
Какого Вы мнения об этих предметах, которые нынче занимают всё общество и взбаламутили даже тихие воды нашей ричмондской заводи?
Не таким бы письмом отвечать на Ваши проникновенные суждения о Китсе и поэтической истине, на Ваше саморазоблачение, выдающее Вас как пророка-чародея. Письмо это пишется не с тем самозабвением, что прежние, но у меня есть оправдание: я нездорова – мы нездоровы – и у меня и у милой моей подруги сделался лёгкий жар, отчего на меня напала хандра. Нынче я весь день провела в тёмной комнате, и теперь мне легче, хотя слабость ещё не прошла.
В таком состоянии в голову лезет всякая блажь. Я чуть было не решилась просить Вас, чтобы Вы мне больше подобных писем не присылали – не смущали бы мою простую веру – не увлекали меня напором Вашей мысли и силою слога – иначе душе моей нет спасения, иначе, милостивый государь, независимости, с трудом мною завоёванной, грозит беда. Ну вот я и высказала эту просьбу – косвенным образом, обиняком, в виде упоминания о неисполненном намерении, о том, что я могла бы Вас попросить. А «могла бы» или в самом деле прошу – это уж каков будет Ваш великодушный суд.
* * *
Уважаемая мисс Ла Мотт.
Вы не запрещаете мне писать Вам и дальше. Благодарю Вас. Вы не делаете мне строгих упрёков за уклончивость в ответах и заигрывание с тайными силами. Благодарю и за это. И будет – пока что – об этих тягостных материях.
Известие о Вашей болезни очень меня огорчило. Едва ли недомогание Ваше приключилось от тёплой весенней погоды или от моих писем – хоть и докучливых, но таких сердечных, – а значит, не остаётся предположить ничего другого, как то, что виною тут красноречие Вашего вдохновенного квакера, чьи «теллурические условия», которым недостаёт магнетизма, чьи наблюдения о зачерствелости и правда доставили мне большое удовольствие. Отчего бы ему не вызвать силу, способную «расплющить шар земной»? [78]78
У. Шекспир, «Король Лир», III, 2. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
[Закрыть] Клеймить Век Материализма и тут же ссылаться на недвусмысленно материальные проявления духовного – чудо что за непоследовательность, Вы не находите?
А я и не знал, что Вы так охотно и так часто бываете на людях. Мне-то представлялось – Вы намертво заделали милую дверь Вашего домика, которая рисуется в моём воображении – куда я без воображения? – сплошь увитой розами и клематисом. Что бы Вы ответили, если бы я высказал настоятельное пожелание послушать Вашего рассудительного квакера самолично? Оставить меня без тартинок с огурцом Вы вправе, но не без пищи же духовной!
Не тревожьтесь: от такого шага я удержусь. Не хочу рисковать нашей дружбой.
Что же до стуков и бряков, то пока я прислушивался к разговорам о них без особого интереса. Я не из тех, кто в силу ли своих религиозных воззрений, из скептицизма ли считает эти явления за ничто – такого рода ничто, какой происходит от слабости человеческой, от легковерия, от страстного желания почувствовать рядом живое присутствие тех, чей уход стал для нас горькой утратой – а такое желание случалось испытывать всякому. Я склонен верить Парацельсу, который утверждал, что иные духи низшего разряда, обречённые обитать в воздушной стихии, беспрестанно рыщут по земле и временами, когда ветер и игра света этому благоприятствуют, нам представляется редчайший случай увидеть их или услышать. (Вполне допускаю, что многие из таких происшествий можно отнести к мошенническим проделкам. И уж тем более допускаю, что престиж Д. Д. Хоума роднит с престидижитацией не только происхождение от одного слова, и это обстоятельство поспешествовало его славе больше, чем какой-то особый дар общения с духами.)
Кстати о Парацельсе – мне вдруг вспомнилось, что как раз один из таких духов, упомянутых в его трудах – Ваша фея Мелюзина. Знаком Вам этот отрывок? Без сомнения знаком – и всё же я его выпишу, настолько он любопытен. А к тому же мне хочется узнать, не с этой ли стороны заинтересовала Вас история о фее – или, может быть, Вас больше занимают её созидательные наклонности, возведение замков, о которых Вы, помнится, рассказывали?
Мелюзины суть королевские дочери, закосневшие в грехе. Сатана, их унесши, обращает их в призраков, злых духов, живых мертвецов, вернувшихся из-за гроба, в страшных чудищ. Считают, что диковинные эти тела не имеют в себе разумной души, а питанием им служат составы стихий, оттого на Страшном Суде они, как и питающие их стихии, обратятся в ничто, если прежде не соединятся браком с человеком. Брачный же этот союз делает то, что они получают земное существование и кончину свою принимают также по образу всего земного. О призраках этих слышно, что обитают они в пустынях, в замках, в гробницах и заброшенных склепах, среди развалин и по берегам морским.
Расскажите, пожалуйста, как подвигается Ваша работа. Подталкиваемый своим безграничным эгоизмом и Вашими участливыми расспросами, я разглагольствовал о своём «Рагнарёке», о «Deja-vu», а про «Мелюзину» – хоть Вы и намекнули, что не прочь о ней написать, – даже не обмолвился. А ведь из-за неё-то и завязалась наша переписка. Я помню, мне кажется, каждое словечко той нашей беседы, помню Ваше лицо, обращённое несколько в сторону, но неравнодушное, помню, с каким чувством Вы говорили про «жизнь языка». Помните это выражение? Я начал разговор с дежурной учтивостью. Вы сказали, что хотите написать большую поэму о Meлюзине и взглянули на меня как-то так, словно вызывали меня на возражение – как будто у меня были к тому основания или охота. – Я спросил, какую форму изберёте Вы для поэмы: спенсерову строфу, нерифмованный пятистопный ямб или иной размер. – И вдруг Вы заговорили про силу, таящуюся в стихе, про жизнь языка. Куда подевался смущённый и виноватый вид: в ту минуту Вы были само – да простится мне это слово – величие. «Пока дух мой держится в теле» [79]79
У. Шекспир, «Гамлет», II, 2. Перевод Н.Полевого.
[Закрыть] – не скоро забуду я эту минуту…
Надеюсь в следующем письме получить известие, что Вы – и, конечно, мисс Перстчетт – уже в добром здравии и яркое вешнее солнце вам опять нипочём. А ещё надеюсь, что следующее письмо не принесёт известия о новых посещениях лекций, трактующих о чудесах: я не убеждён, что такие лекции действуют благотворно. Но раз уж Вы позволяете лицезреть себя квакерам и столоверченцам, не буду и я терять надежду как-нибудь продолжить с Вами разговор о стихотворстве и – кто знает – вкусить-таки ломтиков зелёных ломтиков-планисфер.
* * *
Уважаемый мистер Падуб.
В дому, откуда я пишу, печаль, и мне придётся быть немногословной: у меня на руках беспомощная больная, бедняжка Бланш; совершенно измученная чудовищными головными болями и приступами дурноты, она лежит пластом, не в силах закончить работу, а работа для неё – это жизнь. Сейчас она пишет картину, изображающую Мерлина и Вивиан в миг её торжества – когда она произносит заклинание, от которого волшебник, подпав её чарам, погружается в беспробудный сон. Мы очень надеемся, что картина удастся: всё в ней смутный намёк, повсюду внятность отделки, – но Бланш так расхворалась, что сделалась к работе неспособна. Моё здоровье не лучше, но я приготовляю себе лечебные отвары, прикладываю ко лбу мокрые платки – лечусь как могу.
От прочих домочадцев – служанки Джейн, пса Трея и канарейки Монсинъора Дорато – проку никакого. Джейн сиделка старательная, но неумелая, пёс же Трей только слоняется по дому, а в глазах не сострадание, а укор: что же это никто не погуляет с ним в парке, не пошвыряет, чтобы он приносил, занятные палочки?..
Словом, письмо это будет не длинным.
Мне так отрадно, что Вы пишете о «Мелюзине» как о деле решённом – которое осталось только исполнить.
Я хочу рассказать, как родился этот замысел. – Было это в далёком туманном прошлом, когда я, совсем ещё девочка, жила в доме моего дорогого батюшки – он в ту пору составлял Mythologie Francaise, великий труд, о котором я тогда имела неясные и несообразные представления. Но хотя я и не знала, что такое этот opus magnum [80]80
Главноепроизведение (лат.).
[Закрыть], как в шутку называл его батюшка, зато твёрдо знала, что мой папа умеет рассказывать такие славные истории, каких не расскажет ни один другой папа – ни одна мама – ни одна нянюшка мыслимые и немыслимые. Когда на него находила охота рассказывать, он, бывало, говорил со мною совсем как Кольриджев Старый Мореход [81]81
Заглавный герой поэмы С.Т. Кольриджа «Сказания о Старом Мореходе».
[Закрыть] (мой горячо любимый знакомец с малых лет – благодаря батюшке). А ещё он, бывало, беседовал со мною как с собратом-учёным, подвизающимся на одном с ним поприще, с человеком теоретического ума и обширных сведений – причём беседовал на трёх или четырёх языках, ибо размышлял он на французском, английском, на латыни и, разумеется, на бретонском. (Размышлять на немецком – по причине, о которой я скажу дальше, – он не любил, но умел и, когда понуждали обстоятельства, думал и по-немецки.) Он часто – очень часто – рассказывал мне историю про Мелюзину: по его словам, само существование подлинно французской мифологии весьма сомнительно, однако если она всё же существовала, то повесть о Мелюзине – одна из её вершин, одна из ярчайших звёзд на её небосклоне. Он мечтал сделать для французов то же, что сделали братья Гримм для немцев: изложить пред-историю народа так, как запечатлелась она в преданиях и легендах, выявить наидревнейшую мысль народную, подобно тому, как барон Кювье из нескольких костей, давших ему подсказку о предполагаемой соединительной ткани, при помощи догадливости и силою умозаключений составил облик мегатерия. Но тогда как Германия и Скандинавия – кладезь мифов и легенд, из которых и Вы заимствовали картины для своего «Рагнарёка», у нас, французов, только и есть что рассказы о нечисти, населяющей ту или иную местность, да бытовые истории о проделках деревенских плутов. – Да ещё бретонские – они же британские – сказания о короле Артуре и его рыцарях, и ещё друиды, о которых мой добрый родитель отзывался с таким уважением, и менгиры, и дольмены [82]82
Менгир – вертикально врытый в землю длинный камень (4–5 м. и более), культовый памятник эпохи энеолита и бронзового века. Дольмен – древнее (чаще всего III-II вв. до н.э.) погребальное сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой.
[Закрыть], но ни гномов, ни эльфов – а они есть даже у англичан – мы не знаем. Правда, у нас есть dames blanches, fate bianche [83]83
Буквально – «белые дамы» (франц., итал.).
[Закрыть] – я это перевожу: «беляницы» – к которым, как полагал батюшка, можно некоторым образом причислить и Мелюзину, ибо она появляется как провозвестница смерти.,.
Как жаль, что Вам не довелось познакомиться с моим батюшкой. Вы бы нашли в нём восхитительного собеседника. Не было такого в интересующей его области, чего бы он ни знал, и всё это не мёртвые знания, а живые, яркие, такие важные для нашей повседневности. Лицо его – худощавое, морщинистое, вечно бледное – было всегда печально. Я думала, ему грустно оттого, что у французов нет своей мифологии – так вывела я из его речей. Теперь же мне кажется – это было от неприкаянности: он, которого больше всего на свете занимали хранители домашнего очага, лары, и пенаты, – не имел родного дома.