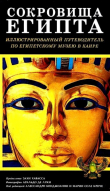Текст книги "Тюремные Тетради (избранное)"
Автор книги: Антонио Грамши
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Примечание 1. Нужно изучить период Реставрации как период выработки всех современных историцистских учений, в том числе и философии практики, которая венчает собой этот период, будучи созданной как раз накануне 1848 года, когда Реставрация рушилась повсеместно, а Священный союз распался на куски. Известно, что Реставрация – это только метафора; никакой подлинной реставрации старого строя на самом деле не произошло, произошла лишь новая расстановка сил, при которой революционные завоевания средних классов были ограничены и узаконены. Король во Франции и папа в Риме сделались вождями соответствующих партий, перестав быть непререкаемыми представителями Франции или христианства. Особенно пошатнулась позиция папы, и именно с тех пор ведет начало образование постоянных группировок «воинствующих католиков», которые, пройдя другие промежуточные этапы – 1848–1849 годы, 1861 год (когда произошел первый распад Папского государства и присоединение провинций Эмилии), 1870 год и послевоенный период, – становятся мощной организацией «Ационе каттолика» («Католическое действие»), – мощной, но выступающей с оборонительных позиций. Историцистские теории Реставрации противопоставляются абстрактно-утопическим идеологиям XVIII века, продолжавшим существовать вплоть до 1870 года в качестве пролетарской философии, этики и политики, особенно во Франции. Философия практики противостоит этим народным концепциям XVIII века как философия масс, противостоит всем их формам, от самых младенческих до концепции Прудона, который претерпел своего рода прививку консервативного историцизма, и его, пожалуй, можно назвать французским Джоберти, но Джоберти народных классов, что обусловлено, как это обнаружилось в 1848 году, отсталостью итальянской истории по сравнению с историей французской. Если историцисты-консерваторы, теоретики старого, сильны в критике утопического характера мумифицированных якобинских идеологий, то философы практики еще сильнее как в оценке исторически реального, а не абстрактного значения якобинства, явившегося созидающим элементом в формировании новой французской нации, то есть фактором, действовавшим в реальных, определенных обстоятельствах, а не идеализированным, так и в оценке исторической задачи самих консерваторов, которые на деле были стыдливыми детьми якобинцев: проклиная их крайности, они в то же время заботливо распоряжались их наследством. Философия практики не только претендовала на объяснение и оправдание всего прошлого, но и на историческое объяснение и оправдание самой себя; другими словами, она явилась высшим «историцизмом», полным освобождением от всякого абстрактного «идеологизма», реальным завоеванием исторического мира, началом новой цивилизации.
Эти модели культурного развития дают точку критического отсчета, которая, чем больше я над этим размышляю, тем более мне кажется всеобъемлющей и важной (из-за ее значения в педагогическом плане). Очевидно, что нельзя понять молекулярный процесс утверждения новой цивилизации, происходящий в современном мире, не поняв исторической связи «Реформация – Возрождение». Поверхностность Лифшица[5]5
Лифшиц – настоящее имя Бориса Суварина.
[Закрыть] во вступительной статье к периодической публикации библиографии Ривьера («Критик сосиаль»). Как мне кажется, Лифшиц мало что понял в марксизме, и его взгляды можно назвать действительно «чиновничьими». Общие места на всем протяжении статьи, высказываемые с высокомерием человека, вполне довольного собой и считающего себя выше критики, воображая, будто бы постоянно говорит лишь поразительные и оригинальные истины. Критика (поверхностная), сделанная с точки зрения интеллигента (так называемого интеллигента). Лифшиц видит в политическом деятеле скорее выдающегося интеллигента в литературном смысле, чем большого политика. Но кто был более выдающимся интеллигентом: Бисмарк или Баррес? Кто «осуществил» большие перемены в мире культуры? Лифшиц ничего не смыслит в подобных вопросах и ничего не смыслит в вопросе, который сам же он неправильно ставит: действительно, речь идет о том, чтобы потрудиться над созданием элиты, но это не должно быть оторвано от работы по воспитанию широких масс, наоборот, эти две деятельности представляют собой на деле одну, и именно в этом и заключается вся сложность проблемы (упомянуть статью Розы о научном развитии марксизма и причинах его остановки); в общем, речь идет о том, что нужны и Реформация и Возрождение одновременно. Для Лифшица эта проблема просто является поводом для нытья; и действительно, не чистое ли это нытье сказать, что все плохо, и критически не указать выхода из этого зла? У «интеллигента», каким считает себя Лифшиц, есть возможность ставить и решать проблему: конкретно работать над созданием тех научных трудов, отсутствие которых он горько оплакивает, а не ограничиваться требованием, чтобы работали другие (кто?). И Лифшиц не может претендовать на то, что его журнал уже является такой работой: он мог бы осуществлять полезную деятельность, если бы был поскромнее, более самокритичным и критически направленным в целом. Журнал является «почвой» для того, чтобы начать работу по решению проблемы культуры, а не самим решением; и еще: он должен иметь четкое направление и, следовательно, предоставлять возможность для коллективного труда группе интеллигентов, – всего этого нет в журнале Лифшица. Рецензировать книги гораздо легче, чем писать их, и тем не менее это полезно; но может ли «специалист по рецензиям», если он не просто нытик, безутешно плакать, потому что «другие» не пишут книг? А если и другие предпочтут писать «рецензии»?
То, что современный процесс молекулярного формирования новой цивилизации может быть сравним с движением Реформации, можно показать путем изучения некоторых частных аспектов этих двух явлений. Историко-культурная проблема, требующая своего разрешения при изучении Реформации, состоит в том, что концепция благодати, которая «логически» должна была бы привести к крайнему фатализму и пассивности, трансформировалась в реальную практику предприимчивости и инициативы в мировом масштабе, явившуюся [тем не менее] ее диалектическим следствием и сформировавшую идеологию зарождавшегося капитализма. А сегодня мы видим, как то же самое происходит с учением исторического материализма; в то время как, согласно многим критикам, из него не может «логически» вытекать ничего, кроме фатализма и пассивности, в действительности он порождает расцвет инициативы и предприимчивости, которые поражают многих наблюдателей (ср. отрывок из «Экономиста» Микеле Фарбма-на). Если бы нужно было сделать исследование по Союзу, то первая глава или даже первый раздел книги должны были бы развить материал, собранный под этой рубрикой: «Реформация и Возрождение». Упомянуть книгу Масарика о Достоевском и его положении о необходимости протестантской Реформации в России и критику Льва Давидовича в «Кампф» («Борьба») за август 1914 года; существенно то, что Масарик в своей книге воспоминаний («Воссоздание государства. Воспоминания и размышления, 1914–1918») именно в той области, в которой Реформация должна была бы действовать, а именно как законодательница нового отношения к жизни, отношения активного, предприимчивого и инициативного, признает позитивный вклад исторического материализма в деятельности группы, которая его воплощает. (По поводу католицизма и протестантизма и их взаимного отношения к теориям благодати и «дел» напомнить, что «дела» в католическом языке имеют мало общего с деятельностью и усердным, трудовым начинанием, – значение этого слова узкое и «корпоративное».)
Спекулятивная имманентность и имманентность историцистская, или реалистическая. Утверждают, что философия практики родилась на почве максимального развития культуры первой половины XIX века, культуры, представленной немецкой классической философией, английской классической политической экономией и французской политической литературой и практикой. Истоками философии практики являются указанные три элемента культуры. Но в каком смысле нужно понимать это утверждение? В том ли смысле, что каждое из этих течений Способствовало разработке соответственно философии, политической экономии и политики философии практики? Или же что философия практики синтетически переработала все эти три течения, иначе говоря, целую культуру эпохи, и что в этом новом синтезе, какой бы из его моментов мы ни стали рассматривать: теоретический, экономический, политический, – мы найдем в качестве подготовительного «момента» каждое из этих трех течений? Именно так это мне представляется. А синтезирующий, объединяющий момент, мне кажется, следует определить как новое понятие имманентности, которое из его спекулятивной формы, предложенной немецкой классической философией, было переведено в историцистскую форму при помощи французской политики и английской классической политической экономии. В связи с отношениями существенного тождества между языком немецкой философии и языком французской политики следует вспомнить предшествующие заметки. Одно же из самых интересных и плодотворных исследований, по-моему, должно быть проделано по поводу отношений между немецкой философией, французской политикой и английской классической политической экономией. В известном смысле, мне кажется, можно сказать, что философия практики равна Гегелю плюс Давид Рикардо. Вопрос вначале надо поставить так: следует ли рассматривать новые методологические каноны, введенные Рикардо в экономическую науку, как чисто прикладные ценности (скажем, как новую главу формальной логики) или же они имели значение философского нововведения? Разве открытие формально-логического принципа «закона-тенденции», который позволяет научно сформулировать основные понятия политической экономии – «homo oeconomicus» и «определенный рынок», не было также и открытием гносеологического характера? Не в нем ли именно заключается новая «имманентность», новая концепция «необходимости» и свободы и т. д.? Этот перевод одного в другое сделала, по-моему, именно философия практики, которая обобщила открытия Рикардо, соответствующим образом распространив их на всю историю и тем самым используя их при создании нового мировоззрения. Предстоит разрешить целый ряд проблем: 1) сжато изложить научно-формальные принципы Рикардо в их форме эмпирических канонов; 2) исследовать историческое происхождение этих рикардовских принципов, которые связаны с возникновением самой экономической науки, с развитием буржуазии как «конкретно мирового» класса и, следовательно, с формированием мирового рынка, на котором сложные движения достигают уже такой «плотности», что стало возможным выделить и изучить необходимые закономерности, иначе говоря, законы-тенденции, которые являются законами не в смысле натуралистическом и спекулятивно-детерминистском, а в смысле «историцистском», поскольку так проявляет себя «определенный рынок» или, другими словами, живая и органически связанная в процессах своего развития среда. (Политэкономия изучает эти законы-тенденции как количественные выражения явлений; при переходе от политической экономии ко всеобщей истории понятие количества дополняется понятием качества и диалектикой количества, превращающегося в качество, количество = необходимости; качество = свободе; диалектика количества – качества тождественна диалектике необходимости – свободы.); 3) поставить Рикардо в связь с Гегелем и Робеспьером; 4) рассмотреть, как философия практики от синтеза этих трех живых течений поднялась до новой концепции имманентности, очищенной от всяких следов трансцендентности и теологии.
1. Следует также углубленно изучить ряд понятий: эмпиризм – историцистский реализм – философское умозрение.
2. Рядом с вышеуказанным исследованием вопроса о вкладе рикардианства в создание философии практики поставить то, что приводится на с. 49 той же тетради и касается отношения философии практики к нынешнему продолжению немецкой классической философии в лице современной итальянской идеалистической философии Кроче и Джентиле. Как нужно понимать фразу Энгельса о наследовании немецкой классической философии? Следует ли понимать ее как уже замкнувшийся исторический круг, в котором поглощение жизнеспособной части гегельянства завершено окончательно, раз и навсегда, или же ее можно понимать как еще происходящий исторический процесс, который снова воспроизводит необходимость культурно-философского синтеза? Мне представляется правильным этот второй ответ: в действительности все еше воспроизводятся взаимно односторонние позиции материализма и идеализма, подвергнутые критике в первом тезисе о Фейербахе, и, как и тогда, хотя и на высшем уровне, необходим синтез на более высокой стадии развития философии практики.
Единство составных элементов марксизма. Единство дано диалектическим развитием противоречий между человеком и материей (природа-материальные производительные силы). В политической экономии объединяющим центром является стоимость, иначе говоря, отношение между работником и промышленными производительными силами (противники теории стоимости впадают в грубый вульгарный материализм, беря машины сами по себе – как постоянный или технический капитал – и рассматривая их как производителей стоимости вне связи с человеком, управляющим ими). В философии – практика, то есть отношение между человеческой волей (надстройкой) и экономическим базисом. В политике – отношение между государством и гражданским обществом, то есть вмешательство государства (централизованной воли) с целью воспитания воспитателя, социальной среды вообще. (Это все углубить и изложить терминологически более точно.)
Философия-политика-экономика.
Если эти три рода деятельности являются необходимыми составными элементами одного и того же мировоззрения, в их теоретических принципах по необходимости должна содержаться способность превращения одного в другой, взаимопереводимость на собственный специфический язык каждого из составных элементов: один содержится в другом, а все вместе образуют однородный круг (см. предшествующие заметки о взаимопереводимости научных языков). Из этих предпосылок (которые должны быть еще разработаны) для историка культуры и идей вытекают некоторые критерии исследования и критические каноны большой важности. Может случиться, что крупный деятель выражает свою мысль более плодотворно не в том жанре, который, по видимости, должен казаться самым «логичным» с точки зрения внешней классификации, а в иной области, которая, по видимости, может быть расценена как не относящаяся к делу. Политик пишет о философии, но может статься, что его «подлинную» философию следует искать как раз в его политических работах. У всякого деятеля есть основной и преобладающий род деятельности; именно в этом последнем следует искать его мысль, содержащуюся чаще всего в скрытой форме, а иногда и в противоречии с мыслью, высказанной ex professo. Конечно, в таком подходе заключена немалая опасность дилетантства, и в его применении нужно быть очень осторожным, однако это не мешает ему быть плодотворным при поисках истины.
Действительно, такому случайному «философу» труднее абстрагироваться от течений, господствующих в его время, от ставших догматическими толкований определенного мировоззрения и т. д.; напротив, как ученый-политик он чувствует себя независимым от этих идолов времени или группы и воспринимает то же самое мировоззрение более непосредственно и во всем его своеобразии; он проникает в самую его сердцевину и развивает его существенным образом. В связи с этим остается полезной и плодотворной выраженная Люксембург мысль о том, что пока еще невозможно браться за разрешение некоторых вопросов философии практики, поскольку течение всеобщей истории или истории данной социальной группировки еще не сделало их актуальными. Экономико-корпоративной фазе, фазе борьбы за гегемонию в гражданском обществе, государственной фазе соответствуют определенные формы интеллектуальной деятельности, которые нельзя произвольно сочинять или предвосхищать. В фазе борьбы за гегемонию развивается наука о политике; в государственной фазе должны развиваться все надстройки, иначе государству грозит распад.
Историчность философии практики. То, что философия практики рассматривает себя самое исторически, то есть как преходящую стадию развития философской мысли, не только видно из всего духа этой философской системы, но и содержится открыто в известном положении, что в определенный момент историческое развитие будет ознаменовано переходом из царства необходимости в царство свободы. Все философии (философские системы), существовавшие до сих пор, были выражением внутренних противоречий, раздиравших общество. Но ни одна из философских систем, взятая сама по себе, не была сознательным выражением этих противоречий, ибо такое выражение могла дать лишь совокупность всех систем, борющихся между собой. Каждый философ убежден и не может не быть убежденным, что он выражает единство человеческого духа, то есть единство истории и природы; в самом деле, если бы этого убеждения не существовало, люди не действовали бы, не творили бы новую историю, философии не могли бы становиться «идеологиями», не могли бы на практике приобретать гранитную фанатическую крепость «народных верований», обладающих энергией «материальных сил».
Гегель занимает в истории философской мысли особое место, ибо его система, так или иначе, пусть даже в форме «философского романа», дает возможность постичь, что такое действительность; ведь здесь в одной системе и в одном философе заключено то осознание противоречий, которое прежде вытекало лишь из совокупности систем, из совокупности философов, полемизирующих между собой и противоречащих друг другу.
Следовательно, в известном смысле философия практики является реформой и развитием гегельянства, является философией, освобожденной (или старающейся освободиться) от каких бы то ни было элементов идеологической односторонности и фанатизма, будучи полным осознанием противоречий, при котором сам философ, понимаемый как индивид или как целая социальная группа, не только постигает противоречия, но и полагает самого себя как элемент противоречия и возводит этот элемент в принцип познания, а следовательно, действия. При этом отрицается «человек вообще», как бы он ни преподносился, высмеиваются и разрушаются понятия, основанные на догматическом понимании «единства», поскольку они также выражают понятие «человека вообще» или «человеческой природы», внутренне присущей каждому человеку.
Но если философия практики также является выражением исторических противоречий, более того – выражением сознательным и потому наиболее совершенным, это означает, что и она тоже связана с «необходимостью», а не со «свободой», которая не существует и исторически еще не может существовать. Стало быть, если доказывается, что противоречия исчезнут, тем самым доказывается, что исчезнет, то есть будет преодолена, также и философия практики: в царстве «свободы» мысль, идея не смогут больше рождаться на почве противоречий и необходимости борьбы. В настоящий момент философ (практики) может высказать лишь это общее утверждение, не больше: в самом деле, он не может сойти с нынешней почвы противоречий, не может, не впадая сразу же в утопию, говорить иначе, как в общих чертах о мире, лишенном противоречий.
Это не означает, что утопия не может обладать философской ценностью; ведь она имеет политическую ценность, а во всякой политике кроется философия, пусть даже нестройная и как бы в наброске. В этом смысле религия – это самая гигантская утопия, то есть самая гигантская из появлявшихся в истории «метафизик», ибо она представляет собой грандиознейшую попытку примирить в мифологической форме реальные противоречия исторической жизни: в самом деле, она утверждает, что все люди обладают одной и той же «природой», что существует человек вообще, как созданный богом, как сын бога и потому брат и равный всем остальным людям, свободный среди других и подобно другим людям, что таковым он может считать себя, смотрясь в зеркало бога, этого «самосознания» человечества; но она утверждает также, что все это не в этом мире и не для этого мира, а для иного (утопического) мира. Так идеи равенства, братства, свободы бродят в людях, в тех слоях людей, которые не видят себя ни равными, ни братьями другим людям, ни свободными по сравнению с другими. Так при всяком волнении глубинных слоев масс выдвигались, тем или иным образом, в определенных формах и в виде определенных идеологий именно эти требования.
В этом месте на память приходит примечание, сделанное Виличи к апрельской программе 1917 года, в параграфе, посвященном единой школе, а точнее, в пояснительном добавлении к этому параграфу (цитировано по женевскому изданию 1918 года), где он вспоминает, что химик и педагог Лавуазье, гильотинированный в период якобинского террора, выдвигал как раз идею единой школы и делал это в прямой связи с чувствами, которые владели в его времена народом, видевшим в демократическом движении 1789 года развивающуюся действительность, а не только известную идеологию – орудие господства определенного класса, и делавшим конкретные выводы насчет равенства. В случае с Лавуазье мы имеем дело с элементом утопическим (элементом, который в большей или меньшей мере проявился во всех культурнических течениях, исходивших из «единого начала» человеческой «природы»); однако для Виличи он имел теоретически доказуемое значение политического принципа.
Если философия практики теоретически утверждает, что всякая «истина», считающаяся вечной и абсолютной, имела практическое происхождение и представляла «временную» ценность (в силу историчности всякого мировоззрения), то очень трудно заставить «практически» постигнуть, что такое толкование справедливо также и для самой философии практики, не сокрушая при этом убеждений, без которых невозможно действие. С другой стороны, это та трудность, с которой сталкивается любая историцистская философия; за нее цепляются дешевые полемисты (в особенности католики) для того, чтобы в одном и том же индивиде противопоставить «ученого» «демагогу», философа – человеку действия и т. д. и сделать вывод о том, что историцизм с необходимостью приводит к моральному скептицизму и разврату. Эта трудность порождает множество «драм» в сознании маленьких людей, а великих заставляет рядиться в «олимпийскую» тогу а ля Вольфганг Гёте.
Вот почему положение о переходе из царства необходимости в царство свободы нужно анализировать и разрабатывать с большой тонкостью и тщательностью.
Поэтому получается так, что и сама философия практики имеет тенденцию стать идеологией в худшем смысле слова, то есть сделаться догматической системой абсолютных и вечных истин, в особенности когда ее смешивают, как это делается в «Популярном очерке», с вульгарным материализмом, с метафизикой «материи», которая не может не быть вечной и абсолютной.
Следует также отметить, что переход от необходимости к свободе происходит в отношении человеческого общества, но не природы (хотя он и сможет оказать воздействие на восприятие природы, на научные взгляды и т. д.).
Можно даже прийти к утверждению, что в то время как вся система философии практики в новом едином мире может оказаться устарелой, многие идеалистические концепции или по крайней мере некоторые аспекты их, являющиеся утопическими в царстве необходимости, смогут стать «истиной» после этого перехода и т. д. Нельзя говорить о «Духе», когда общество делится на ряд групп, без необходимого уточнения, что речь идет… о корпоративном духе (в скрытом виде это признается, когда вслед за Шопенгауэром говорят, как Джентиле в своей книге «Модернизм», что религия – это философия толпы, а философия – это религия избранных людей, то есть крупных представителей интеллигенции); о «Духе» можно будет говорить лишь тогда, когда общество станет «объединенным» и т. д.
Субъективное понимание действительности и философия практики. Философия практики «впитывает» субъективное понимание действительности (идеализм) в теорию надстроек, впитывает и объясняет его исторически; то есть «преодолевает» его, превращает в свою «составную часть». Теория надстроек есть перевод на язык реалистического историцизма субъективного понимания действительности.
Базис и надстройка. Экономика и идеология. Требование (изображаемое как основной постулат исторического материализма) представлять и истолковывать любое колебание в сфере политики и идеологии как непосредственное выражение базиса следует подвергнуть критике в теоретическом плане как проявление примитивного инфантилизма, а в качестве практического аргумента противопоставить ему деятельность самого Маркса, как автора трудов по конкретным политическим и историческим вопросам. С этой точки зрения особенно важны «Восемнадцатое брюмера» и статьи о «Восточном вопросе», но также и другие работы («Революция и контрреволюция в Германии», «Гражданская война во Франции» и более мелкие). Анализ этих произведений позволяет лучше понять суть марксистской исторической методологии, поскольку при этом дополняются, освещаются и истолковываются теоретические положения, рассеянные по всем трудам Маркса. Из них можно увидеть, сколько прямых оговорок на этот счет делает Маркс в своих конкретных исследованиях, – оговорок, которые не могли быть высказаны в трудах общего характера (им было бы место лишь в систематическом изложении метода, вроде пособия Бернхейма, книга Бернхейма может быть принята за «образец» для школьного учебника или «популярного очерка» исторического материализма, в котором не только должен быть раскрыт метод филологии и эрудиции, – а Бернхейм ставит своей целью именно это, хотя в его изложении заключено в скрытом виде определенное мировоззрение, – но и должна быть прямо изложена марксистская концепция истории). Среди этих оговорок можно назвать в качестве примера следующие:
1. Трудно в каждый данный момент дать статическое изображение (наподобие моментального фотоснимка) состояния базиса; политика фактически в каждый данный момент является отражением тенденций развития базиса, тенденций, которые не обязательно должны осуществиться. Определенный этап эволюции базиса может быть конкретно изучен и проанализирован лишь после того, как он пройдет весь процесс своего развития, а не в ходе этого процесса – разве что в порядке гипотезы и притом прямо оговаривая это.
2. Из первого пункта следует, что тот или иной политический акт может оказаться следствием ошибки в расчетах руководителей господствующих классов, ошибки, которая исправляется и преодолевается историческим развитием через правительственные парламентские «кризисы» руководящих классов; механистический же исторический материализм не принимает во внимание возможности ошибки, рассматривая каждый политический акт как непосредственно обусловленный базисом, то есть как отражение реального и устойчивого (в смысле состоявшегося) изменения базиса. Истоки «ошибки» различны: речь может идти об индивидуальном побуждении, возникшем из неверного расчета, или о проявлении попыток определенных групп или группочек добиться гегемонии внутри руководящей группировки, попыток, которые могут потерпеть неудачу.
3. Не учитывается в достаточной мере, что многие политические акты вызваны внутренними потребностями организационного характера, то есть связаны с необходимостью придать сплоченность той или иной партии, группе, обществу. Это ясно видно, например, из истории католической церкви. Тот, кто захотел бы найти непосредственное, ближайшее объяснение любому идеологическому столкновению внутри церкви в изменениях базиса, сел бы в лужу: немало политико-экономической фантастики было написано именно по этой причине. Зато очевидно, что большая часть подобных споров связана с потребностями обособления, с организационными потребностями. Было бы смешно, рассматривая спор между Римом и Византией о происхождении Святого духа, возводить к базису Восточной Европы утверждение, что Святой дух происходит лишь от отца, а к базису Западной Европы – утверждение, что он происходит и от отца и от сына. Обе церкви, чье существование и конфликт находятся в зависимости от базиса и от всей истории, поставили вопросы, являвшиеся для каждой из них средством отделить себя от другой и сплотить своих собственных сторонников; но могло случиться так, что каждая из двух церквей стала бы утверждать то, что в действительности утверждала другая; основа для разделения и конфликта все равно сохранилась бы, а ведь историческую проблему составляют именно это разделение и конфликт, а не случайное знамя каждой из сторон.
Тот, кто за подписью в виде «звездочки» печатает идеологические романы с продолжением в журнале «Проблеми дель лаворо» (а это, вероятно, пресловутый Франц Вайс), в своем занимательном опусе под названием «Русский демпинг и его историческое значение», говоря как раз об этих полемических столкновениях раннехристианских времен, утверждает, что они связаны с непосредственными материальными условиями эпохи и что если нам не удается выявить эту непосредственную связь, то лишь из-за того, что указанные события от нас далеки, или из-за каких-то наших духовных слабостей. Такая позиция удобна, но научно несостоятельна. В самом деле, любая реальная историческая фаза оставляет свой след в позднейших фазах, которые в определенном смысле становятся лучшим свидетельством о ней. Процесс исторического развития един во времени, вследствие чего настоящее содержит в себе все прошлое, а из прошлого в настоящем реализуется то, что «существенно», – без какого-либо остатка «непознаваемого», которое якобы и есть истинная «сущность». То, что было «утрачено», то есть не перешло диалектически в исторический процесс, было само по себе незначительно, представляло собой случайный «шлак», принадлежало хронике, а не истории, осталось поверхностным эпизодом, которым в конечном счете можно пренебречь.
Наука о морали и исторический материализм. Научную основу морали исторического материализма, мне кажется, следует искать в утверждении, что «общество никогда не ставит себе задач, для разрешения которых еще не созрели условия». При наличии условий разрешение задач становится «долгом», «воля» становится свободной. Мораль должна была бы представлять собой поиск условий, необходимых для осуществления свободы воли в определенном смысле, по направлению к определенной цели, и одновременно доказательство, что эти условия существуют. Следовало бы также говорить не об иерархии целей, а о последовательности целей, которых необходимо достигнуть, имея в виду, что мы хотим «морализовать» не только каждого индивида, взятого в отдельности, но и все общество индивидов.